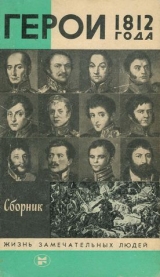
Текст книги "Герои 1812 года"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Соавторы: Владимир Левченко,Валерий Дуров,Владимир Тикыч,Вячеслав Корда,Лидия Ивченко,Борис Костин,Борис Чубар,Александр Валькович,Виктор Кречетов,Марина Кретова
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц)
Но важнее всего было убедить в правильности решения и подчиненных. Развернув корпус в обратном направлении, Раевский предпринял ночное форсирование Днепра, оставив на берегу лишь артиллерию. В буквальном смысле слова не слезая с коня, он объезжает всех офицеров лично и объясняет им сложность предстоящих событий.
«Ночью, на бегу, – писал о Раевском его будущий родственник, полковник М. Ф. Орлов, – внушая каждому из подчиненных предугаданную им важность поручения, он достигает берегов Днепра. Переправа через реку, взятая на личную его ответственность, занятие на рассвете Смоленска и обширных его предместий против неприятеля, в десять раз его сильнейшего, доказывает, что он решился здесь умереть или оградить наши сообщения».
Итак, утром 3 августа корпус Раевского подошел к Смоленску. В это время в городе находился не кто иной, как генерал от кавалерии Л. Л. Беннигсен – человек, старший по званию. Для Раевского было крайне важно посоветоваться с опытным полководцем.
Но лучше бы он не советовался с ним вовсе…
– Я весьма сожалею о вас, – проговорил Беннигсен, подкрепляя свои «чувства сожаления» покачиванием головы. – Положение ваше весьма критическое.
– А что с Неверовским?
– Разве вы не слышали? Уже все говорят о том, что его отряд полностью разгромлен и более не существует… Оборона безнадежна. Советую вам спасти хотя бы артиллерию и не переправлять ее на эту сторону Днепра…
«Совет» барона можно было вполне принять за «приказ». Последовав ему, Раевский снял бы с себя ответственность за предстоящее. Но генерал помнил прежние баталии. Еще живы были в памяти картины грандиозной битвы с французами под Фридландом в 1807 году, когда командовавший союзными войсками Беннигсен позорно проиграл сражение. Тогда героизм русских солдат, стойкость подчиненной Беннигсену бригады Раевского могли спасти положение. А что же сейчас?!. Снова Фридланд?!
«Сей совет, – писал позднее Раевский, – несообразен был с тогдашним моим действительно безнадежным положением. Надобно было пользоваться всеми средствами, находившимися в моей власти, и я слишком чувствовал, что дело идет не о сохранении нескольких орудий, но о спасении главных сил России, а может быть, и самой России. Я вполне чувствовал, что долг мой – скорее погибнуть со всем моим отрядом, нежели позволить неприятелю отрезать армии наши от всяких сообщений с Москвою».
Какова же была радость устраивавших оборону Смоленска солдат, когда после полудня 3 августа на горизонте показались отступавшие остатки 27-й пехотной дивизии Неверовского. «Я помню, – отмечал участвовавший в битве под Смоленском Денис Давыдов, – какими глазами мы увидели Неверовского и дивизию его, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести! Каждый штык его горел лучом бессмертия».
Раевский был рад вдвойне. Он чувствовал теперь, что остался не один в эту трудную минуту. И в самом деле, генерал Неверовский поддержал его решение оборонять Смоленск до конца.
Можно ли предположить то отчаяние, которое могло овладеть теми, кто остался в городе? У противника более чем 10-кратное превосходство в орудиях и живой силе, в бой постоянно вводятся свежие войска. Пойманный французский офицер, назвавшийся адъютантом Мюрата, убеждал всех в том, что в подзорную трубу можно увидеть среди его соотечественников самого императора. Надежды же на подкрепление для 15-тысячного гарнизона – никакой! Ведь обе армии уходят прочь от Смоленска. Связи с ними нет, как нет и ни одного распоряжения от командования…
Раевский отправил к Багратиону своих адъютантов, приказав доложить обстановку и просить о помощи. Но когда придет эта помощь?! Через сутки, двое? Может, уже будет поздно…
А пока начались приготовления к отражению неприятеля.
В первую очередь нужно было разместить войска. Задача не из легких. В ночь с 3 на 4 августа по инициативе Раевского был созван военный совет для обсуждения возможных вариантов обороны.
А таковых было немного. Самый простой – закрепиться в городе и держаться под прикрытием стен. Но тогда противнику предоставлялась возможность овладеть предместьями и, максимально приблизившись к городу, преодолеть стену. К тому же многочисленная артиллерия французов способна была массированным ударом с близкого расстояния нанести существенный урон находящемуся внутри крепости русскому гарнизону.
Можно было выйти из города и дать бой на подступах к крепости. Но для этого сил было явно недостаточно.
Военный совет, прислушавшись к плану Раевского, решил, что необходимо основные силы все-таки сосредоточить внутри города, а также создать прочную цепь обороны перед стенами…
До рассвета оставалось немного времени. А еще нужно было успеть разместить подразделения. Противник был рядом, костры его освещали окрестные поля вплоть до горизонта.
Раевский отправился в войска. Сначала распределили пехотные дивизии. Одна из них – 26-я, та самая, которой командовал отличившийся в сражении при Салтановке генерал Паскевич, – заняла самый ответственный участок обороны – центральный Королевский бастион. Немногочисленную артиллерию разместили в большинстве на окружавших стены земляных бастионах, а также на самых опасных участках. Это выгодное расположение пушек позднее сыграло решающую роль в самом начале штурма. Русские артиллеристы могли прямой наводкой расстреливать приближающихся французских пехотинцев.
Сомкнуть глаз Раевскому так и не удалось. Едва рассвело, как стало заметно интенсивное движение неприятеля. Никакой речи о передышке и не могло быть.
В начале седьмого часа утра раздался первый залп французской артиллерии. Под прикрытием артиллерийского огня в бой двинулись кавалеристы Мюрата. Благодаря превосходству в численности французские всадники заставили отступить выдвинутую вперед русскую кавалерию и отрезали ее от Смоленска. То был пусть мимолетный, но первый успех наступавших.
Немного погодя с запада двинулась пехота. Руководил штурмом маршал Ней. Здесь, под Смоленском, он впервые за эту войну столкнется с Раевским. Затем им доведется испробовать свои силы на полях сражений Отечественной войны. Но не знал наполеоновский ветеран, что именно от Раевского суждено будет найти ему свое полное поражение. Это произойдет позднее, в битве под Красным, при наступлении русских войск. А ныне перед Нсем виднелись окутанные пороховым дымом смоленские стены. Желанные стены, желанная победа. Но какой ценой она дастся?..
Ни один из французских маршалов не постоял бы за ценой. Ведь 15 августа отмечал свой день рождения сам император. Каждый из них мечтал преподнести Наполеону дорогой подарок первым. А что могло быть дороже в тот день, чем Смоленск?!
Тремя большими колоннами двинулся корпус Нея к крепости. Каждая из колонн превосходила по численности всех оборонявшихся. Испытанные в боях французские гренадеры шли, невзирая на град пуль, обрушившихся на них.
Маршал Ней командовал средней колонной. Он вел ее прямо в центр, на Королевский бастион. Предчувствия Раевского подтвердились. Именно сюда французы направили свой главный удар.
Одновременно, словно по незримому сигналу, бросились все три колонны на штурм. И тут вступила в бой русская артиллерия. Из едва заметных земляных укреплений пушкари расстреливали приближающегося неприятеля с флангов, в лоб. От неожиданности левая колонна французов, шедшая вдоль Днепра, приостановилась. На правом фланге, у кладбища, также произошло замешательство. Лишь в центре, где находился сам Ней, завязался жестокий бой.
Пройдя сквозь артиллерийский заслон, пехотинцы вступили в рукопашную схватку перед бастионом. Малочисленный русский батальон, разместившийся у стен, был тотчас истреблен. Почти не останавливаясь, французы ворвались на Королевский бастион.
В штаб Раевского пришло срочное известие: неприятель занял центр позиции. Едва успев оценить ситуацию, Раевский получает еще одно донесение: на левом фланге прорвана оборона, французы заняли мост через Днепр. В самом начале сражения – и уже неудачи. «Оставляю читателю судить, – напишет в своих заметках генерал много лет спустя, – какое действие произвели во мне сии два известия, почти вместе одно с другим привезенные!»
Положение было критическим. Раевский, отдав распоряжение держаться в центре до последнего, вскочил на коня, помчался на левый фланг. И застал… все на своих местах. Оказалось, что за это время французы были отброшены.
Генерал бросился к бастиону.
А в это время обрадовавшийся успеху маршал Ней уже отдал приказ водрузить на бастионе трехцветное французское знамя.
Но вдруг громкое «ура!» прогремело рядом, и на укрепление ворвались русские пехотинцы. Одним из батальонов Орловского полка, оказавшимся рядом, командовал сам генерал Паскевич. Французы, не ожидавшие контрудара, снова ретировались.
И все-таки Бонапарт недаром говорил о маршале Нее: «Это – лев». Остановиться он уже не мог. Ведь победа была столь близка. Еще один одновременный удар справа и в центр потряс оборону смоленцев. Пехотинцы Нея штыковой атакой оттеснили орловцев к крепостному рву.
В это время Паскевич, объединив остатки Ладожского, Нижегородского и Орловского полков, повел своих солдат в решительную контратаку и вновь отбросил неприятеля.
Когда к бастиону прибыл Раевский, здесь уже все было восстановлено, словно и не было жестокой схватки.
Почти три часа длился этот бой. Обе стороны понесли тяжелые потери. Но французы не продвинулись ни на шаг.
К 9 часам утра к Смоленску прибыл сам Наполеон. Ему доложили, что русские дерутся насмерть и ни одна попытка прорвать оборону не имела успеха. Французский император не усомнился в храбрости и упорстве Нея, он лишь еще раз убедился в стойкости и храбрости противника.
В короткое время выстроив в ряд свою артиллерию, французы открыли разрушительный огонь по крепости. Обстрел длился беспрерывно несколько часов. В городе были сильные разрушения, начались пожары.
Раевский понимал, что всему гарнизону суждено погибнуть, если в ближайшие часы не прибудет подкрепление.
Но еще в самом начале обстрела кто-то из офицеров крикнул:
– Ваше превосходительство, адъютант от его сиятельства князя Багратиона!
– Где он?!
На взмыленной лошади к генералу подъехал адъютант, прорвавшийся в горящий город. Он держал в протянутой руке маленький клочок бумаги.
Раевский резким движением развернул его. Почерк князя он узнал сразу.
«Друг мой! Я не иду, я бегу, – писал Багратион. – Хотел бы иметь крылья, чтобы поскорее соединиться с тобой. Держись! Бог тебе помощник!»
То была первая весточка от командования за эти дни. Как она была нужна именно сейчас, в трудную минуту! Значит, обе армии идут сюда, к Смоленску. Значит, усилия были не напрасны. Значит, все было сделано правильно…
Об этой ночи и этом дне позже писали много. По-разному. Но сходились все в одном – налицо была явная неудача французов и поразительная стойкость русских войск.
Писали, к примеру, следующее:
Наполеон (из мемуаров, продиктованных на острове Св. Елены):
«Пятнадцатитысячному русскому отряду, случайно находившемуся в Смоленске, выпала честь защищать сей город в продолжение суток, что дало Барклаю-де-Толли время прибыть на следующий день. Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то она переправилась бы там через Днепр и атаковала бы в тыл русскую армию, в то время разделенную и шедшую в беспорядке. Сего решительного удара совершить не удалось» (это место мемуаров французского императора прокомментировано самим Раевским следующим образом: «Сей отряд русской армии был мой корпус, соединенный с остатками отряда Неверовского»).
П. И. Багратион (из письма Ф. В. Ростопчину 14 августа 1812 года):
«Я обязан многим генералу Раевскому, он, командуя корпусом, дрался храбро…»
(Из рапорта Александру I о сражении под Смоленском и других донесений):
«Я… отрядил с 7-м корпусом генерал-лейтенанта Раевского, приказав ему всевозможно стараться во что бы то ни стало соединиться с генерал-майором Неверовским. Раевский, удвоив марш и прошед без привалу 40 верст, соединился на рассвете 4-го числа в виду многочисленной армии, предводительствуемой самим французским императором, в 6-ти верстах от Смоленска, и хотя неприятель, узнав о следовании к Смоленску вверенной мне армии, употребил все усилия, дабы до прибытия прочих войск истребить малый отряд, защищающий Смоленск, но храбрые русские воины с помощью божиею, при всей своей от продолжительного марша усталости, отражали мужественно неприятеля…
Поистине скажу, что герои наши в деле под Смоленском оказали такую храбрость и готовность к поражению неприятеля, что едва ли были подобные примеры».
М. Ф. Орлов (из записок):
«Горсть храбрых под начальством Героя уничтожила решительное покушение целой армии Наполеона».
Денис Давыдов (из замечаний на «Некрологию генерала Н. Н. Раевского»):
«…Гибель Раевского причинила бы взятие Смоленска и немедленно после сего истребление наших армий…» Д. Давыдов отмечал громадное значение «сего великого дня, без коего не было бы ни Бородинского сражения, ни Тарутинской позиции, ни спасения России».
Н. Н. Раевский:
«…Я приписываю успех сего сражения… храбрости войск моих…
Я сражался с твердым намерением погибнуть на сем посту чести – быть может, и славы; и когда я взвешиваю, с одной стороны, важность последствий сего дела, а с другой – малость потери, мною понесенной, то ясно вижу, что успех зависел не столько от воинских моих соображений, как от слабости натисков Наполеона, который вопреки всегдашним своим правилам, видя решительный пункт, не умел им воспользоваться…
Это, могу сказать, была благополучнейшая минута всего военного моего поприща… одно из важнейших происшествий моей жизни».
К вечеру 4 августа в Смоленск вошли первые полки успевших на подмогу армий. Ночью поредевший отряд Раевского заменили корпус генерала Д. С. Дохтурова и дивизия П. П. Коновницына. Оборона продолжалась. Лишь через сутки горящий Смоленск был оставлен.
Героизм солдат, предводительствуемых Н. Н. Раевским, позволил окончательно соединиться обеим русским армиям и организованно отойти. Значение и серьезность битвы у стен древнего города очевидны. Они показали нам «истинное лицо» полководца Раевского.
Над Бородинским полем, в самом центре его, господствовала высота, называемая Курганной. Когда перед самым большим сражением Отечественной войны 1812 года русские армии занимали свои позиции, Курганная высота оказалась на стыке двух армий. Именно здесь в день Бородинской битвы развернулись события, ставшие эпицентром всего сражения.
Левое крыло русской позиции защищала 2-я армия генерала Багратиона. Правее деревни Семеновской – на правом фланге армии – расположился 7-й пехотный корпус Раевского. Чувствуя важнейшую, ключевую роль, которую может сыграть в сражении столь удобная высота, генерал решил укрепить ее особо. «Видя по положению места, что неприятель поведет атаку на фланг наш и что сия моя батарея будет ключом всей позиции, укрепил я оный Курган редутом», – писал позднее в рапорте Раевский.
На высоте были установлены 18 артиллерийских орудий. Вокруг них насыпали бруствер высотой до двух с половиной метров, прорыли ров почти двух метров глубиной, а впереди на расстоянии ста саженей нарыли мелких ловушек, так называемых «волчьих ям».
Так была создана знаменитая «батарея Раевского». Создана быстро, всего за одну ночь. Пушки были поставлены на редкость удачно. Сектор обстрела был настолько широк, что позволял поражать противника по всему фронту, вплоть до Багратионовых флешей.
В ночь перед боем никто не спал. Не до сна. Генерал Багратион отдал приказ – костров не жечь, но разводить огонь в оврагах и кашу варить, а есть ее всем перед сном и утром перед баталией.
К утру 26 августа все работы были закончены.
В 6 часов главные силы наполеоновской армии двинулись на левый фланг русской позиции. Завязалась ожесточения битва у Багратионовых флешей.
Почти сразу же к Раевскому прибыл адъютант Багратиона с приказом отправить восемь батальонов из его корпуса на помощь защитникам флешей. Генерал тот час же распорядился выслать указанные батальоны.
Никто не предполагал, что и здесь, на Курганной высоте, будет ничуть не легче, чем там, куда Раевский отправил почти половину своих сил.
Еще не было десяти часов утра, как началась первая атака на батарею. Две пехотные дивизии Брусье и Морана двинулись на штурм высоты.
Их встретили егеря и артиллерия. Ружейный залп чуть задержал наступавших.
По кургану ударила вся сконцентрированная на этом участке французская артиллерия. Вслед за этим плотными колоннами двинулась пехота.
Передней бригадой командовал генерал Бонами. Он вел себя смело и решительно. Размахивая шпагой, он был впереди, увлекал за собой своих солдат. «Неприятель устроил в глазах наших всю свою армию, так сказать, в одну колонну, – писал Раевский, – шел прямо на фрунт наш; подойдя же к оному, сильные колонны отделились с левого его фланга, пошли прямо на редут, и, несмотря на сильный картечный огонь моих орудий, без выстрела головы оных перелезли через бруствер».
К несчастью, именно в этот момент на батарее стала ощущаться нехватка боеприпасов. Воспользовавшись замешательством, 30-й линейный полк во главе с Бонами устремился на курган. Наши пушкари дрались банниками, тесаками, просто руками – чем попало. Французы завалили своими убитыми солдатами ров и по трупам ворвались на батарею. В рукопашной схватке были истреблены почти все защитники редута. Неприятель начал закрепляться на высоте. Казалось, долгожданная победа на этом участке была уже достигнута.
Но это только казалось…
В это время генерал Раевский находился в редуте, откуда руководил боем. Незадолго до Бородинского сражения он повредил ногу, и столь серьезно, что, как он сам говорил, «едва только в день битвы мог быть верхом».
Конечно же, ранение, тем более полученное не в бою, не могло стать для боевого генерала поводом для того, чтобы не участвовать в сражении. И он ни на секунду не отвлекся на свою рану, продолжая отдавать приказы.
Почувствовав критическое положение, Раевский еще ранее распорядился начать атаку на Курганную высоту с флангов. С правого крыла в штыковую атаку ринулись полки под командованием генерала Паскевича, слева – Васильчикова.
В этот самый момент, едва Раевский отдал приказ об атаке, он чуть было не попал в плен или, быть может, не поплатился жизнью. Вот что писал об этом сам генерал: «После вторых выстрелов я услышал голос одного офицера, находившегося при мне на ординарцах и стоявшего от меня недалеко влево; он кричал: „Ваше превосходительство, спасайтесь!“ Я оборотился и увидел шагах в пятнадцати от меня французских гренадеров, кои со штыками вперед вбегали в мой редут. С трудом пробрался я к левому моему крылу, стоявшему в овраге, где вскочил на лошадь и, взъехав на противоположные высоты, увидел, как генералы Васильчиков и Паскевич, вследствие данных мною повелений, устремились на неприятеля в одно время».
Одновременно с этим в расположении Курганной высоты почти случайно оказался генерал А. П. Ермолов, которому было поручено осмотреть состояние артиллерии левого фланга. Он появился именно в тот момент, когда атака Паскевича и Васильчикова с флангов только начиналась, а французы еще не успели закрепиться на занятой ими батарее. «Высота сия, повелевавшая всем пространством, на коем устроены были обе армии, – рассказывал позже сам Ермолов, – 18 орудий, доставшихся неприятелю, были слишком важным обстоятельством, чтобы не испытать возвратить сделанную потерю. Я предпринял оное. Нужна была дерзость, и, мое щастие и я успел».
Возглавив атаку на неприятеля в лоб 3-го батальона Уфимского пехотного полка, Ермолов и находившийся тут же генерал Кутайсов в числе первых ворвались на батарею Раевского. Их поддержали егерские полки Вуича, посланные ранее для подкрепления.
Контрнаступление русских солдат было столь решительно, что французы не устояли, бросились в бегство. Во время преследования отступавших французских полков фельдфебель Золотов взял в плен самого генерала Бонами.
Но и со стороны защитников батареи потери были немалые. Погиб при штурме генерал Кутайсов. Генерал Ермолов получил ранение в шею. Практически вся орудийная прислуга и артиллерийские офицеры были перебиты.
Основная тяжесть первых атак французов на Курганную высоту пала на 7-й корпус генерала Раевского. Он не без горечи отмечал, что «убитыми и ранеными приведен был в совершенное ничтожество». Цифры говорили сами за себя: «Корпус мой так был рассеян, что даже по окончании битвы я едва мог собрать 700 человек. На другой день я имел также не более 1500».
Около полудня 26 августа 7-й корпус Раевского перестал существовать. Теперь Курганную высоту, или иначе «батарею Раевского», обороняли части 24-й пехотной дивизии генерала П. Г. Лихачева. Еще многие атаки придется пережить подоспевшей смене. Французы будут называть впоследствии защитников батареи «стальной массой, сверкавшей пламенем», а саму высоту – «редутом смерти». Им вновь удастся занять Курган, но к вечеру французские войска снова отступят на свои позиции.
Генерал Раевский объективно и со свойственной ему справедливостью оценивал действия своих подчиненных. Вот что он писал в своем рапорте: «Описывать деяния всякого генерала, штаб– и обер-офицера я не в силах, а отличная их храбрость доказана тем, что почти все истреблены на месте. Испрашиваю вашего высокопревосходительства всепокорнейше штаб– и обер-офицерам награждения, к коему их представить честь имею. Награда же трем генералам – Васильчикову, Ермолову и Паскевичу, как корпусному командиру не дается власть представлять к повышению чина, испрашиваю ваше превосходительство о исполнении оного. Вам самим известно, что не было случая, где бы они не показали отличной храбрости, усердия и военных талантов».
Подобную же характеристику можно было бы дать и самому Н. Н. Раевскому. Он еще будет участвовать в долгих походах, преследуя отступающие наполеоновские отряды, в жестоких битвах, одерживая славные победы. В одном из писем он напишет: «Наполеон сделал набег на Россию, не разочтя способов, потерял свою славу, бежит, как заяц… Дороги устланы мертвыми людьми и лошадьми его. Идет день и ночь при свете пожаров, ибо он жжет все, что встречает на ходу своем… Неприятель бежит. Мы его преследуем».
Таковы лишь некоторые эпизоды славной боевой жизни генерала. Но эти эпизоды – лишь часть того, что можно рассказать о Н. Н. Раевском, соединившем «достоинства воина с достоинствами человека».
II
Не слишком ли «громко» назвали мы Н. Н. Раевского «одним из наиболее авторитетных командиров в русской армии в период Отечественной войны 1812 года»?
Судите сами.
В разгар боевых действий, в пору жестоких боев во время отступления, под Смоленском, в пылу споров с Барклаем князь Багратион писал А. А. Аракчееву:
«Ради бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию, или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет». И далее прославленный полководец предлагал: «Армию мою разделить на два корпуса, дать Раевскому и Горчакову, а меня уволить».
Раевскому еще под Фридландом, как мы помним, пришлось командовать за Багратиона всем арьергардом «вплоть до Тильзита». И теперь, пусть в полемическом споре, по все-таки князь Багратион предлагал оставить Раевского вместо себя. Случайно ли?
Думается, что этим мимолетным заключением в коротком письме Багратион выразил свое отношение к подопечному, высказал свою оценку его боевых заслуг.
Документы сохранили нам такой любопытный приказ Багратиона, отданный им перед самым началом Отечественной войны, в мае 1812 года:
«Осмотрев 9-го числа мая 26-ю пехотную дивизию, весьма мне приятно было видеть, что дивизия сия хорошо выучена, люди хорошо одеты и содержаны, за что с особенным удовольствием объявляю сим для сведения предводительствуемой мною армии совершенную мою благодарность командиру оной г. генерал-лейтенанту Раевскому…»
В войне с Францией, в 1807 году, после сражения под Гудштадтом, Багратион также чрезвычайно высоко оценивал действия Раевского:
«…Во всех случаях оказал отличную храбрость и неустрашимость».
После битвы под Салтановкой Багратион в приказе войскам 2-й армии отмечал:
«7-й корпус под командою генерал-лейтенанта Раевского открыл неприятеля близ селения Дашковки, вступил с ним в сражение, в котором с родною российскому воинству неустрашимостью гнал и поражал его, несмотря на превосходство сил, ему противупоставленных…»
Такая высокая оценка со стороны опытного военачальника, питомца суворовской школы, не была случайной. Николай Николаевич Раевский прошел суровую практическую военную школу. Он как бы выполнял своеобразный завет, оставленный ему, пятнадцатилетнему гвардейскому подпрапорщику, генерал-фельдмаршалом Г. А. Потемкиным: «Во-первых, – говорил Потемкин, – старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем».
Именно Потемкин направлял своего внучатого племянника в самую гущу боевых действий. Он же, прикомандировав молодого офицера в период войны с Турцией к казачьим полкам, наказал его «употреблять в службу как простого казака, а потом уже по чину поручика гвардии».
Известен факт того, что Потемкин оставил специально для Раевского «своеручные наставления». Текст их не сохранился. Отдельные обрывки наставлений генерал воспроизводил позже по памяти. Но некоторые из «правил», которыми руководствовался Потемкин, звучали следующим образом:
«…Чтобы с людьми обходились со всевозможною умеренностью, старались бы об их выгодах, в наказаниях не преступали бы положенного, были бы с ними так, как я, ибо я их люблю как детей (вспомним, что дети Раевского служили у него наравне с другими офицерами; современники отмечали, что некоторых своих офицеров Раевский „любил, как сыновей“. – К. К.).
Строго взыскивать, если солдаты будут подвержены претерпению нужды от того, что худо одеты и обуты (у Раевского, по упомянутым нами словам Багратиона, „люди хорошо одеты и содержаны“. – К. К.)…
Объявить, чтобы во всех случаях противу неприятеля – исполнять повеления в точности и действовать мужественно, подавая собою пример подчиненным…»
По своему характеру Раевский был, как мы уже говорили, смел и решителен. По темпераменту – порывист и резок. Отличался немногословием и точностью высказываемых мыслей.
И еще раз вспомним – ведь именно его мнение совпало с мнением М. И. Кутузова на совете в Филях, когда необходимо было принять ответственное решение, связанное с судьбами не только армии, но и дорогой всем Москвы и всего государства Российского.
Авторитет Раевского как полководца был особенно высок и потому, что он принадлежал к числу учеников великого Суворова. Раевский воевал вместе с Суворовым, да и вся боевая жизнь генерала – образец воплощения в реальность суворовских идеалов.
Весьма интересны в этом отношении наставления Раевского, которые давал он письменно своему младшему сыну – Николаю Раевскому, когда тот был определен служить на Кавказ, где командовал тем же самым Нижегородским драгунским полком, которым командовал в 1792–1797 годах его отец.
Подтверждением приверженности генерала суворовской традиции могут служить отдельные выдержки из этих писем-наставлений. При сопоставлении их с отрывками из записей, писем Суворова и его книги «Наука побеждать» мы находим поразительное единство во взглядах на военную жизнь.
Сравним:
Суворов: «Приучайся к неутомимой деятельности… Я унываю в праздной жизни…»
Раевский: «Бойся опасной праздности не только для человека твоих лет, но для старых людей. Не будь ленив ни физически, ни морально… Будь деятелен, исполнителен, не откладывай до завтра то, что можешь исполнить нынче, старайся видеть все своими глазами».
Суворов: «Герой… всегда смел, но без запальчивости, скор без опрометчивости… решительный, избегающий колебаний…»
Раевский: «Презирай опасность, но не подвергай себя оной из щегольства… Не будь тороплив и не будь нерешителен».
Суворов: «Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека… Я забывал себя там, где надлежало мыслить о пользе общей».
Раевский: «Во всех случаях покажи себя достойным военным человеком… Будь искателен благородным образом».
Суворов: «Для здоровья основательные наблюдения три: питье, пища, воздух… Драгоценность блюдения оного в естественных правилах… Коли ж вода, то здоровая… Пища доваренная, непереваренная, не отстоенная, не подогретая, горячая… Предосторожности по климату… Ягоды же в свое время, спелые, в умеренности, кому здоровы».
Раевский: «Береги свое здоровье – воздержанностью в пище и сбережением от простуды, когда тебе жарко, не напивайся до того, чтоб тебе охолодиться… Не есть много фруктов, и никогда не зрелых и после оных не пить воды».
Суворов: «Строго остерегайся вредного изнурения, но тем паче к трудолюбию приучать… Соблюдать крайнюю чистоту и опрятность…»
Раевский: «Победи свою леность, будь опрятен».
Суворов: «Проявляй пламенную ревность к службе… Трудолюбивая душа должна всегда заниматься своим ремеслом…»
Раевский: «Служи не как слепая машина, старайся узнавать и обстоятельства, и что для чего делается… Показывай добрую волю служить, узнавать свое ремесло».
Наставления Суворова большинство русских солдат знали назубок. Не мудрено, что офицер и тем более генерал, исповедовавший эти принципы, прикладывавший их к любой новой военной обстановке, был более близок солдату, а значит – более понятен и более авторитетен.
К сожалению, Раевский не оставил записей, где были бы в полноте отражены его взгляды на полководческое ремесло, мысли о военном искусстве. Тем не менее известно, что по многим вопросам, касающимся военной обстановки, генерал всегда имел четкое, продуманное и выверенное мнение. Порой это мнение изменялось в зависимости, скажем, от изменений в тактической обстановке. Мнение сие могло и не совпадать с официальным или общепринятым.
Так, в первые дни Отечественной войны Раевский, вослед за князем Багратионом, был совершенно убежден в том, что «лучший способ закрыть себя от неприятеля есть разбить его», В июле месяце, перед самой битвой у Салтановки, Раевский упорно считал, что необходимо решительное контрнаступление всех русских войск.
Лишь немного позднее, взвесив все обстоятельства, оценив вновь сложившуюся ситуацию, Николай Николаевич Раевский напишет о Наполеоне: «Теперь нам бывшие его силы известны, и должно признаться, что единственный способ был победить его изнурением, что мы все прежде осуждали».








