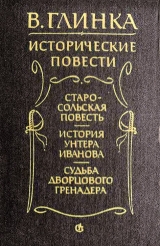
Текст книги "Судьба дворцового гренадера "
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
– Но каковы глаза! Словно у газели! – вздохнула его дама.
Переводчик смолк, и Хосров-Мирза, достав из-за пазухи синий мешочек, вытряхнул что-то на ладонь, взошел на ступени перед императрицей и с поклоном протянул ей ярко сверкнувший камень.
– Бриллиант! Бриллиант! Алмаз знаменитый! – зашептали сзади.
– Выкуп за голову Грибоедова! – услышал Иванов чей-то негромкий голос и невольно содрогнулся.
Когда рота возвратилась в казарму, Иванов только поспел переодеться в сюртук, как к нему подошел капитан Лаврентьев.
– Ты что же, друг любезный, нонче под конец штык завалил? – спросил он строго.
– Виноват, ваше высокоблагородие, голова чего-то закружилась, – соврал гренадер. Разве разъяснишь такому, что знал покойного посланника, что по нем запечалился.
– А ты есть солдат роты, наистаршей из всей гвардии российской, – начал наставлять Петух. – И хотя дух из тебя вылети, а стойку держи. Вот мне довелось друга сердечного, брата крестового, скрозь строй весть. Велел полковник то делать, раз знал, что мы крестами поменялись. И что же? Сплошал Лаврентьев? Нет, повел. Круги зеленые в глазах плыли, дух перехватывало, как он стонал да вскрикивал, а я не дрогнул, шагу не прибавил. Так и провел скрозь батальон – потому служба… Ну ладно, прощаю попервости, раз, окромя меня, никто не увидел, все на алмаз тот любовались. А великий бы князь заметил, что тогда?
Вечером Иванов пошел к Жандру рассказать про церемонию.
– Все знаю, – сказал Андрей Андреевич. – Не любитель во дворец ездить, а ноне воспользовался, что в четвертом классе состою, и тебя в строю видел. Алмаз тот прославленный «Шах» зовется… Но разве можно им расплатиться за жизнь такого человека и всех с ним убитых?.. Я не кровопийца, но, чтоб подобного не повторилось, я бы огромный выкуп с них слупил вдобавок к тому, что по прошлому договору требуется. А теперь что же? Я уверен, что слова пустые про наказание виновных. Как мы проверить можем?..
Через неделю во дворце давали бал, во время которого Иванов стоял на парном посту у дверей Концертного зала. Не раз мимо него проходил Хосров-Мирза с переводчиком и несколькими офицерами, вполне дружелюбно говорившими с персом. А потом совсем близко от часовых принца окружили несколько молодых дам в бальных очень открытых платьях, убранных драгоценностями и цветами. Они слушали, что лопотал Хосров, и наперерыв щебетали и смеялись в ответ.
– Вот везет азиату. В моду вошел, лупоглазый! – завистливо сказал стоявший около Иванова офицер гвардейской артиллерии.
– Всего двум десяткам слов французских обучен, а льнут к нему, будто мухи на мед, – ответил другой, стоявший рядом. – Правда, для некоторых особ разговор и не нужен. Словно дикарки, на барана этого глазеют, а он на их прелести слюни распускает.
В последний раз Иванов увидел Хосров-Мирзу во время парада на Марсовом поле по случаю заключения мира в Адрианополе. Когда царь, объезжая, здоровался с войсками, перс, красиво подбоченясь, ехал за великим князем Михаилом.
– Что за честь персику ледащему? Сдал свой подарок да и проваливай, нечего на наших харчах проедаться! – услышал Иванов громкое ворчание за фронтом и, скосив глаза, увидел бородача в сибирке, видно купца средней руки.
– Пущай хоть куда поставят, Петрович, – отозвался женский голос, – ты ноне радуйся, что людей бить на войне перестали…
Назавтра гренадер пошел к Жандру сдать жалованье, полученное за вторую треть, и услышал как бы продолжение слов купчихи.
– Разумеется, хорошо, что мир заключили, – сказал Андрей Андреевич. – Радостно, что к нам отошли населенные армянами области и то, что благодаря русским Греция стала наконец самостоятельным государством, а Сербия от турок меньше будет зависеть. Но умные военные толкуют, что армия наша, через Балканские горы глубокой осенью перебираясь, тяжкого горя хлебнет. Мне сказывали, что в боях у Дибича десять тысяч потерь, а от болезней – шестьдесят. Сколько ж еще перемрет, пока до своих пределов доползут? Помню, как отцу моему некий суворовский соратник говаривал: «Не так страшна война боями, как гошпиталями…»
В эту осень, помимо занятий в ротной канцелярии, Иванову приходилось иногда помочь и Лаврентьеву 2-му. Списывал «отпуски» с требований на дрова, свечи и лампадное масло для ротной иконы, на фабру и воск, ваксу и мел, на белые ружейные ремни, которыми царь приказал заменить красные.
А на дежурства полковник чаще всего назначал теперь Иванова в Ротонду и Темный коридор, разделявший личные комнаты царя и царицы с комнатами сыновей. Здесь день ото дня гренадер больше узнавал учителей наследника и его брата Константина. Кроме хорошо знакомого Жуковского, постоянно видел круглолицего спокойного Плетнева, какого-то тусклого Тимаева, всегда приветливого даже с прислугой француза Жиля и постоянно гладившего щеточкой седой пух на лысине англичанина Варонда. Эти бывали каждый день, а через день еще двое: француз Курно – он охорашивался перед зеркалами и при этом оставлял на подзеркальниках книги, за которыми выскакивал уже из классной, – и немец Эртель, неопрятный толстяк, но с которым дети часто смеялись, как бывало еще только на уроках Жуковского.
«На семь учителей трое русских, – думал Иванов. – Да из них Тимаев, видать, такой сухарь, что детей разве от науки отпугнет. Языки иностранные им надобны, но зачем французов-то двое?..»
И вскоре, будто в ответ на свои мысли, услышал, как в Ротонде Плетнев говорил Жуковскому:
– Слушай, Василий Андреевич, нельзя ли сделать, чтобы хоть географию русский учитель преподавал? Ей-ей, великим князьям твердо знать надо, где Калка и Дон, Казань и Азов, а Парму и Орлеан сами разыщут от чтения романов. Мусье Жиль весьма приятный человек, но даже карты России сюда не приносит.
– Было уже о том мной доложено, – развел руками Жуковский. – Но ответ его величества гласил, что русскую географию молодые люди изучат в путешествиях образовательных…
И здесь же через несколько дней в хмурое октябрьское утро гренадер узнал взволновавшую его новость. В дверях Арапского зала Василий Андреевич встретился с воспитателем великого князя Константина морским офицером Литке.
– Слышали, Федор Петрович, про Доу? – спросил Жуковский.
– Слышал. Но я не был его поклонником, – отвечал моряк. – Не люблю стяжателей и скряг, как справедливо называл его Лабенский… А быстро скрутило молодца. Давно ли тут, подбородок задравши, выхаживал? Скольких же лет помер?
– Кажется, сорока восьми, – сказал Жуковский и прибавил: – Правда, что был без меры жаден до денег, но и талант немалый. Хотя мне самому живопись Каспара Фридриха куда милей.
– Какой еще Каспар Фридрих? – чуть ворчливо спросил Литке.
– Есть такой дрезденский художник, которого я уже несколько лет облюбовал. Он грустные морские и горные пейзажи пишет. Приходите ко мне, я вам две его картины покажу.
– Благодарствуйте, но мне, право, не до грустных пейзажей. Более чем достаточно дела с планами занятий великого князя, которого государь истинным моряком требует сделать. А насчет Доу, то я думаю, что черная душа отравляет любой талант. Однажды я имел время портреты в галерее внимательно рассмотреть и убедился, что ему особенно удавались изображения дурных людей. Взгляните на старую лису Беннигсена, на Аракчеева, Балашова и некоторых других, коих не назову в сих стенах… Честь имею!..
Жуковский еще задумчиво глядел вслед моряку, когда Иванов отважился к нему подойти:
– Ваше превосходительство, дозвольте спросить.
– Конечно, спрашивай, кавалер.
– Так ли я уразумел, что господин живописец Дов померли?
– Истинно так. Вчера в газете читал, что скончался в Лондоне две недели назад.
– А кому же все деньги пойдут, что у нас в России набрал? Слыхано было, что не женатый и детей не имел, – продолжал спрашивать Иванов, благо стояли в Ротонде одни.
– Сестре его родной. И про то в «Пчеле» пропечатано. А капитал истинно огромный оказался, чуть не миллион на наши деньги.
– Миллион?! – повторил Иванов. – Это сколько же тысяч?
– Десять раз по сто тысяч рублей, тысяча тысяч, значит. Много, братец. Нам с тобой таких денег век не увидеть…
Вечером Иванов пошел к Полякову. Дверь оказалась не запертой, хозяйка и Танюша куда-то отлучились. Живописец топил печку и сидел перед ней на половичке, не зажигая свечи. Иванов просил не освещать комнату и сел около него на стул.
– Слышал уже, – сказал Поляков на сообщенную новость. – Голике прибегал, чуть не плакал. А я так и сказал: «Не жалко мне его ни капельки, какой бы хворостью страдательной ни сгинул». Знаю, Александр Иванович, что оно не по-христиански, но ничего с собою сделать не могу. Да еще тому я, грешник, злорадствую, что, всеконечно, помирая, помимо болезни, горем надрывался, раз с деньгами, с друзьями своими единственными, расставаться пришлось. Какова сестра его, которой все досталось, не ведаю, но муж ее, гравер Райт, здесь трудился. Добродушный господин и в своем деле большой мастер. Из него Дов тоже соки сосал, никак не ожидавши, что наследника своего обирает.
Помолчали, глядя на мерцавшие головешки.
– Как учение твое идет? – спросил Иванов.
– Поправляюсь помалу. Сам себя нахожу. Теперь бывает, что и похвалят за рисунок. С азов начинать пришлось, будто карандаша век не держал. А вот с вольной все ни с места.
– Неужто еще не разделились наследники? – удивился Иванов.
– Сказал намедни здешний приказчик ихний, будто старшему сыну достанусь, который в гвардии служит. Так боюсь, не стал бы выжиливать, чтобы больше заплатили. Бары на прихоти тороваты, а за наши душеньки, ежели кто торгует, как черти за грешников, цепляются. Кажись, две тысячи – не цена ли? А еще, может, оттого тянут, что две сотни годового оброка исправно сдаю, а тогда сему доходу конец. Вот и давай еще двести пока что…
– Откуда же деньги такие берешь? Все с портретов царевых?
– Больше неоткуда. Мундиры меняю да купцу в Андреевский по четвертному ношу, а тот – в золоченую рамку да по пятьдесят рубликов. Надоело – страсть. Ведь без оброка я бы на восемь штук меньше писал. И еще освобождение скорей нужно, чтобы из Академии не выгнали, как крепостного. За меня Общество поощрения поручилось, что обязательно выкупит, а уж чуть не два года прошло. Президенту стараюсь на глаза не попадать…
– А здоровье каково?
– Ничего. Раз деньги есть, чтоб за квартиру с дровами отдать, за стирку, на чай-сахар да на булку с печенкой, – чего еще желать? Учусь, того, о чем мечтал, наконец достигаю. Украл Дов у меня шесть лет жизни. Ну, он теперь за то в другом месте, может, наконец-то ответит… А от холода в классах шинель справил на вате и жилетку пуховую у чухонки купил. Сейчас вам обновы покажу, как огонь засветим.
7
Седьмое ноября, пятая годовщина наводнения, пришлось на воскресенье. Свободный от наряда Иванов положил в карман пятнадцать рублей и пошел на Смоленское. Еще вчера написал поминальную. Хотел поставить новопреставленных болярина Александра, еще Александра и Симеона, потом отдумал. Панихиду собрался заказать по усопшему семейству, пусть же только они и стоят в записке. А то болярина положено перед простолюдинами читать, а в этот день всех дороже память Анюты с родителями.
Погода выдалась славная – тихая, сухая и солнечная, совсем не похожая на тот страшный день, о котором думал, шагая на Васильевский и взглядывая на низкую, спокойную Неву.
Время рассчитал так, чтобы к кладбищу дойти в середине обедни и заранее отдать церковному старосте записку за упокой и по пятерке для священника, причта и хора. Сделал все, как хотел, купил свечу, прилепил у ближней иконы и стал тут же, у прилавка, дожидаясь заказанной службы.
– Ноне день у нас особенный, панафидный. Бывает, что оба батюшки и обедать домой не ходят, – наклонился к гренадеру староста, доверительно щекоча ему ухо тщательно расчесанной бородой. – Но зато и доход не меньше, как в светлый праздник.
Панихиду отслужили неторопливо и внятно. Иванов удовлетворенно думал, что все вышло, как давно хотел. Пойти поклониться могилам – и обратно в роту.
В прошедшие пять лет за крайние тогда могилы утонувших бедняков далеко в поле высыпали новые холмики с крестами. Кабы не ходил сюда ежегодно, то не сразу бы нашел длинную, поросшую травой насыпь, на которой выстроилось несколько поставленных родичами разных по высоте и материалу крестов. Вон и его иждивением заказанный черненый железный.
У соседних могил сошлось немало поминальщиков. Одни молились, другие убирали, чистили веничками могилы от опавших листьев, вешали на кресты венки из зелени, а то сидели около на скамейках, тихо переговариваясь. Когда подошел к «своему» месту, справа на коленях стояли две женщины в черном, по-простонародному повязанные платками. Знать, и у них тут свои схоронены. Многих помнил, кого здесь встречал, а этих будто не видывал.
Снял фуражку, стал на колени, перекрестился, поклонился в землю. Поднялся, еще перекрестился. Теперь можно и уйти – все сделал, как надо. Авось отпустит наконец тоска, что нет-нет да и сожмет сердце, напомнит ту, которая здесь лежит.
Справа женщины тоже встали с колен. И вдруг одна вскрикнула:
– Александр Иванович! Вы ли?..
У гренадера перехватило дыхание. Снится ему, что ли? Те глаза серые, тот взгляд прямой, ясный, который столько раз во сне да и наяву чудился…
– Свят, свят, свят!.. – сказал он, крестясь, и зажмурился. Открыл глаза, посмотрел снова, и сердце залило радостью: – Господи боже! Анюта! Ты ли?.. Откудова?..
– Я, я, Александр Иванович! А вы меня за утопшую почитали?
– А как же! Только сегодня панихиду заказную по родителям и по тебе отпели… Где ж ты была пять годов?.. Да не сон ли вижу? Ну, толкни, что ли, меня, Анютушка! Хоть за руку дерни!..
– Видать, знакомого сыскала, милая, аль родственника? – сказала пожилая женщина, что стояла рядом.
– Да, тетенька, спасибо вам. Теперь уж я ничего не боюсь, – сказала Анюта, сияя такой улыбкой, от которой Иванова разом облило радостным жаром. – Идите, тетенька, дай вам бог…
– И тебе дай бог счастья, девица честная! – Женщина поклонилась и отошла.
– Ах, Александр Иванович, как же такое случилось? Ведь я каждый год сюда в этот день приходила. Вы, верно, на службе другой теперь? Да где бы нам присесть? Ноги дрожат впервой в жизни.
– Да вон лавочка пустая, – указал Иванов.
– Нет, пойдемте отсюда. Негоже на кладбище так радоваться.
– И я вот как рад! – Гренадер достал платок, отер лицо и шею, после чего надел наконец фуражку. – Голова кругом, право… – Он повернулся было идти, но снова остановился: – Так отчего ж тебя в церкви не было, когда родителей хоронили?
– Да в отъезде я была, – прижала руки к груди Анюта. – За два дня до наводнения, пятого числа, с хозяйкой и еще с мастерицей нас в Новгород увезли генеральской дочке спешно приданое готовить. Рыдван шестериком прислали, чтобы с материями, с отделками погрузиться. Пока там про бедствие здешнее узнали, пока отпросилась да выехала, ан милые мои уж похоронены были. – Губы Анюты задрожали.
И гренадер поторопился спросить:
– Ты где же теперь живешь?
– У той же хозяйки, у мадам Шток. Только переехала она с Васильевского на Пантелеймоновскую.
– Ну, так пойдем не спеша и поговорим дорогой… Однако постой! Как же мне баба, вроде дворничихи, со слов соседки вашей так обстоятельно сказывала, – Иванов снова остановился и смотрел на Анюту во все глаза, – будто вы с мачехой лихорадкой болели, а Яков Семеныч, вас вытаскивавши, поскользнулся на больной ноге, и все захлебнулись… Ну-ка, дай руку-то…
– Нате, нате, живая я, вот вам крест! – говорила Анюта, положив левую руку на его ладонь, а правой крестясь, в то время как из глаз ее побежали слезы. – Все наврала злая соседка. Она с дочками да еще будто квартальный имущество и сбережения папенькины обобрали, так что и тряпочки памятной не нашла. Да все пустое, раз они померли, а вот вы-то думали, будто и я…
– И я тоже в том грабеже участник, – говорил, не выпуская ее руки, гренадер. – За иконой двести рублей ассигнациями сыскал да икону ту взял и игрушек несколько. Так что часть приданого и родительское благословение заочное хоть нонче получи.
– За то спасибо, но мне главное теперь, что вас нашла! – сказала она с жаром, но вдруг, покраснев, высвободила руку.
– А что ж раньше не сыскала? – спросил гренадер.
– Так папенька же сказали, что вы в Гатчину переведёны. Вот я на второй год после наводнения и упросила заказчицу, офицершу тамошнюю, справку навесть. Назвала и что из Конной гвардии, соврала, господь мне прости, будто сродственники. Та барыня все записала и, снова к нам в мастерскую приехавши, сказала, что такого из Конной гвардии нету, а есть двое, из иных полков и других лет… Как же мне еще искать? И могла ли подумать, что меня мертвой считали? Рассудила так, что в последний год ходить к нам перестали да в Гатчину не переводились, то выходит, вовсе от нас отвернулись или… – Анюта запнулась и докончила, смотря на Иванова не то со страхом, не то с укором, – женились давно…
– Не женился я, Анютушка! – воскликнул гренадер. – И тогда не отвернулся, а опосля разговора с Яковом Семенычем возраст мой отвел от тебя. Двадцать лет разницы, пустое ли дело?
– По мне, вовсе пустое, – сказала Анюта решительно. – Вы бы меня наставляли, а я бы вот как стараться стала.
– Да стар я для тебя. Отцу твоему почти что ровесник был.
– А мне молодые не надобны. Троим уже отказала, хоть мадам наша очень одного нахваливала… Как же вы с папенькой, меня не спросивши, решили? А я-то, глупая, с того часу, как от барина носатого оборонить не побоялись, вас суженым сочла…
Записанное здесь говорилось, когда они то останавливались, повернувшись друг к другу, то шли вдоль речки Смоленки. Дальнейший разговор продолжался на линиях Васильевского острова, в захолустных улочках Адмиралтейской части, наконец на скамейке засыпанного палым листом Екатерингофского парка. Говорили – и наговориться не могли. Смотрели друг на друга, и все было мало. Не замечали бегущего времени. Забыли, что не ели с утра. Воистину все как в счастливом сне.
Когда же наконец, уже при зажженных фонарях, едва решились расстаться у ворот на Пантелеймоновской, то по Цепному мосту и мимо Летнего сада Иванов еще шел хотя как мог скорее, а наискось через Марсово поле уже бежал, подобравши полы шинели, и все же вскочил в двери ротного помещения, когда в «сборной» уже строились к вечерней поверке. Едва поспел сбросить фуражку и шинель на чью-то кровать и, растолкавши соседей, встать в ранжир, как фельдфебель Митин скомандовал:
– Рота, смирно! Слушай поверку! Антонов Потап…
В понедельник он заступал на дежурство с двух часов и, вместо того чтобы, как обычно в тихие часы, засесть в спальной за щетки, пошел в канцелярию и попросил у Екимова лист бумаги, будто для письма. Возвратясь в роту, сочинил черновик на оберточной бумаге и, перечитавши, вывел беловую. Тут зазвякали в дверях шпоры – полковник Качмарев обходил помещения роты. Иванов встал у своей кровати.
– Наконец и ты вчерась загулял, – сказал командир. – Сказывали, к обеду хотел быть дома, а где-то до потемок закутил.
– Так точно. И к вашему высокоблагородию с покорнейшей просьбой. – Иванов протянул свою бумагу.
– Что за прошение? Ну, так читай сам. Я очки в канцелярии оставил.
Иванов огляделся вокруг.
– Аль секретная?
– До времени бы…
– Ну, так и читай тихо, – приказал Качмарев.
Иванов ступил почти вплотную и прочел вполголоса, деликатно дыша в сторону, но у самого уха полковника:
– «Покорно прошу дозволения вашего высокоблагородия на вступление в первый законный брак с девицей Анной, Яковлевой дочерью, которая есть мастерица у госпожи Штокши, жительствующей в доме купца Меншуткина, насупротив церкви святого Пантелеймона-целителя. К сему гренадер первой статьи Александр Иванов».
– Ну надивил! – хлопнул себя по бокам полковник. – Однако добавить надобно, сколько лет невесте, какого вероисповедания, сословия и по какой части мастерица.
– Виноват, ваше высокоблагородие, сейчас заново перепишу. Двадцать один год полный, православная, шьет барыням уборы, а сословием дочка отставного почтальона. Про сословие не знаю, как сказать, раз из воспитательного, безродный, значит, был.
– Родителей обоих в живых нету? Сироту берешь?
– Вчерась ровно пять лет, как потопли в бывшее наводнение.
– Давно, значит, невесту знаешь? Ах, тихоня! Ведь никто и не чуял, что женихом ходишь.
– Так и я же ее все пять годов до вчерашнего полдня покойницей числил, в поминание писал…
Качмарев выпучил глаза и, присев на кровать, велел:
– Докладывай все толком.
Когда Иванов окончил, полковник, качая головой, сказал:
– Ну, истинно надивил. Бери-ка фуражку, пойдем. Сейчас жене моей все перескажешь. Меня чуть слеза не прошибла, а ей и рушником не обойтись. Однако мадама не станет ли препон чинить?
– Какие же препоны, ваше высокоблагородие? Она, чай, свободного состояния, – ответил Иванов. – Я вчерась же хотел к ней явиться да все высказать, только Анюта не пустила.
– Верно, сама вперед хочет объявить, – догадался полковник.
– Никак нет, а сказала: «Подумайте недельку, чтобы не ошибиться сгоряча. А уж потом, коли все так же на сердце будет, то и приходите к Амалии Карловне, раз я сирота и она мне вроде сродственницы ставши». Даже казаться на глаза запретила.
– То все не глупо, – одобрил Качмарев. – Видать, девица основательная. Поговорка не зря сложена, что жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь.
Полковник хорошо знал свою супругу. От рассказа Иванова она отодвинула пяльцы, за которыми сидела, и стала вздыхать все глубже, будто собираясь чихнуть, потом пустила слезы в небольшой платочек, что лежал рядом, и наконец не отнимала от глаз полотенца. Его вовремя подала горничная, которая вместе с кухаркой дружно охали сначала за дверьми, а потом, осмелев и вконец раскиснув, хлюпали в передники на пороге.
Когда же окончил повествование, то полковница, насилу отсморкавшись, велела подать бутылку наливки, чтобы всем выпить за здоровье нареченных, и тут же наказала мужу в воскресенье ехать на Пантелеймоновскую как будущему посаженому отцу.
Гренадер не возражал: вчера вгорячах готов был идти прямо к Штокше, а нынче почувствовал, что предстательство полковника не лишнее. Ведь Анюта говорит о немке уважительно, так пусть же начальство пояснит, что не бездельник, грубиян или пьяница сватается.
Неделя для Иванова выдалась самая беспокойная. Конечно, в роте все стало известно от полковничьей прислуги, после чего расспросам, поздравлениям и шуткам не было конца. Иванов терпеливо и благодушно отвечал, но в свободные часы уходил в канцелярию или в подвал к поручику. Эти письменные дела отвлекали от тревоги – вдруг в воскресенье они с полковником посватаются, а невеста за неделю отдумала, испугалась идти за старого солдата, такого сивого да морщивого, каким стал…
Два вечера он ходил на Пантелеймоновскую и с другой стороны улицы, из-под ворот, смотрел на окна мастерской. Там за кисейными занавесками, освещенные яркой масляной лампой, склонялись над шитьем девичьи головы. Ему казалось, что среди них узнает Анюту. Но ведь видел ее весь день в платочке и даже не знает, по-прежнему носит косу или какую прическу?..
В полдень воскресенья одетый в парадную форму Иванов выступил из казармы и едва подошел к дому Меншуткина, как следом подъехала дворцовая карета, из которой вылез полковник в медвежьей шапке и мундире – шинель он для шику сбросил на сиденье.
– Ну, гренадер, бей атаку! Идем на приступ! – сказал он вполголоса и молодцевато передернул плечами, отчего заиграли золотые висюльки густых эполет. И уже в дверях, подмигнув, добавил шепотом: – Для форсу впервой в жизни карету спросил.
Как оказалось потом, Анюта видела суженого у ворот напротив – как было не заметить такого рослого молодца, особенно если все время о нем думаешь? – и, подкрепленная сим доказательством его намерений, в субботу решилась сказать мадам Шток, что дворцовый гренадер, старый знакомец ее родителей, может прийти просить ее замуж. Немка, которой не впервой было выдавать своих мастериц-сирот и которая любила разыграть строгую, но добрую тетку, приготовилась сделать Иванову придирчивые смотрины. Однако появление придворной кареты с кучером в красной ливрее и полковника в блестящем мундире повергло ее в растерянность. На счастье, придя недавно из Анненкирхе, она была еще зашнурована и не сняла кофейного цвета платья, которое поспешила дополнить белой шалью с бордюром из турецких огурцов, а для высшей светскости взяла в руки веер. Последний оказался очень кстати, ибо от вида придворного экипажа, золотых эполет и от шерстяной шали Амалию Карловну бросило в жар.
Поспешно усевшись на обитый малиновым шелком диван своей гостиной, в которой буднями хлопотала вокруг лучших заказчиц, обмахиваясь веером и поскрипывая корсетом, мадам Шток отнюдь не походила на палку, когда, приподнявшись навстречу гостю, просила его занять кресло. А Иванов остался стоять у косяка двери, держа у груди, как по команде «на молитву», мохнатую шапку, в то время как Качмарев картинно положил свою вместе с белоснежными перчатками на соседний столик.
Оказалось, что с дамами, как и с солдатами, полковник «за словом в карман не лезет». Плавно и неторопливо он представил Иванова как самого исправного в службе и трезвого из вверенных ему ста гренадеров, отобранных из всей гвардии, который к тому же хорошо грамотен и ежели не в сем году, то в будущем при первой вакансии будет произведен в унтера дворцовой роты, что равняется прапорщику армии со всеми правами для него, супруги и будущих деток. После же сего, бог даст, пойдет и выше, чему примером он сам, ныне гвардии полковник, самому государю известный, а ведь начал службу рядовым солдатом.
От такой речи, подкрепленной полупоклонами в сторону дамы и звяканием шпор под креслом, Амалия Карловна расцветала на глазах, как поблекший было цветок под струей свежей воды. Она все слаще улыбалась и повторяла: «О да, mein gnadiger господин полковник und Ritter! [2]2
Мой уважаемый… и кавалер (нем.).
[Закрыть]Если вы сами как сват…»
А Качмарев уже перешел к истории защиты тогдашним конногвардейцем девочки, которую преследовал сластолюбивый старик, описал приход их вместе к ее живущим скромным ремеслом родителям и затем, как счел всех погибшими и служил панихиды, проливал скупую солдатскую слезу о потонувшей невесте… И вдруг, в пятую годовщину бедствия, у той самой могилы…
Во время этого рассказа Амалия Карловна сначала только умилялась и приговаривала:
– Oh, oh, ein Held… [3]3
О, о, герой… (нем.)
[Закрыть]Да, я знай Kinderspielsachen [4]4
Детские игрушки… (нем.)
[Закрыть].– Потом сочувствовала: – Sie sind zusammen versunken [5]5
Они потонули вместе… (нем.)
[Закрыть], бедняжки… – И, отложив веер, прикрывала глаза кружевным платком. А еще через две фразы полковника простонала в пространство: – Дайте скорее einen großen Taschentuch! [6]6
Большой носовой платок… (нем.)
[Закрыть]– И, уже рыдая, бурно колыхала всем изобилием, что выступало сверх тугого корсета.
Наконец сквозь вздохи и всхлипы она приказала позвать Annchen.
Анюта вошла с лицом в цвет обивке мебели гостиной, но, сделавши Качмареву реверанс, которому обучила ее Амалия Карловна, негромко, но твердо сказала, что слышала сказанное господином полковником, все как есть правда истинная и что ни за кого, кроме Александра Ивановича, идти не хотела и вовек не захочет.
Так вышло, что через час после начала визита полковник и гренадер покинули Пантелеймоновскую. А после обеда Иванов, уже в фуражке и шинели, снова появился у дома Меншуткина, чтобы увести гулять нареченную. Гостеприимная Амалия Карловна приглашала их остаться в одной из комнат мастерской, куда подадут кофе и кухены, но Анюта ответила, что хочет познакомить жениха с дальними родственниками на Выборгской. Когда же шли по Пеньковой улице, призналась, что родичей тех совсем не почитает, раз после смерти родителей, узнавши, что ей ничего не досталось, прямо высказали, чтобы не вздумала приходить каждое воскресенье, хотя живут вполне достаточно.
Тут Анюта запнулась было, но, должно быть решив ничего не скрывать от жениха, продолжала:
– И, чтобы от дома меня отвадить, сказали, что раз на свояченице жениться нельзя, то будто грех большой состоял в житье папеньки с тетенькой под одной кровлей невенчанными… – Анюта остановилась и, посмотрев в глаза Иванову, спросила: – Так почему же, пока живы были, нас приглашали и в гости к нам не реже хаживали?! Понятно, после таких слов я к ним ни ногой, а тетеньке покойной за ласку и заботы навеки все равно благодарна.
– И правильно, Анютушка, видно, дрянью расчетливой оказались, – поддержал ее Иванов. – А мы батюшку твоего с тетенькой одним добром поминать станем. – Он мельком вспомнил виденную в мокром подвале единственную пару венчальных свечей. Второй, значит, и быть не могло…
Прошли немного молча, и Анюта, успокоенная его сочувствием, продолжала рассказывать, что госпожа Шток хотя чужая и немка, но оказалась в горе куда добрей. Нынче еще напомнила, что у ней деньги Анютины на сохране и свадьбу за свой счет хочет справить. А придумала такую неправду ей ответить на приглашение, раз хочет с Александром Ивановичем без чужих поговорить, что там никак невозможно – мастерицы и девчонки все бы подслушали, как утром меж собой спорили, так или этак она хозяйке вчера про жениха объявила. Хоть за неправду и стыдно, а другого предлога не придумала.
До сумерек бродили они мимо лачужек и заборов лесных складов по набережной Малой Невки. Несколько раз присаживались отдохнуть на скамейки ночных сторожей, где гренадеру удавалось погреть в своих руках Анютину руку, и опять шли рядом куда глаза глядят, рассказывая, что случилось за прошедшие годы и сколько каждый думал о другом. Со смехом жевали черствые крендели, грызли леденцы и яблоки из мелочной лавки и были счастливей, чем в Екатерингофе, оттого что становились все ближе.
Нынче Анюта оделась не в черное, а в голубой бархатный капор и в синий, тоже бархатный салопчик, отороченный лисьим мехом. В таком наряде с не сходившей с лица счастливой улыбкой она была так хороша, что Иванов только на нее и смотрел. Вот уж истинно никого и ничего, кроме нее, не видел, отчего ей приходилось выбирать дорогу и даже толкнуть его локтем, когда чуть не пропустил сделать фрунт бог весть как забредшему сюда офицеру. А локтем толкнула потому, что ухитрился, идучи по мосткам, обе руки ее забрать в свои накрест, будто в танце.
– Сегодня мы бездомные и бога благодарим, что дождя нет, – сказал гренадер, когда сидели на одной из скамеек, озаренные солнцем, уходившим за кущи Ботанического сада. – А через недели две, бог даст, будет, где у своей печки посидеть и друг дружке что захотим пересказать, без оглядки, чтобы кто не услышал. У меня такого немало про людей самых добрых да несчастных, что ты узнать должна… А нонче вот еще что: полковник, встретясь, когда к тебе собирался, упредил, что вскоре при дворце нам квартиры не представит, раз череда из прежде женатых ведется, и советовал начать сыскивать вольную. Как ты скажешь?.. Оно тем уже лучше, что с женами гренадерскими тебе по-соседски не водиться – бабы все немолодые и сварливые.







