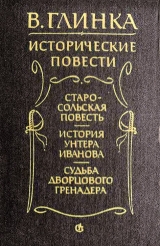
Текст книги "Судьба дворцового гренадера "
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– А тут кто же?
– Барин прежний, Иван Евплыч.
– Прибрался-таки. Когда же? – приостановился унтер.
– Под троицу. Сказывали, выплатил новый каки-то деньги, вот и закутил – опять вино разное, дичина, баб дворовых песни играть да плясать заставил. А сам все пил да пил. Так с куском во рту и завалился. Сходи, коли хошь, поклонись…
Иванов не ответил и пошел дальше рядом с матушкой.
В полуверсте за околицей, окруженное пашней и огороженное валом, желтеет деревьями крестьянское кладбище. Тропки ведут к могилам, вокруг других трава высокая – давно никто не бывал.
– Вот Дашута, сынок, и с младенчиком…
Обложенный дерном холмик, серый от дождей, некрашеный, но крепкий крестик.
Иванов стал на колени, поклонился в землю:
– Даша, Дашенька… И лицо твое запамятовал… Что-то светлое, туманное видать будто, да волосы русые, да глаза лазоревые… А Кочет проклятый не объявлялся? – спросил, встав с колен.
– Откуда же ему взяться? – ответила Анна Тихоновна. – Верно, на отъезде и порешили его мужики за добрые дела.
– Сболтнул кто-нибудь про то спьяна? – спросил Иванов.
– Никто не болтал, и ты забудь мой глупый сказ. Всяк бы ведь хотел, чтоб уходили проклятого… Вот и еще могилка наша… – Она перешла к соседней, с дубовым крестом, поклонилась.
– А тут кто же?
– Степанида, Михайла нашего жена.
– То-то вчера ее не видел. Да и спросить забыл, как в глаза не знавал. Что же с ней попритчилось?
– Бык господский прошлую осень забодал. Сорвался с цепи, к стаду бёг да по дороге ее и поддел на рога. А уж вот божья душа была! Ладно, что хоть тут же и дух вон.
– А Михайло как?
– Как?.. Раньше, бывало, к солдатке одной в Голино хаживал, а как Степанида померла, ни на кого не глядит. И то сказать: такую еще разве сыщет?..
– Матушка, а где же Сеня-братец, что после крестного хода на Куликовом поле помер?
– Вот. – Она указала на еще один дерновый холмик со старым крестом. – Тут, Санюшка, и еще двое старшеньких, которых не помнишь… Что слез пролито – море!
Помолившись, вышли с кладбища.
– А новый каков? – спросил Иванов. – С ним толковать завтра.
– Покуда три шкуры не дерет, баб да девок не трогает. Сказывают, денег на казенной службе много нагреб. То дед знает, от его дворовых слыхал, что десять лет казаков каких-то усмиряли да обдирали. С таким, сынок, торгуйся, как с цыганом, да пужни, что от царя близко служишь.
– Хоть близко, да чином низко, – сказал унтер и засмеялся.
– Чего ты? – удивилась Анна Тихоновна.
– Есть у меня приятель, служим вместе, так он завсегда эдак складно болтает, как у меня сейчас вышло.
Пока ходили в город и на кладбище, дома бабы по приказу деда напекли и наварили столько, что к обеду пришли шестеро соседей. Трое из них и брат Яков быстро захмелели, завели было песни, но, добавивши, сникли и были стащены на сеновал. А оставшиеся, из которых Елисей в юности был первый приятель нонешнего благородья, пили немного и стали спрашивать про службу. Дивились его рассказам, но не верили, что Зимний дворец выше Епифанского собора и раз в пятьдесят больше, раз в нем сотни залов, комнат и кладовок. И живут там, кроме царской семьи, еще до трех тысяч человек придворного люда – куда больше, чем во всей Епифани. Только подтверждение Михайла про величину дворца, который обошел вокруг, ища дядину роту, и то еще, что дед вынес показать развешанный в сенях мундир в золотых галунах и штаны с золотым лампасом, пожалуй, дали веру словам рассказчика. Раз такую одежу услужающим шьют, так все быть может.
Когда гости простились, Иван Ларионыч с унтером пошли в баню, стоявшую над самым Доном. Прежде чем идти, Иванов снял в сенях все верхнее, кроме сапог, и накинул шинель, а отец шел впереди в белье и босиком, точь-в-точь как тридцать лет назад, только оказался куда ниже сына, а тогда были одного роста.
Раздевшись в предбаннике, унтер сел рядом с отцом на лавку и, сказав, на что привез деньги, отдал на сохран черес.
– Неужто вправду нас выкупать хочешь? – дрогнувшим голосом спросил Иван Ларионыч. – А деньги откуль взял?
Сын рассказал, как и сколько скопил, от кого известился, почем у них души, и что привез письма от важных господ к самому губернатору, чтобы не тянули с купчей. Старик слушал, прижав к груди черес и глядя в рот сыну. А когда тот окончил, то одной рукой обнял за шею и вымолвил:
– Сказать что – не знаю… Хоть бы бог тебя наградил! Ведь как Мишка опосля Лебедяни про тебя сказывал, а потом во дворце повидал, то все сомлевался, откуль деньги берешь.
– Теперь, папаня, только как с барином сговорюсь.
– Сговоришься. Не с прежним дураком нашим. Новый своего гроша не упустит, но и кобениться не станет. Ты стой на своей цене и как все прознал поясни, чтоб видел – не лыком шитой. А ему сейчас деньги нужны – слышно, лес около своей родовой торгует. Нашу-то дуром у пьяницы взял, за полцены.
– Матушка молвила, будто на казаках каких-то нажился?
– От его людей слух идет, что в Новочеркасском городе при генералах каких-то пером скрыпел да с просителей драл. В чины знатные не вышел, а кису толстую набил и жену взял от начальника, евону полюбовницу, себя старе, да с хорошим приданым. А мужикам оно все едино. После Ивана-то Евплыча не зверь да не блудник, то чего не жить? Ты ему барщину отработай – и ладно. Пока плохого не видели. Так что можно бы тебе опять нам малу толику оставить, а остальное все обратно увезть.
– Нет, папаня, то дело решенное. Ежели столкуемся, так вас пока на свое имя куплю, чтобы только на себя работали, мне барщины не надо. А может, и сряду, ежели денег хватит, на волю перепишу. Ну, пойдем-ка, я тебя попарю.
– И то… А чересок туда возьму. На гвоздок взвешу… Ты помни, Саня, что земли у нас одиннадцать десятин: девять под пашней да по десятине луговой и выгона. Чтоб как не обдул.
Когда уже лежали на полке, вдыхая жаркий воздух, Иван Ларионыч спросил:
– А у царя-то банька есть?
– Для него только одного и есть в полподвале.
– Ну, слава богу, хоть он чистый ходит. А дворские как же?
– Господа в тазах да лоханках полощутся, а простой народ в торговые бани ходит.
Смеркалось, когда вышли в предбанник, но унтер рассмотрел, что дед раскраснелся, как молодой, и дышит не чаще его. Напились квасу, поставленного под лавкой. Вот это так баня!
– Лучше, Санюшка, ты его снова опояшь, – сказал Иван Ларионыч. – Я ведь и сна лишусь, коль на мне будет, а ты привычный. Аль в подполье схоронить и тебе отдох дать?.. Ин ладно, поспи послаще ночку-другую. Ну, пойду окунусь. А ты как?
– Схожу, как возвернешься и тебе караул сдам.
– Ан первый иди. Дорогу-то не забыл?
Да прошло ли тридцать-то лет? Все как бывало до службы, когда бежал по траве к Дону и с мостков ухал в студеную воду…
А на пороге уже отец дожидается – и бегом к мосткам. Ну и крепок! Куда дольше его плавал и как вскочил, пожимаясь, в предбанник, то сразу же:
– А скажи, сынок, страшно воевать было?
– Воевать, папаня, не так страшно, раз всем одна судьба, кто рядом скачет – солдат ли, генерал ли. А в команду офицеру злому попасть – вот где страх. Чисто как заяц перед волком. Два раза мне такое выпадало, да выручали добрые люди.
– А ты тех людей в поминание аль за здравие записал?
– Как же, все где положено.
В эту ночь, после бани и без череса, Иванов спал еще крепче, не слышал коров, а петуха только на зорьке, когда пробрало холодом и увертывался получше в приданое одеяло.
А утром, когда уже поел и думал, не пойти ль помолотить, чем без дела прохлаждаться, прибежал малый и сказал: барин приехал, чтоб дядя Саня к нему шел, не то по ригам уйдет.
– Чей паренек-то? – спросил Иванов матушку.
– Елисеев-меньшой, восьмой никак.
Побрился, подчернил усы и баки, надел полную парадную форму, белые перчатки, водрузил на голову медвежью шапку и пошел.
И вовремя. Барин в сереньком сюртучке и военной фуражке вышел на крыльцо. Увидел Иванова и, поднявши брови, остановился. Видно, никто не упредил о приезде такого гостя.
Подойдя на три шага, унтер поднял два пальца к шапке:
– Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
– Здравствуйте, – ответил Вахрушов, уставясь на невиданный галунный погон унтера, потом опустил глаза к темляку на сабле и добавил: – Чина господина офицера не имею чести знать.
– Прапорщик Иванов почел долгом представиться по приезде в деревню вашего высокоблагородия! – отрапортовал унтер.
– Весьма приятно. Пожалуйте ко мне, – ответил Вахрушов. – Но прошу простить за неустройство, я здесь по-походному.
Через переднюю вошли в большую комнату, занимавшую угол дома, верно прежнюю залу. Но сейчас в ней стоял только овальный стол перед диваном, застланным постелью, три стула да бюро.
Хозяин указал гостю на стул, сел сам и спросил:
– Вы где же служите и по какой надобности пожаловали?
– Служу в роте дворцовых гренадер при собственном его величества Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, а прибыл в отпуск к родителю своему, крестьянину вашего высокоблагородия Ивану Ларивонову. – И, достав из-за борта мундира отпускной билет, Иванов подал его хозяину.
Тот глянул, уважительно склонил голову перед подписью министра двора и возвратил со словами:
– Милости просим. Припоминаю, что дядюшка Иван Евплыч говорил мне про вас, но последнее время столь невнятно выражался… Так не угодно ли чаю, кофею? Я сейчас прикажу.
– Никак нет, не извольте беспокоиться. Поспешил принести вам почтение. – Иванов встал. – Честь имею-с.
– Однако мне крайне интересно расспросить про службу вашу, про дворец и прочее в столице. Может, пожалуете запросто часа в два? Но не взыщите, я тут по-холостяцки, чем бог послал…
– С превеликим удовольствием, – сказал Иванов и вышел.
Молодой смазливый лакей и подросток-казачок, заглядевшись на его форму, оторопело отскочили, сторонясь у выходной двери.
«Да, по обхождению не Евплычу чета. Но взгляд вострый, наметанный, – думал Иванов, шагая по улице. – Раз запросто звал, следует вицмундир надевать и со шляпой. Да письма прихватить, ежели речь нынче же про купчую зайдет. И подсчетную свою бумажку достать да перечитать, которую с Андреем Андреевичем составляли».
В назначенный час он снова подошел к крыльцу барского дома, во всю дорогу от отцовской избы не надевши шляпы, в которую для сохранности печатей положил рекомендательные письма.
Хотя Вахрушов жил по-походному, но стол был накрыт свежей скатертью и приборы исправные, в графине и бутылке с иностранной наклейкой зеленели и желтели напитки. Постель была убрана, хозяин тоже приоделся в военный сюртук без эполет, из-под которого глядели свежие воротничок и манжеты.
– Однако парадная форма вашей части отменно красива, – сказал Вахрушов, когда они сели. – Прямо камергером выглядите. Мне довелось служить при сенаторе и камергере Болгарском, так у него точно такое шитье на груди и рукавах было.
– Сказывали, сам государь нам форму придумали и нарисовать изволили, – ответил Иванов.
– А что за мех на том кивере?
– Медведь-с.
– Весьма внушительно! Эй, Ваня, прими от господина офицера шляпу и саблю. Да подавай кушанье.
Вот когда пригодились уроки поведения за барским столом, все виденное в домах Одоевского, Жандра и Пашкова. Едва не забыл снять перчатку, да вовремя спохватился и небрежно бросил к другой, положенной вместе с шляпой и письмами рядом.
Хозяин не уговаривал пить, так что за весь обед пропустили по две рюмки дреймадеры, а к водке не притронулись. И суп, и рыба, и жаркое – все оказалось превкусное, видно, повар Вахрушова был мастер, что унтер и похвалил.
– Недаром же в Полтаву на кухню князя Репнина учиться отправлял и двести рублей выложил, – ответил хозяин.
Во время обеда и особенно после него, когда закурил трубку в ожидании кофею, поручик задавал гостю вопросы по части дворца и двора, довольствия роты и ее численности.
Когда же подали кофей, то Вахрушов пошел напрямик:
– Однако, любезный Александр Иванович, сколь я знаю людей, то могу предположить, что вы, помимо свидания с сородичами, имеете в сих краях и еще какое-либо дело?
– Так точно, Николай Елисеич, – подтвердил Иванов. – Перед испрошением отпуска у его сиятельства господина министра двора, которому одному подчинена наша рота, я через высоких покровителей обращался за справками к господину здешнему предводителю, чтоб узнать, жив ли прежний хозяин Козловки, который по неумеренности мог уже давно скончать дни и с коим вовсе не хотел иметь дел-с. А весной осведомился, что вы стали владельцем родной моей деревни, и тогда же получил отзыв о наилучших качествах вашей обходительности, после чего решился отправиться на родину, на каковой отпуск благодетельное начальство даровало мне цельных три месяца…
Господин Вахрушов молча смотрел на Иванова, без запинки произнесшего столь длинную речь и всего на миг остановившегося, чтобы отхлебнуть глоток кофею, и затем продолжавшего:
– …с целью просить вас продать мне по ценам, каковые существуют в губернии и о которых осведомлен как через письма господина предводителя, так и будучи проездом в Туле в канцелярии господина губернатора, все мое семейство, как-то: отца, мать, двух братьев и сестру с их потомством, а всего двенадцать душ с крестьянским их имуществом и наделом земли.
Сболтнув о справках в губернаторской канцелярии, Иванов на миг запнулся.
– Даже губернатору о вас писано? – осведомился Вахрушов.
– Генералу Зурову и супруге их имею о своем деле не одно письмо. Но его превосходительство выехали в город Венев. Обратно будут завтра, как мне сообщил чиновник в канцелярии.
Наступило короткое молчание. Поручик, очевидно, соображал, как повести дело дальше.
– А какие цены на людей вам сообщили? – спросил он.
– На здорового работника восемьдесят рублей серебром, на бабу таких же качеств – пятьдесят, на стариков и детей – десять – двадцать рублей, – ответил Иванов.
– Та-ак-с, – протянул Вахрушов. – Хотя цены занижены, но посмотрим допрежь всего, что за семейство, сколько в оном и какого возраста душ. Я не то что Иван Евплыч, торговать людьми не в моих правилах, но бывают случаи… – Он встал, подошел к бюро, отомкнул его ключом, достанным из кармашка где-то на груди: – Вот-с купчая крепость от февраля двадцать пятого дня сего года. Семейство Ивана Ларионова, не так ли? – Он подсел к столу, отодвинул свою чашку и разложил бумаги.
Иванов вынул из шляпы записку с ценами вместе с письмами и положил около своего прибора. Вахрушов покосился на них.
– Это что же-с?
– Письма к господину губернатору от покровителей моих на тот случай, ежели с вами сойдемся в ценах и понадобится, чтобы без задержки выполнили сделку в гражданской палате.
Поручик не выдержал:
– Позвольте полюбопытствовать, от кого-с?
Иванов прикрыл их рукой:
– Зачем же, Николай Елисеич? Выйдет, будто я именами сановников козыряю. Прежде ваше слово…
– Ну что же, за тех, кого по восемьдесят назвали, я менее ста взять никак не могу.
– Так ведь сотню за рекрута безупречного девятнадцати лет дают, а тут один всего такого возраста, брата моего Сергея внук, а остальные двое – братья мои, возрастом за пятьдесят, и племянники тридцати пяти и тридцати трех лет. Возможно ли их с рекрутами равнять? – возразил Иванов.
– Вам ли не знать, Александр Иванович, каких рекрутов часто в присутствие сдают? – усмехнулся Вахрушов. – А племянник ваш Михайло столь сметлив и телом здоров, что за него и двести рублей взять мало… Однако позвольте узнать ваши наметки. Я буду их себе записывать, чтобы после иметь суждение.
– Извольте-с. Иван Ларионов, родитель мой, хотя ему за семьдесят и в работу вовсе не годен, оценен мной в тридцать рублей, а матушка Анна Тихоновна, тех же лет, – в двадцать рублей; братья Яков и Сергей, оба под шестьдесят, – в пятьдесят каждый; женки Наталья и Домна – по тридцать рублей. Итого за два старших поколения всего двести десять рублей серебром. Дети последних Михайло и Сидор – по семьдесят рублей, Екатерина и Матрена – по тридцать, итого двести рублей. А самое младшее поколение из торгуемых, Яков и Агафья, оба семнадцати лет, – в шестьдесят и сорок рублей, вместе сто рублей. Итого двенадцати душам красная цена пятьсот десять рублей.
Вахрушов подвинул себе бумажку унтера и, приподнявши брови, спросил:
– Сие вы писали?
– Я-с.
– У вас отменно красивый почерк. Где обучались?
– Унтер один грамоте выучил, в ротной канцелярии упражнялся.
Вахрушов, вздохнув, покачал головой:
– Однако с сими ценами я никак согласиться не могу.
– Которая же вам неудобна?
– Да все против здешних обычных весьма занижены.
Унтер решил напрямик атаковать:
– Но позвольте спросить, Николай Елисеич, почем вы сами покойному родственнику платили?
Господин Вахрушов насупился:
– Моя покупка совсем иное-с. Именно по родству все шло. Так ведь и сказано в купчей: «Продаю племяннику моему поручику Вахрушову», – он ткнул в бумагу перстом. – А мы с вами в родстве не состоим.
«Кажись, испортил все дело», – подумал Иванов с огорчением.
Но собеседник его уже овладел собой:
– Однако хочу полюбопытствовать, от кого же сии письма к господину губернатору?
– Извольте-с. На каждом внизу проставлено имя и чин писавшей особы. Но я крайне ихние печати оберегаю, чтобы в целости вручить. Сие от действительного статского советника Жандра, ныне ведающего канцелярией морского министра, а до того управлявшего военно-счетной экспедицией. Второе – от действительного же статского советника Жуковского, воспитателя наследника-цесаревича. Третье и четвертое – к генералу и генеральше от флигель-адъютанта Лужина, который был шафером на свадьбе господ Зуровых. Пятое – от генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского и шестое – от камергера Пашкова, богатейшего помещика и в прошлом сослуживца господина Зурова.
Вахрушов внимательно просматривал надписи на конвертах и печати, после чего сказал с выражением сожаления:
– Письма сильны-с. Но цены, вами объявленные, все же низки.
– Они вполне согласованы с теми, что сообщены из сих мест господину Жандру, который вел переписку с предводителем, а также названы мне в Туле в губернаторской канцелярии, – возразил Иванов, подумавши при этом: «Врать так врать!», и добавил: – Также руководствуюсь капиталом, каковым располагаю на покупку не только сих душ, но и надела их в одиннадцать десятин, строений, скотины и прочего имущества.
– Каков же капитал, дозвольте узнать? – спросил поручик.
– Три тысячи пятьсот ассигнациями и ни копейки более.
– Однако можно на недостающую сумму выдать долговую расписку с последующей досылкой из Петербурга.
– На сие я никогда не решусь, ибо все под богом ходим.
– Так-с. – Вахрушов поднял глаза к потолку. – Ежели по моим подсчетам души надлежит оценить в семьсот рублей, и то исключительно по уважению к вашим покровителям, – последнюю фразу он пробормотал скороговоркой, кивнув в сторону стопки писем, – то на все остальное остается сто семьдесят пять рублей серебром… Нет, нет, или вы прибавьте значительно, или дело наше врозь. Видит бог, не могу отдать за три тысячи пятьсот с наделом, постройками и живностью. Прибавьте тысячу ассигнациями, и по рукам. Хоть завтра же в Тулу на моих лошадях. У меня туда как раз дело.
– Не могу, Николай Елисеич. Имею сверх трех тысяч пятисот рублей только еще триста, чтобы оплатить казенные сборы и на обратную дорогу столько же.
– У вас казенная подорожная и тележка своя, как я слышал.
– Но поверстная плата все равно остается.
– Сие составит сто двадцать рублей за две лошади, ибо вас Михайло на своих до Москвы доставит. А там попутчика с половинной оплатой сыщете.
– То долго выйдет, а из отпуска я в срок явиться обязан.
– Ну что ж, разойдемся, ибо не могу продать себе в убыток… Еще чашечку кофею. Я свежего велю сварить. Турецкий, настоящий. У донцов любовь к кофею перенял, а они – от турок.
– Нет, покорно благодарю, я уж тогда пойду восвояси.
– Сейчас видно, что вы в торговом деле новичок.
– Из чего же сие заключаете?
– Да как же-с! Вы прибавьте, я спущу немного. Ну же платите мне четыре тысячи двести пятьдесят, и сейчас набросаем черновую купчей крепости.
– Но я таковой суммы на покупку не имею.
– Так я же говорю, что распиской удовлетворюсь, даже без свидетелей писанной, под одно ручательство таких писем.
– Покорно благодарю, но никогда долгов не делывал. Могу прибавить двести пятьдесят рублей, но то мой последний предел, ибо за положенными казной расходами придется в Петербург пешком идти.
– Да вы мундир расстегните, Александр Иваныч. Мы люди уже свои, какие церемонии, а то у вас весь лоб в поту. Прибавьте еще пятьсот рублей, и по рукам.
– Нечего мне прибавить. Вы спускайте цену, Николай Елисеич.
– Так я же спустил. Просил четыре тысячи пятьсот, а отдаю за четыре тысячи двести пятьдесят.
– Вам надобно еще спущать. Ведь вам получать, а мне отдавать кровное. С родных разве смогу настоящий оброк брать?
– И напрасно-с. Их не разорите, а свои затраты в десять лет покроете. Если бы дядюшка был разумным помещиком, то со здешних крестьян в достатке до ста лет дожил. Ваш Михайло и таких еще трое могут большой оброк вносить и в купцы выйти.
– А они всё в карты проигрывали, господин предводитель писали, – сказал Иванов. И осекся: ведь и Вахрушов с карт здешнюю наживу начал…
Но поручик нисколько не смутился – верно, не думал, что Иванову столь подробно все известно.
– И еще обжора, бабник, даже когда паралич ударил, – подхватил он. – Да расстегните хоть крючки на воротнике, право. Сам мундир носил, знаю, а ваш еще такой щеголеватый, как облитой сидит… Ну-с, я еще пятьдесят рублей спущу. Четыре тысячи двести будет. Ведь земля у вашего семейства хороша, и пашня, луг, выгон – все есть. И скотина навозу вдоволь доставляет. А потом, Александр Иваныч, от того, что один двор в деревне будет чужой, я как помещик терплю ущерб своей власти.
– Какой же ущерб? От одного помещика перешли к другому. Сколько таких деревень, где по два и три двора разным владельцам принадлежат, – возразил Иванов. – А что мне платить мало будут, то никого не касается, я настрого прикажу, чтоб о том молчали. А в случае моей кончины, как жена моя распорядится, того, право, не знаю, наверное оброк повысит.
– Помилуйте, какая кончина! Вы сто лет прослужите, такой молодец. Только в чины вышли и выше пойдете. Подумать только! У государя на виду! Его величество вас в лицо знают?
– Того не могу сказать уверенно, но его сиятельство министр императорского двора точно что знают и отличают.
– Вот видите-с, – обрадовался Вахрушов. – Значит, и повышение у вас будет скоро, а вы прибавить цены не хотите.
– Не могу-с. Ведь все рассчитано вплоть до расхода по купчей крепости. Ведь я за нее платить должен.
– Само собой, таков уж закон. Я даже скажу точно, что на таковскую сумму вы заплатите сто восемьдесят или двести рублей. Ведь я сам весной с покойным дядюшкой купчую оплачивал.
– А у меня еще дорога обратная и дома жене с дочкой ничего не оставлено. Верно, в долги войдут…
– Все понимаю, но спустить более не могу, – вздохнул Вахрушов. – Я со своей цены триста рублей убавил.
– И я со своей двести пятьдесят прибавил…
Торг замер. Собеседники сидели мокрые, красные, усталые. На столе появился самовар. Выпили чаю со сладкими пирожками. На колокольне ударили к вечерне – пять часов. Хозяин рассказывал, как служил в комитете преобразования Войска Донского, как председатель его граф Чернышев, нынешний военный министр, боролся с атаманом Денисовым, потом с Иловайским, как бунтовали казаки и крестьяне близ Таганрога, требовали вольности.
Тут у Иванова вдруг стали слипаться глаза, да так, что пришлось протирать их платком. Две рюмки вина, что ли, сказались, или от торга утомился, будто от тяжелой работы.
Заметив это, господин Вахрушов приказал убрать со стола и, когда унтер стал застегиваться и взялся за шляпу, сказал:
– Ну вот-с. Мое последнее слово, твердое и окончательное, от которого и на копейку не отступлю, – четыре тысячи, и берите своих родичей со всем их скарбом, наделом, строением…
– Ежели на ваших лошадях в Тулу и обратно, да не откладывая, пока губернатор снова куда не отъехал, – сказал, как бы колеблясь, Иванов. – Ох, как-то в Петербург доберусь… – И он пожал протянутую руку.
– Ничего-с, с братцев часть оброку вперед возьмете, – посмеивался поручик. – А в губернию я послезавтра сбираюсь, так что утром рано за вами заеду. Теперь уже на законном основании надо еще по рюмочке. Да сейчас же и купчую набросаем. Мне завтра некогда будет…







