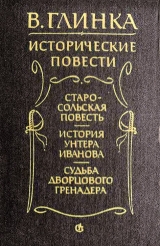
Текст книги "Судьба дворцового гренадера "
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– Думаешь, Иваныч, я про одних гренадер сочинять могу? Нет, брат, вот, к примеру… – Он указал на потолок: —
Петухом звать капитана,
Не обидно ли для кур?
Для Лаврентьева-болвана
Не сыскалось в жены дур.
Чин за чином он хватает,
До полковника дойдет,
Но со скуки подыхает,
Кто знакомство с ним сведет.
Кроме фрунта и артикул,
Он не смыслит ни аза
И, осипнувши от крику,
Грозно вылупит глаза…
– Ты лучше бы забыл такое сочинять, – посоветовал Иванов.
– Так я же только тебе одному.
– Мне ничего, а сболтнешь кому, и задаст тебе Петух жару.
– При полковнике бояться нечего, а вот если в командиры роты выйдет, тогда натерпимся… Но, понятно, твоя правда. Знаешь, как умнейший Иван Андреевич Крылов написал: «Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют». Что господа друг другу тут же во дворце шепчут, нам и запоминать бы не след. Хотя бы насчет нонешнего государя. Те же, кто в перегибе перед ними сейчас обмирали, через минуту за углом друг другу:
Едва царем он стал,
Как сряду начудесил —
Сто двадцать человек в Сибирь сослал
Да пятерых повесил…
Верно, и при тебе болтали? А понятно, каждый из нас, такое услышав, своих лучших офицеров помянет, которые за двадцать пятый год пострадали. Разве я когда забуду, к примеру, ротного своего Михайлу Михайловича Нарышкина? Солдата пальцем не тронул, не обругал разу. Или Бригена Александра Федоровича? Или Богдановича, который 15-го числа сам застрелился? Однако то всяк про себя таит, а вслух… – Савелий хлопнул себя ладонью по губам: – Ну, баста!
Забуду стих про Петуха,
Раз упреждаешь от греха!..
В июне Иванов решился наконец доложиться полковнику и, будучи в канцелярии один на один, попросил отпуска осенью.
– Когда хошь, братец, свои двадцать восемь ден получишь, – сказал Качмарев. – Мы даже с Настасьей Петровной удивлялись, отчего не съездишь сродственников поглядеть. И не так ведь далече. Есть гренадеры, которые в Малороссию и даже один в Уфу ездил.
– А мне, Егор Григорьевич, надо сряду на три месяца отлучиться.
– Зачем столько? Ведь ты же из-под Тулы взят.
В ответ унтер рассказал свое дело от первой мысли о выкупе близких до нынешнего дня.
– Ну, Иванов, опять надивил! – качал головой полковник. – Хотя, по правде, мне не раз на ум приходило, что деньги зачем-то копишь, а на торговых людей или скаредов с Анютой вовсе не схожи. Однако такое и разу не взошло. А дело, прямо сказать, божеское. Только как же князю пояснить? Может, доложить, что в Сибирь едешь и туда подорожную выписать? Так не люблю я начальству врать. И князь тебя отличает: «От Иванова, мне сказали, ни разу водкой или табаком не воняло – редкий служака». И недавно опять хвалили: «Вот у кого все вовремя и по уставу. Часы по его смене проверять можно. Побольше бы таких унтеров». Может, тебе и три месяца дозволит… Ну ладно, дай подумать, как лучше докладать, раз время до осени… Только вот что: гляди, в роте пока никому. А то пойдут звонить да роптать, что тебе отпуск больше ихнего хлопочу. А будет от князя приказ, тут уж все рты разом захлопнут.
Иванов хотел было просить полковника, чтобы сам не обмолвился жене, да посовестился. Но Качмарев сам, помолчав малость, сказал:
– И я, братец, тоже никому. Уж согрешу против супруги. И вот еще что: я как князю докладать стану, то умолчу, что сродственникам волю давать сбираешься. Стал офицером и захотел хутор завесть, для того и покупаешь души. Прозвание-то другое у них?
– По отцу моему, Ларивоновы идут… Вам видней, господин полковник, как лучше доложить, – сказал Иванов.
Когда вечером пересказал разговор Анюте, она спросила:
– А почему князю все, как есть, не рассказать? Не каменное же у него сердце?
– Верно, оттого, что господа полагают: в каком звании родились, в том и оставаться навек должны, – пожал плечами унтер.
– Несправедливые люди так думают. Небось сами чинов и богатств себе хотят. И как же полковник князю соврать будто боится, а тут придумал превратно представить, будто ты собственности ищешь. Разве то не вранье будет?
– Вранье, да, видно, для отпуска так надежней.
– Ну, а потом как? Выйдет отчего-нибудь, что сряду освободить не придется, и через год для того снова отпрашиваться? Все такое, Санюшка, разузнать сейчас надо. А то одно лганье за собой другое потянет.
– Ладно, спрошу у Павла Алексеевича, он все досконально знает, раз столько народу на волю отпустил, – ответил Иванов. – Может, сделать придется, будто потом за деньги выкупились.
Анна Яковлевна передернула плечами, но ничего не сказала.
Однако камергер выехал с супругой на лето под Новгород, и, чтобы посоветоваться, унтеру пришлось отправиться к Жандру.
Нынешним летом они снимали домик на окраине парка графа Кушелева в Полюстрове, и, сменясь с дневного дежурства, Иванов выступил туда походом. Уже на Выборгской его окликнул ехавший на дрожках Андрей Андреевич:
– К нам, Александр Иванович? Садись, поедем.
– Нам в городских экипажах ездить нельзя, – ответил Иванов.
– Но ведь ты же прапорщик теперь.
– По правам точно, что прапорщик, а по званию в роте – унтер. Встретится придирчивый начальник, и брани не оберешься.
– Ну, тогда и я пройдусь, – сказал Жандр, отпуская извозчика. – Я в клубе обедал, так прогуляться весьма полезно.
Выслушав сомнения унтера, он сказал:
– Пусть Анна Яковлевна не тревожится. Отпуск на волю одной семьи – дело пустое. Ты отсюда пишешь бумагу в епифанский суд, и там за причитаемую казне сумму всё местные крючки произведут, хотя, конечно, придется их «подмазать», чтобы не тянули. Освобождение с землей несколько хлопотнее. Однако никто тебе помешать не может написать, будто выкупились и за надел заплатили… Но в рассказе твоем меня заняло, что умный и опытный Пашков употребляет такой ход в письме, чтобы понудить губернатора ускорить процедуру, и не менее опытный Качмарев доходит до того же в докладе министру двора. Как у нас все начальствующие лица слова «вольность» боятся! Покупке крепостных охотно посодействуют, но если им же пожелают свободу доставить, так сразу вопросы: кто, зачем, почему?.. Не будет ли от сего нарушения «священного» порядка?.. Не зря наших с тобой знакомых давних всё еще забыть не могут. На важнейшие права посягались!.. – Жандр осекся и огляделся. Но вблизи никого не было, и он закончил: – Так что делай, как умные люди советуют. А с купчей крепостью в кармане, может, тебе для начала их и точно на небольшом оброке в свою пользу оставить? – Жандр покосился на собеседника.
– Что вы, Андрей Андреевич, Каин я, что ли?
– Ну, ну, пошутил… А вот и наше палаццо, где Варвара Семеновна у калитки. Сейчас будет нас обедом потчевать.
– Так мы же оба обедали.
– Знаешь поговорку: палка за палкой плохо, а обед за обедом хорошо. Не будем ее огорчать.
«Палаццо» оказалось большой избой из двух комнат с людской и кухней. Правда, обед на обед вышло вполне хорошо, по крайней мере Иванову, прошагавшему верст шесть-семь. Но даже запахи вкусных блюд порой перебивал аромат цветов на клумбах под окнами. А после обеда Варвара Семеновна сказала:
– Ведь я по привычкам помещица. Кабы не служба Андрея Андреевича, разве бы в городе жили? Вот погляди-ка, какие у меня кормушки птицам устроены. И ежика ручного как позову, сейчас вылезет. Фыря, Фыря, Фыря!
И правда, из кустов выкатился еж и направился к Варваре Семеновне, которая подставила ему блюдце с молоком.
– Так ежели тебе самому, друг любезный, сюда прийти недосуг, – сказала госпожа Миклашевич, – то пришли в любой день жену с дочкой. Что все средь камней да дворцов?
Иванов добрался домой, когда Маша и Лизавета давно спали, и Анна Яковлевна начала уже тревожиться. Когда, по обыкновению, рассказал все по порядку, она сказала:
– Андрей Андреевич человек знающий, так что пусть так и криводушничают… А вот нам бы на будущее лето вроде такого домика сыскать. Наверное, с генералов-то дорого берут. А я у мастерицы нашей бывшей спрашивала, которая за чиновника вдового вышла, так у Лесного корпуса за полсотни в лето избушку – комнату с кухней – сымают. Ему, правда, далеко в должность ходить, а место, сказывала, – сосны да песок кругом. Вот бы и нам такое…
– Коли разбогатеем, обязательно снимем, – ответил Иванов, которому самому всю обратную дорогу мерещилось, как Маша, присев на корточки, разглядывает Фырю.
14
– Составили бы с Федотом рапорт насчет твоего отпуска, – сказал полковник Иванову, встретив его во дворце. – Тут надо чего-нибудь почувствительней. К примеру, что, надеясь прослужить в роте, доколе угодно попечительному начальству, унтер Иванов озабочен, однако, судьбой жены и дочери, о приданом коей обязан пещись, а посему вознамерился приобресть в собственность столько-то душ. Ну, и в сем роде узоры. Сочините?
– Постараемся. А велик ли весь рапорт должен быть?
– Не больше странички. Его сиятельство долгих не любит. Нечего, говорит, казенную бумагу зря переводить.
Придя в канцелярию, унтер передал Федоту слова полковника. Суть дела он рассказал писарю раньше, у себя за воскресным пирогом.
– Что ж, «эта службишка не служба», как говаривал Конек-Горбунок, – сказал Федот. – Вот придете со смены дежурных, и прочту вам бумагу, набело переписанную.
– Зачем набело? Вдруг полковник что переменит?
– Ничего не станет менять. Хотите об заклад побьемся? Разве Петух заведет свою польку, так что перевру.
Действительно, через час под рапортом полковник уже вывел подпись и сказал унтеру:
– В понедельник в Царское повезу, где сейчас тихо, государь на маневры в Курск уехал. А ты, Иванов, в тот день свечку Петру и Павлу ставь, чтобы князь в добром духе случился.
В понедельник унтер дежурил, свечи ставить не бегал, но очень тревожился. Ежели отпуска не дадут, надо в отставку идти, все исполнить и опять за щетки, с плохим-то глазом!..
С такими мыслями вышел из Шепелевского дома около четырех часов – время приезда полковника из Царского. Посмотрел на редких прохожих и еще более редкие экипажи – с Миллионной почти все господа с двором или по поместьям… Да, доходнее здешней службы не сыскать… Разве камергер возьмет с Красовским по имениям ездить, бурмистров проверять. Такое за счастье почтешь, когда к пенсии в треть основного жалованья подспорьем щетки останутся по шести гривен за штуку… Ежели не разрешат, придется идти в отставку, хоть в следующую осень, когда десять лет в роте стукнет и пенсия удвоится. Значит, на год выкуп отложить?.. Ох, половину пятого пробило, надо смену вести и Тёмкина просить полковника постеречь, хотя службе писаря в четыре часа конец.
Когда Иванов возвратился, Качмарев, стоя в канцелярии, отряхивал пыль со шляпы и строго посмотрел на вошедшего.
– На, получи, – сказал полковник, передавая папку стоявшему навытяжку писарю. – Здесь унтера Иванова судьба сокрыта… – И вдруг, не выдержав роли, улыбнулся и сказал: – Разрешены тебе все три месяца, раз до сих пор николи отпуска не брал. Однако, как всегда, князь поворчал: «Не успеют в благородия выползти, а уж хутора подавай, а потом деревни. Ты гляди, Качмарев, чтоб в отставку раньше шестидесяти не просился… Пусть истинно в приданое дочке покупает…» А сейчас читай, Федот, какую надпись учинили. Я очки не хочу доставать.
– «С первого октября дозволяю отпуск на три месяца для покупки крестьян со двором по сему рапорту», – прочел Тёмкин.
– Вот тебе и все! – сказал Качмарев. – Нынче у нас девятнадцатое июля, более двух месяцев тебе на приготовление к вояжу. И опять скажу обоим: до времени никому ни слова.
…Пошел к Жандру, доложил, что отпуск разрешен.
– Будет письмо от князя Белозерского. Он посоветовал и мне губернатору написать. А ты добывай от Пашкова. Чтоб они у тебя наготове за пазухой, так сказать, лежали…
На Сергиевской сказали, что господа еще в деревне. Приедут в конце сентября. Отправился к фельдшеру Николаю Евсеичу, который так похудел, что едва его узнал. В комнате было прибрано, и на столе – нетронутая тарелка с жарким, а сам толок в фарфоровой ступке что-то, но тотчас оставил, обрадовавшись гостю. Хорошо, что у Иванова оказались с собой деньги: пригласил, как в прошлый раз, в трактир. Угощал чаем с сахарными кренделями, и старик оживился, подбодрился. Рассказал, что Новгородскую вотчину барин раньше не любил, раз поблизости находились военные поселения, а теперь их изничтожили, вот и поехал над Волховом пожить. Продиктовал Иванову адрес господ и рассказал, что с новой женой камергер живет дружно. Она ему вечерами читает вслух, а он пасьянс раскладывает. Но где же до того, что с Дарьей Михайловной бывало! Там восторги и счастье, а тут тихость, будто разом старые стали, как он сам, Евсеич…
В тот же вечер сочинил просьбу о присылке письма, наутро дал проверить Тёмкину по части ошибок и отправил.
Он все время старался теперь заняться чем-нибудь, чтобы не думать о поездке. А то прямо лихорадкой колотило, как вспомнит, что скоро увидит отца с матерью, братьев, родное село. Шутка сказать – через двадцать восемь лет туда приехать! Не говоря уж, что выкупать своих из кабалы отправляется. Господи боже! Восемнадцать лет назад по той же дороге проехал с ремонтерской командой и даже не мечтал про нонешнее. Царство небесное вахмистру Елизарову, что в первом разговоре при купании не высмеял его, а поддержал, рассказал про улана, который на выкуп любимой девицы деньги копил… А в перерыве полуторамесячном меж присутствиями и правда до Красовского бы доехать и уговорить к Пашкову перебраться на службу. На самое доброе дело остатки силы отдать. И уж жили бы с Филофеем, как у Христа за пазухой, вот как Евсеич – на дом кушанье носят…
В одно из суточных дежурств мужа Анна Яковлевна с дочкой и Лизаветой съездили на дачу к Жандрам. И назавтра у Маши только и было рассказов отцу про ежа Фырю.
– А животик у него без колючек, тепленький, и как его подхватишь, то иголки опустит и сидит смирно. Видно, ему на моей ладошке хорошо было. Меня Варвара Семеновна научила его не бояться и под брюшко брать. А ножки у него с коготками, но меня разу не царапнул и все подглядывал из-под лобика. – Маша изобразила, как подглядывал еж, опустив голову и наморщив лоб. – Фырей его прозвали за то, что фыркает, когда бегает. Я хотела его к нам в отпуск отпросить, пусть бы и ты на него налюбовался, да мамонька сказала, что без травы и без червяков жить не может. Правда ли, что бедных червяков ест?
– Раз мамонька сказала, значит, правда.
Тёмкин, бывший в курсе дел Иванова, советовал ехать до Москвы и дальше дилижансом, ежели они ходят до Тулы.
– Все на людях будете, – говорил он, – одному деньги большие на почтовых везти прямо-таки боязно.
– Чего бояться? – возражал Иванов. – Я еще за себя постою, да и при оружии. В дорогу в вицмундире и в шляпе поеду да при сабле. Может, еще пистолет у полковника попросить? – пошутил он.
Шутки шутками, а как везти большие деньги и как оборонить себя от лихого попутчика или соночлежника? Что мыться в бане не придется неделю или десять дней, то еще не горе. То ли в походах бывало. Но, видно, опять черес придется под рубаху надеть и деньги крупными ассигнациями в него зашить.
– В дилижансе попутчики перезнакомятся и на людях украсть трудно, – сказал Жандр, которого просил обменять капитал на сторублевки. – Но пять суток едут. А ежели почтой да чаевых не жалеть, то за трое в Москве будешь.
Сходил в заведение дилижансов. Узнал, что место до Москвы в карете стоит семьдесят пять рублей ассигнациями и едут будто четыре дня. Тут же выслушал разговор двух торговых людей, что внутри ехать душно, обязательно какая-нибудь барыня окошки открывать не дает. А снаружи, рядом с кондуктором, конечно, воздух чистый и стоит место тридцать рублей, но зато ежели дождь, то укрывайся как знаешь… Вот и думай, раз ехать в октябре!
И вдруг все тревоги разрешились. Толстомордый лакей передал приглашение на Сергиевскую. Назавтра пошел к полудню.
Швейцар доложил, что господа третий день, как прибыли из деревни, ныне барин уже выехали со двора, а барыня велели просить наверх. Лакей проводил в гостиную, где хозяйка сидела за рукодельем. Белокурая, в веснушках, с круглым миловидным лицом, одетая в простое, синей шерсти платье с белым воротничком, встретила унтера приветливо и просила садиться. Объяснила, что Павел Алексеевич уехал в Сенат, где разбирают претензии его двоюродного брата, и поручил ей принять гостя и предложить сделать путь до Москвы с ними. На 6 октября назначено венчание ее младшей сестры, на котором они хотят присутствовать. И еще просил передать, что к тому времени вызывает с отчетом в Москву приказчика из рязанской деревни, так что до Тулы доедет без почтовых с верным человеком.
Иванов благодарил, радуясь вести. Радовался и тому, что у Павла Алексеевича такая приветливая супруга и никак не изукрашена – колец, браслетов, серег на себя не нацепила. Только вокруг шеи жемчужная нитка два раза обвита. Не та ли, что Дарья Михайловна носила?.. И, будто прочтя его мысли, барыня сказала:
– Узнаете жемчуг? Перед смертью мне надела и сказала: «Носи всегда, я его любила». Я сначала сняла, Павлу Алексеевичу не хотела напоминать. Но и он те слова слышал и пенял, что их забываю. Вот и ношу, только часть под платье прячу. Что красавице идет, на обыкновенных женщинах неуместно…
Иванов не нашелся, что сказать, так явственно вспомнил жемчужную нить, игравшую на светло-зеленом платье, когда пела на Литейной с виолончелью и роялем. Так пела, что до сих пор помнит восторг, забвение всего, которые тогда охватили…
А эта, видать, добрая барыня. Евсеич говорит, что до Дарьи Михайловны далече – так разве ту повторить возможно?
И в это лето гулял с Машей по Мойке, по Летнему саду, добирались до столь памятного родителям Екатерингофа, побывали еще у Жандров в Полюстрове. Гораздо больше, чем домашние игрушки, Машу занимали цветы и травы, насекомые, зверьки. Однажды, когда в Екатерингофе набрели на дохлого крота, так расплакалась, что едва успокоил, уверяя, что крот состарился и без болезни заснул, как вянут цветы, как листья осенью опадают.
– Но вы с маманей ведь еще не старые? – спросила Маша. – Вы не заснете, меня одну не оставите?..
С другой прогулки принесли домой серого котенка, который долго бежал по Конюшенной площади около самых ног, не боясь проезжавших рядом экипажей, и все, задрав голову, смотрел на Машу, пока не взяла на руки, сказавши отцу:
– Папаня, ведь он к нам в кошки очень хочет. Давай маму просить, чтобы позволила оставить. Слышишь, как сряду запел?
Они попросили вместе, Анна Яковлевна разрешила, и котенок, названный Мурликом, водворился в квартире.
А однажды, когда он укладывал дочку спать, сказала:
– Из деревни привези живого зайчика. Они хорошие, Лиза говорит, никого живого не едят, только капусту да морковку.
И пришлось объяснить, что звери, которые родились на воле, не могут жить в комнате, что зайчик прыгнет в окно и разобьется, а в клетке ему совсем плохо будет. Насчет того, что Мурлик непременно перегрызет заячье горло, Иванов, понятно, не рассказал, но подумал, что, если Маша увидит, как ее кот ест мышонка, – вот слез-то будет! Но ведь все равно их не миновать…
Дни заметно стали короче. Пожелтел Летний сад. Двор возвратился в Петербург, и для гренадер потянулась обычная служба. Ездившие в отпуск возвратились, а Иванов все молчал о своем.
Однажды под вечер, проходя Фельдмаршальский зал, он увидел флигель-адъютанта Лужина, разговаривавшего с начальником конногвардейского караула, отдал честь, как теперь положено, уже по-офицерски, двумя пальцами к шляпе, и прошел мимо.
– Александр Иванович! Нехорошо старых друзей не признавать! – раздалось сзади с немецким акцентом.
Оказывается – поручик барон Фелькерзам, один из молодых офицеров, что заступились за него перед Эссеном. Но без каски, которую держал под локтем, не узнать его, так к тридцати годам облысел. А улыбка та же – добрая и открытая. Расспросил про службу, поздравил с производством. Потом сказал:
– Ну, господа, я пошел на свой караул.
– К своему караулу, Карлуша! – поправил Лужин. – Вот ты так при государе скажешь, он рассердится.
– Я при государь о дне команды кричу, которые не ошибусь. А в светской беседе по-французски я твердый.
– Душа у тебя, слава богу, твердая, – шутя обнял его Лужин, после чего удержал за локоть Иванова: – Торопишься? А помнишь, как с Бреверном в этом карауле стояли под самое наводнение?.. Зайдем ко мне. Барону нельзя отлучиться, а я один вечер коротаю. Их величества запросто в гости уехали. Эй, подай нам огня! – крикнул он лакею, маячившему в Министерском коридоре.
Вошли в дежурную комнату, освещенную пока только из двери. Лужин присел за письменный стол, унтер – напротив на диван, крытый сафьяном. Лакей внес свечу, зажег канделябры на столе. Ротмистр набивал трубку, а сам говорил:
– Расскажи, как живешь. Женат? Дочка есть? И я вот недавно женился, сыскал наконец невесту по сердцу. Не раз бывал влюблен на неделю, а до женитьбы дозрел только за тридцать лет. – Он скрутил бумажку, зажег от свечи и раскурил трубку.
Иванов поздравил, как полагается, а сам думал: «Спросить про Зурова? Ведь предлагал помочь, если понадобится…»
– Иван Дмитриевич, – решился он, – знаком вам генерал Зуров?
– Который в Туле сейчас? Даже весьма. Старшим шафером на его свадьбе был. А на что он тебе понадобился?
«Не разболтает?» – подумал Иванов и начал:
– Мне вот как письмо к ним требуется. Я в тульские края в отпуск собираюсь. Родом я оттуда, и надобно покупку одну совершить, которую без ихнего приказу, люди сказывают, чиновники так затянут, что никакого отпуска не хватит.
– Письмо рекомендательное с удовольствием напишу и думаю, на пользу пойдет. Но что за покупка у тебя? Или секрет?
– Вам скажу, только, будьте добрые, никому не передавать.
– Изволь. Сглазу боишься? То, братец, одно суеверие.
Иванов рассказал все без утайки. Ротмистр слушал, окутанный табачным дымом. Когда унтер смолк, Лужин сказал:
– Ну, спасибо, брат, за откровенность. Еще раз убедился, что не зря тебя тезка твой любил. Будет письмо Зурову и второе – к его супруге. Губернаторши порой важней губернаторов.
– А про князя не слышно чего? – спросил Иванов и выглянул в коридор – лакей сидел далеко, на повороте к покоям министра.
– Все по-прежнему, – ответил Лужин. – Просился на Кавказ рядовым, но отказано. Между тем Александра Бестужева два года как туда перевели, и за отличие в прапорщики представлен. Отменную храбрость выказал и на бивуаках романы пишет, которые разрешено печатать, хотя под чужим именем. А ставши офицером, может отставку взять… Так-то, Александр Иваныч, у нас с тобой одна судьба – во дворце сидим в тепле и чистоте, про них вспоминаем, а им, чтобы на волю выбиться, какие испытания надо пройти!.. Ну-с, как снова маршировать мимо будешь, загляни-ка сюда. Я сейчас Зуровым стану писать, благо все тут по должности – конверты, бумага, сургучи.
– Только, Иван Дмитриевич, не обмолвитесь кому-нибудь…
– Э, чудак! Кому мне сказать? Слово даю.
Через полтора часа Иванов получил письма на имя тульского губернатора и его супруги Екатерины Александровны.
А спустя несколько дней в полутемных сенях Шепелевского дома его окликнул Жуковский:
– Постойте, друг мой. Ведь вы Александром Ивановичем Ивановым зоветесь? Так проводите меня, ежели имеете время.
– Куда прикажете. Служба моя ноне окончена, – ответил унтер.
Они вышли из подъезда и, перейдя Миллионную, направились по набережной Зимней канавки. Потом свернули по Мойке к Невскому. Идя ровной, неспешной походкой, Жуковский заговорил:
– Я вчера в гостях встретил господина Жандра, давнее знакомство возобновили, и он пожаловался мне, что князь Белосельский, нежданно государем на Кавказ посланный, не оставил письма, обещанного по вашему делу. Мы и условились каждый от себя генералу Зурову написать, обозначивши все чины и должности, – авось двое статских за одного военного потянут. – Жуковский, улыбаясь, вынул из кармана конверт и подал Иванову: – Вот, получите, и желаю успеха в прекрасном намерении.
– Уж и написали, Василий Андреевич!
– Долго ль умеючи? Ваше дело – нас охранять, а мое – пером скрипеть. Хотел давеча в канцелярии оставить, да вас самого встретил. Ведь Федот – верный человек, не забыл бы отдать?
– Во всем и всегда вернейший. Покорнейше благодарю, Василий Андреевич. Дай вам бог доброго здоровья!
– Вот лучшее пожелание, – закивал Жуковский. – И чтоб брюха сбавить. На антресоли стало трудно лезть. Вам сколько лет?
– Сорок семь без малого.
– А талия как у девицы. Я на шесть лет старе, но все-таки стыдно, что едва жилетом стягиваю, чтобы сюртук застегнуть.
Откланявшись Жуковскому на углу Невского, Иванов решил дойти до квартиры Жандра, доложить о полученных письмах.
Андрей Андреевич еще не приехал из присутствия, но Варвара Семеновна кликнула Иванова в гостиную, усадила и сказала:
– Нынче от князя Белосельского принесли-таки письмо к губернатору Зурову. Видно, оставил, на Кавказ уезжая, а супруга не торопилась переслать. Вот письмо-то. А вчерась Андрей Андреевич на твою мельницу от себя слезницу сочинил. И про Жуковского мне еще сказывал, который мастер писать да и наследников воспитатель. Так что теперь у тебя три письма в руках.
– Пять, сударыня, и еще шестое будет, – поправил Иванов.
И рассказал про флигель-адъютанта Лужина, про его письма к супругам и про обещание камергера Пашкова.
– Ну, тебе хоть сумку, как фельдъегерю, навесить, – засмеялась Варвара Семеновна. – Аль в шапку высокую затолкаешь?..
– Ну как не поверить, что в сорочке родился? – говорила Анна Яковлевна. – И писем от превосходительных целый ворох, и едешь в барской карете. Выходит, надо начинать собирать тебя, раз неделя до отъезда осталась. Первое – нужно укладку приобресть, приличную офицерскому званию, в которой парадную форму не смять да поместить две смены белья и подарков хоть всем женщинам…
Федот радовался за Иванова наравне с Анной Яковлевной, сообщал унтеру, что князь приказал уже послать в штаб гвардии бумагу о выписке подорожной, что заготовили отпускной билет на три месяца. Обещал так учить Машеньку, чтобы к своим пяти годам, к отцовскому приезду, стала читать, как взрослая.
Во время одного из подобных разговоров, происходивших сентябрьским днем в канцелярии, писарь вдруг замер на полуслове. Иванов решил, что Петух над ними снова заиграл на гитаре или еще что выделывает, но Тёмкин указал на открытое окно, где слышались голоса, и унтер уловил такой знакомый звук – звяканье колец на ножнах палаша, когда его поддерживают за эфес.
– Ш-ш-ш! – прошептал Федот благоговейно. – Пушкин!
Он на цыпочках подкрался к окну и, прилегши на подоконник, выглянул на Миллионную.
Иванов тихонько подошел следом и также посмотрел на тротуар под окнами.
Там остановились трое знакомых унтеру господ. По тому, как стояли, можно было предположить, что шедшие из Шепелевского дома Жуковский и Пушкин встретили здесь ротмистра Лужина.
– Ну, прощай, сват. Не проиграйся нынче, как третьего дня. Хотя, знаю, давать советы куда легче, чем самому вовремя отойти от стола, – говорил Пушкин. – А ты знаешь ли, Василий Андреевич, что Лужин – мой сват?
– Как же! – ответил Жуковский. – Тебя сосватал, а сам еще долго на такой шаг не отваживался. Однако и сейчас ротмистера по старой памяти к фрейлинскому подъезду притягивает.
– Полно, Василий Андреевич, – смеялся Лужин. – Вам не к лицу злословить. К тому же именно вы частенько по Комендантской лестнице из парадного этажа не вниз, а вверх направляетесь.
– Ну, я-то «монашеским известен поведеньем», как покойный Грибоедов писал…
«Какой же он сват? – думал Иванов, когда они разошлись. – Будто Тёмкин говорил, что жену Пушкин из Москвы привез…»
– А вы знаете сего офицера? – спросил Тёмкин.
– Один из благодетелей моих, старанием коих в сию роту попал, – ответил унтер и рассказал про Лужина.
Накануне отъезда Иванов разводил дежурных в Эрмитаже. В Предцерковной встретил полковника, шедшего с доклада министру.
– Освободясь, приди к нам на квартиру, – приказал он.
«Верно, наставление хочет дать», – решил Иванов.
Когда унтер вошел в полутемную прихожую, Качмарев сам закрыл за ним дверь на задвижку.
– Горничную услали, кухарка вовсе оглохла, так что болтать никто не будет. Жена моя хочет тебя в дорогу благословить.
Чувствительная полковница ждала около накрытого стола, на котором блестел поднос с бутылкой, рюмки и ваза с печеньем. А пониже груди она прижимала иконку в серебряном окладе.
– Хочу тебя, Александр Иваныч, напутствовать, – сказала Настасья Петровна и слегка шмыгнула уже мокрым носом.
– Спасибо, матушка, – сказал унтер. «С чего бы она, как поп какой? Или оттого, что детей нету?..»– подумал он.
– Стань на колени, – шепнул Качмарев.
Иванов сделал как велено, и Настасья Петровна крестообразно осенила его иконой и дала поцеловать, приговаривая:
– Ну, дай бог всему задуманному тобой сбыться… – Что-то еще пошептала и добавила: – А образ сей с собой всюду вози, он тебе поможет. Ну, вставай теперь. Наливай, Егорушка, наливку. Положи, положи икону на стол, не пей с ней в руке…
– Как на войну меня провожаете, – сказал Иванов, беря рюмку, протянутую Настасьей Петровной.
– На подвиг едешь не хуже военного, – наставительно молвил Качмарев. – Часто ли такое видим? Говорю, как сыну, что горжусь, что ты в моей роте сыскался. Ну, поцелуемся, и ступай, готовься к отъезду.
В этот вечер засиделись за самоваром, обсуждая поездку. Анюта уже уложила чемодан и теперь зашивала ассигнации в новый черес.
– Я почти все деньги с собой беру. Тебе на три месяца всего двести рублей оставлено, – говорил унтер.
– Мне бы спокойней, кабы все дочиста взял, – отвечала жена. – Я здесь всегда занять у Карловны, у Качмаревых могу, да еще в копилке рублей тридцать. А тебе где взять, ежели, как липку, чиновники обдерут? Обратно пешком пойдешь?
– Не бойся, до Москвы доберусь хотя на своих конях, а там князя Ивана Сергеевича сыщу. Мне на дорогу поверит. То уж самый крайний случай… Ну, пора, матушка, на боковую.
– Обещайся только, Санечка, что дрожки возьмешь, не потащишь на плечах укладку в такую даль. Не жалей двугривенного…
…Сговорено было, что с Сергиевской тронутся в девять, но Иванов подъехал к дому Пашковых, когда не было восьми и дворники кончали мести улицу. Отпустил ваньку, поставил чемодан у подъезда. И чего Анюта так рано отправила? Сама опоясала чересом, торопила бриться, кормила, поила. Когда уже поцеловал сонную Машу и простился с Лизаветой, еще долго крестила. Когда уже шел по двору, то окликнула в окошко, и он помахал ей свободной рукой.
Но вот дорожная карета четвериком в ряд выехала со двора и завернула к подъезду. На задке притянуты ремнями большие чемоданы. Одновременно швейцар распахнул парадную дверь:







