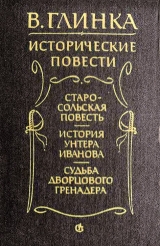
Текст книги "Судьба дворцового гренадера "
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
А из унтеров никто не ушел. Для них из полутора тысяч годового жалованья даже при старом положении в пенсию шла только половина, а с порционными простись. И на дежурстве унтеров назначают только поверяющими посты, обходная неспешная должность. В караулах тоже только разводящими. Унтер Михайлов, у которого за женой взят постоялый двор на Выборгской, собирался в отставку, да и тот отдумал.
Относя в ноябре Жандру восемьдесят рублей, Иванов рассказал, что упустил выгодную отставку, и услышал такой совет:
– Держись за роту, Александр Иванович. Мне думается, твое офицерство вполне верное и, помимо большого жалованья, для замыслов твоих весьма удобно. Поедешь в отпуск и сторгуешь на себя, раз крепостными офицеры любого чина имеют право владеть.
«Оно все так, только дождусь ли унтерства? – подумал Иванов. – В покупке я на самого Андрей Андреича надеялся, но, понятно, на себя сподручней. Меня насчет хозяйства помещику как обвести? И с превосходительства запросит больше, чем с прапорщика».
Жандр, как всегда, спросил об Анюте, крестнице, службе.
– А вы про сочинителя Пушкина слыхивали, Андрей Андреич? – осведомился гренадер.
– Как не слышать! – воскликнул Жандр. – Высоко чту Александра Сергеевича как поэта знаменитого и знакомство с ним издавна вожу. Всю мне душу перевернул, рассказавши, как ехал верхом через Кавказские горы и повстречал гроб с телом друга нашего, которого в Тифлис хоронить из Персии везли на простой телеге тамошней трясучей… А ты с чего же Пушкина вспомнил?
Гренадер рассказал, как часто видит Жуковского во дворце и на лестнице Шепелевского дома и что слышал от Тёмкина.
– Да, Александр Иванович, эти двое – России слава истинная, – уверенно сказал Жандр. – Жуковский к тому же еще добряк удивительный. Вечно за кого-то хлопочет, деньгами помогает. Ну, а Пушкин – талант особенный, правильно твой писарек говорит. Что ни напишет – все подлинно прекрасно… Всегда жалею, что Грибоедов новым стихам его не порадуется… Вот так до сих пор все у меня на друга покойного сводится… – Жандр махнул рукой и помолчал. – Ну-с, какие у вас еще новости? – спросил он через минуту уже обычным бодрым тоном.
– Глядели, как колонну на площади вздымали. Полторы тысячи солдат за веревки тянули, чтоб куда следовало пошла… Правда ли, Андрей Андреич, что все приспособления француз тот придумал, который Исаакиевский собор строит?
– Не всё он один, – ответил Жандр. – Рисунок колонны точно его, и за отделкой наблюдать будет, но как ее поднимать, устройство помостов и воротов наши инженеры рассчитывали.
– А величается один тот француз. Про них ни от кого слова не слыхал, – огорченно сказал Иванов.
– Не печалься, – улыбнулся Андрей Андреевич. – Все же Наполеон против таких, как ты, не выстоял. И памятник хотя Александровским назовут, а всяк, на него глядя, тысяча восемьсот двенадцатый год вспомнит.
Вскоре после этого разговора в сырой предвечерний час Иванов в нижних сенях у канцелярии роты встретил Жуковского. Сняв шляпу, Василий Андреевич встряхивал ее от капель дождя и в то же время, обернувшись, слушал шедшего следом барина в теплом сюртуке, который что-то быстро говорил по-французски.
Иванов сделал фрунт и снял бескозырку.
– Здравствуй, друг мой, – как всегда приветливо, сказал Жуковский.
– Здравия желаю, Василий Андреевич, – негромко ответил Иванов.
– Ты никак всех здешних кавалеров знаешь? – спросил барин в сюртуке. Он также снял шляпу и встряхнул ее.
Иванов увидел завитки каштановых волос, ровные белые зубы и сообразил: «Вот Пушкин-то! Будто их уже где-то видывал?..»
– Со многими знакомство веду. В одном дому хлеб едим, из одного кошта жалованье получаем, да и соседи они добрые, – отозвался Жуковский, начиная подниматься по лестнице.
Гренадер повернулся и увидел Тёмкина. Видно, на голоса выскочив из канцелярии, он смотрел вслед ушедшим. Потом повернулся к Иванову и шагнул к нему со счастливой улыбкой:
– Видели? Они ведь и есть сами господин Пушкин!
– И я так подумал, – кивнул гренадер, – раз на «ты» обращаются. И, кажись, вместе во дворце их видывал. К фрейлине Россет в гости по Комендантской лестнице вздымались.
– А слуга ихний мне сказывал, что промежду себя ровно братья! – восторженно говорил Федот.
– Чей слуга? – не понял гренадер.
– Да господина Жуковского. Максимом Тимофеичем звать. Лысый, важный такой, но про барина своего любит порассказать.
Через несколько дней Иванов снова близко увидел Жуковского. В этот вечер во дворце пела знаменитая Генриетта Зонтаг. Придворная прислуга со слов господ передавала, что она недавно вышла замуж за какого-то графа и не будет больше петь на театрах, а только по приглашению, во дворцах. В Концертном зале перед покрытой синим ковром эстрадой поставили несколько кресел для императорской семьи и за ними пять рядов стульев для пожилых придворных. Молодежь слушала стоя или садилась на банкетки у стен. Дежурный по залам, выходившим на Неву, Иванов остановился недалеко от двери в Большом бальном и слушал пение. С его места была видна и сама певунья – красивая, стройная, в золотистом платье и с алмазным обручем в белокурых волосах. Голос у нее был истинно прекрасный – чистый, сильный и звучный, легко взлетавший на самые высокие ноты и красиво соединявшийся с мягкими звуками рояля, на котором играл седой иностранец. Но то, что пела, не очень нравилось Иванову – все какое-то очень веселое, будто шуточное, рассыпавшееся трелями и смехом. И слушатели все улыбались, видно, иностранные слова, которые ясно выговаривала, были под стать музыке. А ведь то, что пела когда-то Дарья Михайловна, звучавшее как благодарная молитва или надежда на счастье, пробирало Иванова до самого сердца. И сейчас снова вспомнил тот вечер на Литейной, подумал, где-то поет теперь, как ей живется?..
На ближайшей к двери банкетке, которую со своего места видел Иванов, скромно присел Жуковский. Он сегодня был в вицмундирном фраке и с орденом Владимира на шее. Слушал внимательно, смотрел на красавицу, порой улыбаясь добродушно, должно быть, тому, что выговаривала… Но вот, поднявши голос до самой высокой трели, от которой, кажись, звякнули хрустали в люстрах, она смолкла и плавно присела перед аплодировавшим залом. Потом сошла с эстрады за стоявшую рядом золоченую ширму.
Оставшийся у рояля музыкант, встав и поклонившись, сказал что-то публике, снова сел и начал играть очень грустное и, на вкус Иванова, такое душевное, что у него дух захватило. Глянул на Жуковского. И тому, видать, музыка нравилась: он прикрыл глаза и склонил голову. Но в это время сидевший в первом ряду император тихонько встал и, выведя из-за ширмы певицу, с легким поклоном открыл перед нею двери в Агатовую гостиную, откуда, все знали, слушает концерт болевшая горлом царица.
И тотчас по залу пошел гул почти несдержанного разговора, смешки и шелест одежды, шаги и передвижение стульев, почти заглушившие музыку. Иванов опять взглянул на Жуковского. Тот что-то шепотом сказал сидевшей рядом даме, но та, поведя обнаженным плечом, указала веером на окружающих. Василий Андреевич сморщился, как от кислого, и мимо Иванова вышел в Большой зал.
И почти тотчас к нему подошел седой сановник с тремя звездами на фраке, вышедший в зал сразу по окончании пения.
– Ну, какова новоявленная графиня? – восторженно сказал сановник полным голосом, хотя стоял около открытой двери в Концертный зал, за которой слышались звуки рояля. – Недаром слепец Козлов о ней писал: «В тех звуках мир непостижимый плененной памяти моей…»
Жуковский ответил не сразу. Сперва плотно прикрыл двери в Концертный, отошел от них шага на три и только тогда сказал:
– Да, поет она прекрасно. Но я не поклонник Россини, а когда этот прекрасный пианист начал играть моего любимого Бетховена и как только государь вышел, наша придворная молодежь так зашумела, что испортила мне все удовольствие. И перед артистом, право, стыдно; ведут себя, как в райке плохого театра.
– Э! Молодежь всегда легкомысленна. Будто вы были другим? – ответил, посмеиваясь, сановник. – А как галантно государь увел графиню! Видно, ее величество захотела похвалить ее пение.
– Да, государыня всегда добра и любезна, – наклонил голову Жуковский. – А по поводу извечного легкомыслия молодежи, то я воспитывался в провинциальной усадьбе, и там мне внушали уважение к творениям великих композиторов и к их исполнителям.
– Фу-фу-фу! Оказывается, и поэты умеют ворчать, – сказал сановник и, взяв Жуковского под руку, повел в глубь зала.
– А вы полагали, что у меня внутри один овсяный кисель? – донесся до Иванова недовольный голос Василия Андреевича.
Хотя зимой у девочки шли зубки и порой плачем не давала спать родителям и Лизе, жизнь все-таки наладилась: молодая хозяйка снова взяла у мадам Шток шитье, а Иванов в свободные часы склонялся над щетками. К пасхе он отнес в «казну» семьдесят рублей. Принимая их, Жандр заглянул в какой-то листок и спросил:
– Друг любезный, а знаешь ли, сколько денег мне переносил?
– Близко к трем тысячам ассигнацией, Андрей Андреевич.
– Правильно. С нонешними – три тысячи двадцать рублей или семьсот пятьдесят на серебро. А сколько требуется всего накопить?
– Полагаю, что, ежели не заломит барин несообразного, за мужиков-работников придется дать рублей по сту, за бабу в средних годах по пятьдесят, за стариков и малолетков по тридцать рублей. Так на семейство родителя моего из двенадцати душ уж сполна хватит накопленного. Но ведь надел ихний со всем строением и скотом также приобресть предстоит, чтобы могли и дальше с него кормиться.
– Значит, следует тебе еще рублей двести – триста серебром добавить, – заключил Жандр. – Крепись, Александр Иванович, не так уж много осталось.
Этой весной, когда по Неве прошел лед и только что снова свели мосты, Иванов встретил художника Голике. Толстощекий немчик шагал по Миллионной, блаженно щурясь на солнце и бодро выбрасывая вперед конец щегольской трости. Сразу узнал гренадера, остановился и спросил приветливо:
– Как поживаете, господин кавалер?
– Покорно благодарю. А вы каково?
– Отлично-с. Сейчас от одного коммерции советника расчет получил за портреты его с супругой. Очень им угодил, и полторы сотни золотом за пару мне вручили. – Голике распахнул добротную шинель и похлопал ладонью по карману панталон, где забренчали монеты. – И ведь как вышло: портреты закончил, на другой день назначили за деньгами приехать, а тут ледоход, мосты разводят, и две недели на Острове заперт – я лодками в ледоход боюсь ездить… Но вот пожалуйста, только что сделали мне полный расчет, даже лучше вышло, оттого что увидел свою работу уже в гостиной, в богатейших рамах висят… – Немец говорил и говорил, все щурясь на солнце, как сытый кот. – Они на Моховой собственный дом имеют, и я оттуда Летним садом прошелся, где первые листочки наблюдал, да сюда, в прежде столь знакомую местность… Когда хорошо поработаешь, то имеешь право и погулять. Не правда ли, господин кавалер?
– А то как же! – сказал Иванов неопределенно. Ему не нравился этот сытый хвастунишка, и он спросил, о чем думал с первой минуты встречи: – А как Александр Васильевич поживает?
– Поступки его мне непонятны, – поднял белесые брови Голике. – Вольную ему господа выдали. Сам государь за то золотую табакерку в три тысячи владельцу послал. Кажется, что лестней такого внимания для художника? А он все недоволен жизнью, все покойного учителя нашего сэра Джорджа поносит и ровно ничего не желает для заработка писать. – Немец недоуменно вздернул плечи и поправил пуховую шляпу, собираясь двинуться дальше.
– Так и верно ему от англичанина тяжко доставалось, – сказал Иванов. – Не зря же Общество попечения за него вступилось.
– Конечно, нам бывало весьма тяжело, – согласился Голике. – Но зато и выучились многому. Я так и рекомендуюсь заказчикам – ученик покойного сэра Джорджа Доу, почетного члена многих иностранных академий. И, поверьте, отчасти за такой титул по семьдесят пять, а то и по сто рублей за портрет беру. Вовсе не от Академии мое умение, курс которой закончил прошлый год, чтобы звание получить, – все от господина Доу перенято. Я даже портрет его по прежним наброскам написал, будто в саду на скамейке сидит. И тут же мы с отцом и двое моих деток резвятся с белым барашком, как у Иоанна Крестителя. А невдалеке в беседке жена моя…
– А как у Полякова с учением? – спросил гренадер.
– Можно бы счесть, что и он курс закончил. Но по строптивому характеру в Академии о документе не хлопочет. А во-вторых, хворает много – все кашляет да плюет. Я его больше к себе не приглашаю, у меня ведь дети. Ну-с, желаю здравствовать. Спешу на обед к нашему пастору.
На неделе Иванов собрался навестить Полякова. Анна Яковлевна, которой пересказал встречу с Голике, собрала корзинку разной еды – жареного мяса, пирожков, ватрушек, банку варенья.
– Скажи, что раз в гости не дозваться, так ты к нему по-прежнему, по-холостяцки, – наставляла она мужа. – Я, мол, посылаю, чем угостила бы. Или иначе придумай, чтоб не обидеть…
Но говорить ничего не пришлось – квартирная хозяйка сказала, что художник ушел не так давно, куда, не сказывал. А на вопрос о здоровье жильца ответила сердито:
– Был бы сыт да здоров, кабы лики царские, как раньше, купцу готовил. А разве с одного чая пропитаешься? Извел меня каше лью. Только глаза заведу – бух да бух! Давно бы отказала от квартиры, да жалею: куда такой пойдет?
– Дозвольте гостинцы ему оставить, – попросил Иванов.
– Тут на табуретку становьте, – указала хозяйка. – Комнату, вишь, запирать стал. Богатства свои берегет!
Гренадер ушел, жалея, что не застал Таню. Она бы пообстоятельней рассказала, особенно если без хозяйки. Хотя и так понятно, что дела Полякова нехороши.
В этом году Иванов пасхальной ночью дежурил в залах, ближних к дворцовому собору, и потому всю заутреню выстоял в Предцерковной, слушая прекрасное пение придворного хора. Служили торжественно, собор озаряли сотни свечей. У большинства собравшихся на лицах было праздничное оживление. Еще бы – к пасхе объявлен список пожалованных в следующие чины или орденами и уж обязательно всем чиновникам выдан лишний месячный оклад. Но Иванов чувствовал себя одиноко – ведь уже два раза встречал светлый праздник вместе с Анютой в Конюшенной церкви, а потом разговлялся дома под гудевший над городом перезвон колоколов.
Зато в этом году довелось увидеть церемонию, о которой только слыхивал. После заутрени царь и царица принимали поздравления от придворных кавалеров и сановников. Ей целовали руку, с ним христосовались троекратным поцелуем. Иванов обошел свои залы, вернулся, а они всё шли и шли к правому клиросу, около которого стояли государь с государыней. Рассказывали, что у царицы после этого обряда распухала рука, а у царя бывало измазано фаброй все лицо. В последнем гренадер убедился, увидев, как поспешно он нырнул в дверку, за которой находился умывальник для священнослужителей. Иванов про себя позабавился: государь будто бежал от тех, кто еще вздумал бы христосоваться. А гренадерам был памятен случай, когда наказывал седым погуще краситься. Сам же Иванов в эту ночь похристосовался только с дежурным пожарным, который, когда разъехались «особы», прошел по залам, проверяя, не забыты ли где непотушенные свечи.
Летом, как всегда, приналег на ремесло. Если бывал свободен, то целые дни сидел за работой. И впервые стал чувствовать, как к вечеру не только разламывает спину, но и плохо видит глаз – памятка об Эссене. Зато за три месяца выручил шестьдесят рублей.
Только в июле он снова собрался сходить на Васильевский. Анюта упросила взять ее с собой. Не хотел было – что хорошего увидит? – но она так умильно говорила, что, вместе побывавши, лучше придумают, чем помочь бедняге, что уступил. Собрали снова целую корзинку хорошей еды и пошли.
На стук в дверь, обитую коричневым войлоком, никто не ответил. Потом с первого этажа крикнули, что квартира пуста и сдается. Расспросили и услышали, что хозяйку племянница уговорила переехать в Коломну, девушка, что прислуживала, вышла замуж за столяра на 5-ю линию, а художник съехал невесть куда.
Иванов не знал, где живет Голике, который мог слышать про Полякова, справляться в академической канцелярии было поздно, присутствие уже кончилось. Так и пошли обратно, неся корзину и любуясь вечерней Невой. Рассуждали, отчего так и не пришел к ним? Верно, стыдился плохой одежды, неудач своих, кашля.
Беседуй, гренадер, с женой, любуйся городом, да не пропусти офицера, вовремя сделай ему фрунт, поставив ношу наземь. Хорошо, что гвардия в лагере – не так часты на улицах эполеты.
11
Маше исполнилось полтора года. Резво бегала и сама влезала на стулья, так что пришлось заказать деревянные решетки, которые вставили в открытые оконные рамы, чтобы, грехом, не вывалилась. Говорила много выученных от взрослых слов и еще больше своих, непонятных. Играла охотней всего с подаренной Амалией Карловной куклой, сшитой из замши и одетой в шелковое платье, которую сама назвала Катей и без нее не хотела засыпать.
Однажды, когда гренадер сидел за обычной работой, Анна Яковлевна, подойдя, слегка дотронулась до его плеча, он повернулся. Маша стояла около дивана, на матрасик которого посадила Катю, и старательно трясла одну за другой тряпочки – куклины одеяльца. Потрясет, что-то приговаривая по-своему, заботливо-поучительное, и расстелет на диване рядом с Катей, разгладит обеими ладошками. Потрясет вторую тряпочку, третью и все раскладывает одна на другую. Потом начала завертывать Катю во все это, приговаривая уже иным тоном, успокоительно, как бы увещевая не плакать.
– Полтора года, а как играет разумно! Видел, как старалась, вытряхивала? – спросила Анна Яковлевна.
– Как вы с Лизаветой столешник трясете или белье катанное стелете. И как ее же спать укладываете, – заметил Иванов.
– Все так, но умница какая! Ребеночка своего в чистое завернуть старается. А вот ленточкой перевязать еще никак не выучу. Ручки не слушаются, – рассказывала Анюта. – Но вижу, скоро все сумеет. Как пять лет станет, ты ее грамоте учить начнешь.
– Ужо разбогатеем, учителя наймем, – пошутил гренадер.
– Их на другие науки, – согласилась Анна Яковлевна, – а по грамоте сами справимся. Я пока Лизу буквам учу, раз просит.
Как-то в воскресенье позвали обедать двух подружек хозяйки и Тёмкина. Варить супы с клецками или с лапшой, печь вафли и кухены, поджаривать и молоть кофе Анюта выучилась у Штокши, а тушить и жарить мясо, загибать пироги и варить кисели умела с отрочества. После вкусного угощения Федот, по просьбе хозяев, читал наизусть стихи. Прочел «Кавказского пленника» и «Братьев-разбойников», растолковывая непонятные места. Читал без запинки, внятно, хотя и монотонно. Все слушали внимательно, даже Машенька на руках у Лизаветы таращила на чтеца круглые глазки.
С этого воскресенья повелось, что писарь приходил к Ивановым после обедни, а уходил под вечер, почитав стихи Пушкина или Жуковского. О том, что услышали, Ивановы толковали не один день. Гуляя с дочкой, Анна Яковлевна стала прохаживаться у Шепелевского дома и скоро по рассказанным приметам узнала Василия Андреевича, удостоверилась, какой приветливый.
А как-то зайдя под вечер в канцелярию, Иванов застал присевшего около стола, за которым занимался Тёмкин, толстого мужчину в серой шинели, не раз до того виденного в подъезде. Увидев гренадера, он кивнул писарю и неторопливо вышел.
– Не господина ли Жуковского слуга? – спросил Иванов.
– Они-с, – подтвердил Тёмкин.
– Никак спугнул я его?
– Нет-с, они до вас уйтить хотели. Да как раз мне грустное досказывали про молодость Василия Андреевича.
– Что ж такое?
– Спросил я, отчего не женившись, хотя здоровье, достаток и чин – все имеется. А Максим Тимофеевич и рассказали, что в давние годы питали взаимную любовь с барышней, но, на горе, с дальней сродственницей. Были молодые оба, в кудрях, и деревня славная за барышней шла. Да матушка их не выдала, раз сродственники. Горевали Василий Андреевич, да так и остались холостые.
– Верно, матушка ихняя померла, чего ж теперь не поженятся? – спросил Иванов. – Аль как постарели, то и прохладились?
– Нет, барышню вскоре за немца дохтора выдали. Правда, за хорошего человека, но где же ему против Василия-то Андреевича! Такая история грустная, – заключил писарь.
Конечно, в тот же вечер гренадер пересказал жене, что услышал, и она опечалилась чуть не до слез, а потом сказала:
– А со мной ежели б так поступили, я б беспременно сбежала.
– Рассказывай! – сделал недоверчивый вид Иванов. – За шесть лет даже в Конный полк не наведалась.
– Оттого, что решила, будто не люба стала, если разу не показался. А кабы знала, что папенька тебя отвел, так не то что в Конную гвардию, а пешком в Гатчину иль куда дальше пришла, – ответила Анна Яковлевна. – Мне часто сдается, что и живу только с того дня, как на кладбище встретились. До того будто сон видела безрадостный. Али, может, тогда явь глухая была, а нынче уже пятый год сон счастливый?
И опять наступила зима. Затрещали в дворцовых печах и каминах березовые поленья, побежали от них трепетные дорожки по паркетам. Потянулись часы дежурств, караулов или письменных занятий и короткие счастливые вечера дома.
На крещение 1834 года в процессии, шедшей из дворцового собора на Неву для водосвятия, Иванов увидел нового придворного. В мундире, расшитом по груди золотыми галунами, с форменной шляпой под мышкой и при шпаге, в белых панталонах, чулках и лакированных туфлях среди камер-юнкеров шел поэт Пушкин. Гренадер порадовался: знать, царь его отличает, хотя чин не больно высок. Ну, выслужит и выше.
В феврале они оказались уже совсем рядом в часы торжественного богослужения в соборе. Зайдя в Военную галерею, дежуривший гренадер увидел Пушкина. В том же придворном мундире он стоял перед портретом фельдмаршала Барклая. Глянул мельком на гренадера, сделавшего ему фрунт, кивнул и пошел дальше. Конечно, это господин Пушкин, но лицо прямо другое. Идучи с Жуковским, был веселый, приветливый, а нонче губы накрепко склеены, брови сдвинуты и глаза ровно уголья горят. Прошел, и стало видно, что шляпу под мышкой сплющил, оттого что руки за спиной с силой сцеплены. Не по нему что-то – недаром один тут бродит.
Стоя парным часовым у дверей из Предцерковной в Статс-дамскую во время следующей торжественной обедни, гренадер не увидел Пушкина. Однако услышал разговор о нем. Началось с того, что кто-то совсем рядом назвал его, Иванова, по имени-отчеству. Понятно, сразу сообразил, что не его зовут, и, скосив глаза, увидел Василия Андреевича. Он, верно, даже не узнал гренадера, с которым часто приветливо здоровался, под фаброй и медвежьей шапкой. Повторив вполголоса то же имя-отчество, манил к себе барина в мундире и ленте, что стоял около дверей собора, куда не все и большие чины могли взойти за многолюдством съезда.
Тот, кого звал, приблизился, как ходят статские господа во дворце, – беззвучно скользя на мягких подошвах. Пожилой барин, но легкий на ногу, следом за отступавшим Василием Андреевичем вышел в Статс-дамскую, и тут они заговорили хотя вполголоса, но часовой слышал каждое слово.
– Опять твой крестник не явился, – укорял Жуковский. – Ко мне Литта давеча с претензией подошел, грозил государю доложить, что манкирует придворной службой…
– А я что могу сделать с характером африканским? – отозвался тезка Иванова. – Третьего дня зашедши, по кабинету моему ровно бес бегал, ярился. Уж толковал ему, толковал, что обязан терпеть сии обязанности, раз хочет в архивы сохранить доступ. А он одно твердит, что звание такое неприлично его летам. Как будто у нас остальное состоит в полной гармонии.
– Дело не в годах, – ответил Жуковский, – а в том, что в словесности он носитель славы национальной, о чем все образованные люди знают. И на тебе – камер-юнкер! Наравне с юнцами, у которых за душой одно родство со знатными невеждами. Хоть бы чин дали да в камергеры, и то бы самолюбие успокоило.
– Будто у нас все остальное в гармонии, – повторил, вздыхая, Александр Иванович и, помолчав, попросил: – Сходи ты к нему, припугни Литтой, он тебя одного слушает. И Натали скажи, может, она его доймет. Она-то не прочь на малые балы в Аничков ездить, красоту свою казать. Знаешь ли, Алексей Петрович Ермолов ее в декабре видел и мне недавно пишет: «Госпожи Пушкиной не может быть женщины прелестней». Старомодно выразился, но в сем предмете очень смыслит, старый лев.
– Какой же он старый? – возразил Жуковский. – Нас всего на пять лет ста ре. И силач какой! В прошлом году при мне по просьбе дам у Кикиных рубль желобком согнул. Его судьба тоже образец гармонии нашей… Ну, довольно шушукаться, идем на люди.
Возвратившись в Предцерковную, они встали средь господ, которые то перешептывались, то крестились, делая вид, будто молятся.
«Вот что! – думал Иванов. – Не по нутру Пушкину новый чин. Оно точно, что камер-юнкеры господа совсем молодые. А жена у него, знать, модница да прихотница, которая танцевать любит. Надо приметить ее, раз красавицей почитают. Может, хоть она на Дарью Михайловну схожа? Вот и средь статуй здешних такой не вижу, чтоб ту напомнила… Ох, тяжко становится стоять неподвижно, ноги, плечи ломит, – годы свое берут».
Покосившись на своего напарника Павлухина, увидел, что еле заметно шевелит губами: видно, опять набалтывает про себя вирши. Сейчас и глупостей его послушал бы для отдыху…
Когда через полчаса, по окончании обедни, сменились с поста и через пустые залы пошли в роту, Иванов спросил:
– Опять, Савелий, плел давеча?
– А я завсегда к концу смены, чтоб усталь менее чувствовать. Было б к чему зацепиться. Давеча услышал, как господин Жуковский про крестника тревожился, и давай подбирать:
У господ свои заботы.
Во дворец не ездит кто-то —
Ждать за то ему беды.
А у нас не те труды:
Отстоять исправно смену,
Истуканом влипнув в стену,
Аль дежурным мерить залы —
Тоже труд, скажу, не малый.
Вот и думаешь порой:
Не в отставку ль, на покой?
Но боюсь я спиться с круга
От излишнего досуга…
А дальше пошло про Графский, чего ты и слушать не захочешь, – подмигнул Савелий.
– Верно, мне и того довольно… – засмеялся Иванов.
Увидя на другой день Тёмкина, гренадер передал разговор Василия Андреевича с каким-то своим тезкой, который доводится крестным отцом Пушкину, и что говорили про его жену.
– Что супруга Александра Сергеевича первейшая красавица, то я слышал, а вот что крестный отец ихний здесь пребывают, то впервой узнаю, – не без важности сказал писарь. – Но понятно, что старшие беспокоятся, раз таков горяч. Ведь господина Пушкина дед кровный арап были, у Петра Великого в денщиках, а потом до генерала дошли, прозвание только запамятовал…
– Все тебе Максим Тимофеевич, поди, рассказывает?
– Они-с, раз видят, что я стихи ихнего барина да господина Пушкина наизусть читаю и каждое слово в душу кладу.
А еще через сутки писарь поманил Иванова зайти в канцелярию, где они оказались одни, и сказал:
– Разъяснили мне, что барин тот, которого Александром Ивановичем кликали, Тургенев по фамилии. С юности господину Жуковскому близкий друг, но только в шутку зовутся крестным Александру Сергеевичу, потому что когда ихние родители в Москве проживали, то господин Тургенев их подросточком в учение отвозили в Царское. – Тёмкин понизил голос до шепота и продолжал: – А сами хотя превосходительные и на службе состоят, но у государя на заметке, потому что братец ихний в двадцать пятом году из главных были, только, когда на площадь выходили, за границу посланы оказались и сюда не вернулись, но заочно приговорёны.
– Ну ладно, молчи-ка, – сказал Иванов так же тихо, – да лучше про то и думать забудь. Не солдатское дело такое знать.
– Да что же, раз всем то известно. Они вот и во дворец по чину своему вхожи, – возразил Тёмкин.
– Мало ли кому что известно! – сказал Иванов. – А ты больше никому не болтай.
В конце февраля, сидя в канцелярии роты, Иванов строчил списки на разграфленных листах нарядов. За дверью раздалось шарканье: кто-то вытирал ноги от снега. Вошел господин в теплой шинели с черным мерлушковым воротником. Когда снял шапку такого же меха, гренадер узнал живописца Голике.
– Я пришел вас пригласить, господин кавалер, на похороны Александра Васильича Полякова, – произнес он с печальной миной.
– Спасибо, что известили, – вставая, сказал Иванов. – Доконала, знать, его чахотка?
– Именно доконала, – подтвердил Голике. – Последние полгода покойный кисть в руки не брал, отчего средства на похороны отпускает Общество поощрения художников, и я от себя прибавил. Завтра вынос из Андреевского собора в одиннадцать часов.
Если бы не присутствие Голике, Иванов навряд ли поверил, что в полутемной церкви перед ним лежали останки Полякова. Всегда был тщедушен, а сейчас острый нос и восковой лоб над запавшими глазницами – вот все, что выдавалось над краем гроба. Действительно, съела беднягу чахотка.
«Грех какой, что не разыскал его на новой квартире, – думал гренадер. – Так ведь и он не шел к нам, хоть столько приглашали. Чувствовал же, что от души зовем…»
Кроме Голике, проводить покойного пришли два художника – один высокий и угрюмый, посматривавший на упитанного немца далеко не ласково, и второй – среднего роста, с добродушным лицом, показавшимся гренадеру знакомым.
– Я про вас от покойного наслышан. Рассказывал, как заботились о нем еще во дворце, – сказал Иванову этот художник, когда пошли рядом за гробом по Среднему проспекту. – И особенно печально, – продолжал он, – что умер Поляков, когда уже преодолел тяжкие последствия тех лет, что копированием занимался. Такие годы для настоящего художника вроде яду и безвредны только для ремесленников. – Он кивнул на спину Голике, шагавшего у самого гроба на манер родственника. Прошли еще квартал, скользя по наезженной дороге, порой хватаясь друг за друга, и художник заговорил снова: – Когда еще поймут, что в академическом курсе от копирования только вред? Руку набивает, а глаз убивает. Одну натуру надо учить рисовать и писать красками… Покойному так претило по шаблону портреты писать, что голодать предпочитал… Впрочем, верно, вы сие от него самого слышали, – закончил он.
– Даже аттестат из Академии не получил, – подал голос высокий художник. – За неделю до смерти мне сказал: «Какой же я «свободный художник», ежели, кроме копий, ничего не оставляю?..» Строг к себе был… Не то что другие…
– А есть ли у него кто из родственников в Костроме? – спросил Иванов.
– Нигде никого, – ответил высокий. – Не раз говаривал в последние дни: «Хоть то хорошо, что по мне плакать некому».
Гренадер вспомнил, как после того как рассказал Анюте о приходе Голике, заметил ее заплаканные глаза. Вспомнил и Таню, которую Поляков еще девочкой угощал сахаром, а потом списал на портрете. И она всплакнет, как бы ни жила за своим столяром.







