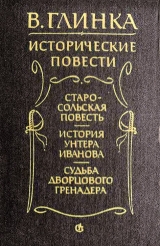
Текст книги "Судьба дворцового гренадера "
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
– Не пора ли, кавалер почтенный, и для тебя слезницу сочинить про одинокую, горемычную жизнь? Я нонче так руку набил, что хоть каменный статуй до печенки проберу. И листок вроде пряника изукрашу.
Госпожа Миклашевич оказалась права – в роте пошло настоящее поветрие браков. К ним располагало более всего, что женатым разрешалось проживание на наемной квартире и они обязывались являться в часть только к наряду. Хотя было обещано дать всем женатым квартиры в дворцовых зданиях, но пока получили только трое, а остальные снимали в городе или поселялись в «приданых» домах своих супруг. За двадцать лет солдатчины людям так осточертело вскакивать по сигналу и целый день вертеться под крик и ругань унтеров, приказывающих становиться на молитву, садиться за еду, идти на учение, в караул и отходить ко сну, что возможность на законном основании зажить своим домком, поспать в тишине, походить по комнате, а то и по дворику распояской аль в одном исподнем казалась земным раем.
И невесты находились в изобилии – знай выбирай! За дворцовых гренадер охотно шли не только мещанки, но купеческие и чиновничьи дочки. Рота была на виду столицы. Ее рослыми молодцами любовались на улицах и в лавках, куда случалось зайти и где их нарочно задерживали, чтобы получше рассмотреть невиданную парадную форму. О них писала велеречивая «Северная пчела», восхваляя великодушие царя, успокоившего «своих отборных героев-гвардейцев на почетной службе близ своей священной особы». В статье рассказывалось, что знаменитому живописцу Дову государь заказал портреты в рост четырех самых заслуженных ветеранов, а с одного, по красоте сложения будто бы «не уступающего римскому гладиатору», назначено изготовить статую в парадной форме и амуниции. Изображения дворцовых гренадер появились на фарфоровых чашках и тарелках, их фигурки из дерева и папье-маше продавались в игрушечных лавках.
Гренадеры, которых изображал Дов, рассказывали, что все два часа, что подряд их пишет, молчит как каменный, хотя по-русски говорит вполне чисто. Только ежели затекла от неподвижности рука или опустил подбородок, то словно пролает: «Рука! Голова!..»
А Карп Варламов, наоборот, сказывал, что лепивший его в Академии художеств какой-то Федор Иванович более получаса в неподвижности не держит, а дает отдыху, когда подносит сбитня с пирогом, а при конце работы на сей день еще и стаканчик с закуской да полтинник. Притом говорит, будто в Париже его, Варламова, за телосложение художники озолотили бы, а гренадер на то отвечал, что когда находился в Париже с полком, то золота от парижан не видывал, а под арестом посидел за то, что у веселой девицы Клоды за свои деньги лишнее выпил.
Еще один художник, тоже по заказу царя, списывал в эту весну вид Военной галереи, в которой расставил фигурки Лаврентьева и пяти гренадеров. Живописец был еще молодой, всем проходившим низко кланялся, а работал быстро, и выходило схоже.
Однажды, идя с дежурства, Иванов увидел Полякова, негромко беседовавшего с художником. Заметив подходившего, Поляков слегка тронул за плечо своего знакомца, собиравшегося было встать со складного стульчика, и сказал:
– Сидите, Григорий Григорьич, работайте, это добрая душа идет. Здравствуйте, дяденька Александр Иванович.
«Вот как он меня величает, а я сколько дней ничего ему не ношу, хоть порой и встречаю», – укорил себя Иванов.
В Предцерковной Поляков нагнал гренадера и рассказал, что галерею пишет художник Чернецов, который выбился своим талантом из мещан захолустного городишка. В том помог один добрый барин, который и его, Полякова, помощью обнадеживает.
– С той недели, братец, я опять с полдён до четырех часов в сих залах дежурить стану, – сказал Иванов. – Ежели придешь, потолкуем малость. Хотел ведь договорить, на что надеялся.
– Приду всенепременно, дяденька. И рассказать теперь есть уже что… Только бы злодей в мастерской меня не запер.
– А такое бывает?
– Не бывало еще, а грозится. Все ему мало моей работы…
3
Мода на дворцовую роту в эту зиму была такая, что даже пожилые придворные, случалось, громко высказывали похвалы стройности и выправке гренадер. А фрейлины еще посмеивались над камер-юнкерами и пажами, что часовые наряднее их одеты.
Но очень скоро большинство дам и кавалеров привыкли к новым служивым и стали вполне равнодушно относиться к этой разновидности дворцового убранства, не стесняясь при них поправлять одежду или обувь, почесываться, браниться, обмениваться быстрыми поцелуями или объятиями да и говорить такое, что Иванову не раз бывало стыдно за них до краски в лице.
Так же равнодушно стали к весне смотреть на гренадер и те сановники всех ведомств, которые с женами присутствовали на парадных богослужениях, приемах и балах, что называлось «иметь приезд ко двору». Этим правом пользовались все генералы и старшие офицеры гвардии, которые поначалу внимательно изучали невиданное обмундирование и снаряжение гренадер.
Однажды во время большого бала на масленой именно так рассматривал Иванова, стоявшего часовым на Иорданской лестнице, ротмистр фон Эссен. Остановился, оглядел пристально спереди, потом сбоку и сзади форму, перевязи, патронную суму. Опять стал спереди, еще посмотрел в недвижное лицо своего бывшего вахмистра, по которому полгода назад бил с такой злобой, чуть усмехнулся и пошел в Большой танцевальный зал.
Из конногвардейских офицеров только полковник Бреверн, поручик Лужин и корнет Фелькерзам неизменно узнавали Иванова в новом обличье, приветливо кивали, если стоял часовым, а к дежурному подходили с добрым словом, расспрашивали про службу.
Кроме них, ни от кого бывавшего во дворце не ждал привета и оттого очень удивился, когда, придя к десяти утра на дежурство у личных царских комнат, услышал от сменяемого гренадера, что недавно о нем спрашивал один из двух чиновников, которые сейчас находились у самого государя.
Теперь Иванов уже знал, кажись, всех, кого здесь по утрам принимал император: надушенного, затянутого в рюмку, все время переступавшего, будто на морозе, военного министра Чернышева; низенького, похожего на филина крючковатым носом и очками министра иностранных дел Нессельроде и чаще всего легкого на ногу, с виду приветливого, но с ледяным взглядом шефа жандармов генерала Бенкендорфа. Бывали и другие министры и сановники, но кому вдруг понадобился он, рядовой гренадер?
Прошло еще полчаса, которые больше старался держаться близ дверей из царской приемной на Салтыковскую лестницу, когда оттуда показались два чиновника в вицмундирных фраках, и более молодой из них, прямо шагнувши к нему, спросил:
– Ты ли это, Александр Иванович?
Только через минуту по чуть насмешливому выражению глаз за стеклами очков в тонкой золотой оправе и по острому очерку улыбающегося лица узнал похудевшего и загоревшего Грибоедова.
– Александр Сергеевич, батюшка! Приехали! Здоровы ли? – обрадовался Иванов.
– Здоров пока. Приходи вечером к Жандру. Я у него обязательно буду. Можешь?
– Так точно! В каком часу прикажете?
– Около семи. – И, приветливо коснувшись локтя гренадера, Грибоедов стал спускаться с лестницы.
Статный, прямой, легко ступая по ковровой дорожке стройными ногами в туго натянутых штрипками брюках, он без труда нагнал своего пожилого тучного спутника, украшенного двумя орденскими звездами.
«Молодец какой! – подумал Иванов. – Уже в чины вышел, раз государь его здесь принимает, а не располнел нисколько… Эх, где-то Александр Иванович мой шагает? Неужто все в кандалах?..»
Когда в назначенный час пришел на Мойку, гостя еще не было, и радостный Андрей Андреевич рассказал, что приятель его привез царю от генерала Паскевича мирный договор с персиянами, по которому передают России земли, населенные армянским народом, да сверх того должны выплатить за нападение на наши пограничные области двадцать миллионов рублей серебром.
Столько денег Иванов даже представить себе не мог. Гора целая, что ли? Сколько фур обозных надо, чтобы такие деньги из Персии перевезть? И сколько конвоя? Дивизию, поди…
А Жандр уже рассказывал, что Грибоедова нынче очень милостиво принимал государь, наградил чином, орденом и деньгами, что, должно быть, вот-вот его назначат русским послом в персидскую столицу, – обо всем этом по городу уже разнеслись слухи.
Когда приехал Александр Сергеевич, перешли в кабинет и сели в кресла. Хозяйка указала Иванову также сесть, но он сделал вид, будто не заметил, и притулился к теплой печке.
– Вы все, конечно, прежде прочего хотите услышать, что знаю про князя Александра Ивановича, – начал Грибоедов. – Так вот, в настоящую каторгу, на тяжелую работу, их, слава богу, не послали, кроме нескольких человек, которых первыми в Сибирь отправили. Но и тех теперь со всеми собрали в захолустный острог, Читой называемый. Тесно очень, нары почти сплошные, на которых спят, едят, читают и в шахматы сражаются, но пишут родным, что живут дружно, деньги или что еще из России присланное на всю артель обращают. Книги им дают, табак курить дозволено. Супруги, которые вслед за некоторыми поехали, около острога поселились и через щелки тына с мужьями переговариваются, когда тех с товарищами на двор выпускают. Все сие оттого возможно, что, на их счастье, комендантом туда назначили некоего старого генерала, который, сказывают, на вид свиреп, а сердцем мягок. Однако строят уже в другом месте каменную тюрьму, где разведут всех поодиночке. Вот все, что узнал достоверного… От Александра Ивановича батюшка его получил всего три письма. Будучи сейчас проездом в Москве, я побывал у князя всего на час, потому что скакал по курьерской подорожной. Письма все бодрые, но стал мне читать и расплакался, едва водой отпоил…
– Вы, Александр Сергеевич, как-то в письме намекнули, что надеетесь через свойственника своего судьбу нашего друга сколько-нибудь облегчить, – сказала Варвара Семеновна.
Грибоедов поправил очки и, чуть пожав плечами, ответил:
– Добился я только того, что в письме государю от Паскевича, мной нынче привезенном, среди других дел есть и просьба смягчить участь бедного Александра. То есть мне сказано, что про то писано, но я ведь не знаю, какие выражения употреблены. Вез запечатанное и передал сегодня в царские руки. Просьба же в том заключается, чтобы перевесть его рядовым на Кавказ, где отвагой выслужится в офицеры, чем получит право на отставку или сложит голову под черкесскими пулями. Но выйдет ли согласие на такую меру, не знаю. Да и где лучше? Сейчас хоть с людьми просвещенными живет, которые его, конечно, уже полюбили, а там?.. Какой командир роты или фельдфебель попадется? Вот тезка знает, каково солдатам служить.
Старый Кузьма доложил, что чай подан, и все снова перешли в гостиную. Хозяйка налила и раздала чашки. Гренадер сел в сторонке, пил да слушал, что Грибоедов рассказывал про поход, про персидское войско, в котором немало русских солдат-дезертиров. Если примут мусульманство, их офицерами производят.
– А хочешь ли снова туда ехать? – спросил Жандр.
– В Тифлис – даже очень, – ответил Грибоедов. И вдруг улыбнулся так радостно, как еще не видывал Иванов. – Там, в Тифлисе, – продолжал он, – пора вам, друзья, признаться, я наконец-то сердце свое оставил около шестнадцатилетней девицы, истинного ангела красоты, ума, такта, скромности, доброты…
– Стойте! – перебила его Варвара Семеновна. – Мне ту весть вчерась из Москвы сорока в письме принесла, да верить не хотела, пока сам виновник не скажет. Ведь ее княжной Чавчавадзевой звать? Тогда с помолвкой не чаем поздравить? – Она дернула ручку сонетки, висевшей за диваном, и приказала вошедшему Кузьме: – Неси вино и бокалы, что в буфетной приготовлены.
– Зараз и со всеми наградами тебя поздравим, – сказал Жандр.
– Посланником еще рано поздравлять, хотя на то похоже, – сказал Александр Сергеевич. – Но тебя, братец, вполне можно как свежее превосходительство. Допрыгал-таки, Жандрик, до действительного статского! – Он повернулся к Иванову: – И тезку с новым местом поздравим. – Грибоедов проворно встал с кресла, подошел к хозяйке и поцеловал ее руку: – Только не знаю, с чем милую Варвару Семеновну поздравить.
– Меня с тем, что дорогого гостя принимаю, – ответила Миклашевич, – и что узнала достоверное про бедного нашего князя. Женское счастье истинное – в счастье ей дорогих и близких.
Когда чокнулись и выпили, Андрей Андреевич снова спросил:
– В Тифлис, стало быть, хочешь ехать? А хочешь ли дальше?
– О том рассуждать не приходится, – ответил Грибоедов. – Знаешь поговорку: назвался груздем – полезай в кузов. Взялся Персию изучать, язык ее постиг, десять лет назад туда впервой поехал, в жизнь ее вникнуть старался, – вот и отвечай за это… А народ тамошний куда еще бедней да темней русского и нас как чужаков и христиан весьма не любит. К тому же мы англичанам там поперек горла, которые золота не жалеют на подкуп двора и духовенства. Вот и тягайся с ними, насколько ума хватит. Написал я прожект по торговой части, чтобы английские товары нашими вытеснить, раз караванные пути от наших границ куда короче. Вот о чем нонче думаю, и не я один. Политика и коммерция – сестры-близнецы, что ты, Андрей, понимаешь не хуже меня, раз расчетами поставщиков с казной занят. А ежели посланником сделают, еще и выколачивание контрибуций, о которой вести царю привез, – дело для меня вовсе не простое… – Грибоедов помолчал, взглянул на часы, тикавшие в углу гостиной, и поднялся: – Ах, господа, хорошо с вами, но я нынче к кузине Паскевич и к Завадовскому быть обещался… Нет, нет, не бойся, Андрей, «почетным гражданином кулис» больше не стану. Не сердитесь, Варвара Семеновна, к вам еще приеду и торопиться не буду…
Еще раз Иванов увидел Александра Сергеевича недели через три, солнечным апрельским днем, стоя на парном посту перед золочеными дверями в Агатовую гостиную. Здесь ему впервой довелось наблюдать, как обер-церемониймейстер граф Потоцкий в расшитом золотом мундире и со списком в руке расставлял в Концертном зале два десятка военных и статских сановников, которым предстояло представиться царю.
Введя их из Большого бального зала, Потоцкий, негромко называя чины и фамилии, выстроил всех лицом к окнам в одну шеренгу. При этом в середине ее гренадер увидел Грибоедова, на этот раз в шитом серебром мундире, коротких белых штанах, чулках и туфлях. Проворно присев на корточки у фланга, обер-церемониймейстер проверил равнение и ушел в Агатовую гостиную.
Сначала в зале было совсем тихо, потом зашелестело легкое движение. Не трогаясь с мест, господа распустили животы, расслабили ноги, стали поправлять орденские ленты, головные уборы, которые держали под левой рукой, кто-то откашлялся.
Но вот двери плавно распахнулись, и в зал вступил Николай Павлович, сопровождаемый обер-церемониймейстером и дежурным генерал-адъютантом. Царь шел, заложив руки за спину, в белой конногвардейской форме, с голубой лентой через плечо, высокий, прямой, неторопливо ступая длинными ногами в поблескивающих ботфортах. Его твердая поступь одна раздавалась в зале – сопровождающие, казалось, шли беззвучно, так, точно попадали они в лад с царским шагом. Поравнявшись с первым из представлявшихся, Николай сделал к нему пол-оборота.
– Благодарю ваше императорское величество за новый знак лестного монаршего доверия… – начал старчески нетвердым голосом генерал в густо-черном завитом парике.
– Служи мне, как служил незабвенному брату, – не дав старику продолжать, сказал царь. – Учения твоего нового корпуса я видел осенью. Он несколько распущен. Подтяни. Я на тебя надеюсь. Особенно слаба десятая дивизия. Поезжай с богом…
Черный хохол поник в поклоне, а царь уже прошел дальше.
– Имею честь благодарствовать за всемилостивейшее пожалование чином действительного тайного советника, – раздался высокий голос с сильным немецким акцентом.
– Мне приятно награждать честность и трудолюбие, барон, – сказал царь, переступая к следующему.
– Имею честь откланяться вашему императорскому величеству по случаю отъезда к месту постоянного служения, – густым басом доложил толстяк в придворном мундире.
– Надеюсь, ты поправил здоровье на водах, – улыбнулся царь.
Так он шел, выслушивая фразу, которую говорил очередной сановник, чуть наклоняя голову на глубокие поклоны, роняя в ответ несколько слов, задавая порой один-два вопроса. Иногда, чуть замедлив шаг, Николай слегка поворачивался к Потоцкому, который, скользнув вперед, шептал что-то, верно подсказывая, к кому подходили. Некоторым царь улыбался, на большинство смотрел равнодушно, как бы наперед зная, что услышит и что ответит. Когда дошел до Грибоедова, то разжал наконец пальцы за спиной и сказал громче, чем говорил до этого:
– После твоего доклада вижу, что меня совершенно понимаешь. Уверен, что не уронишь достоинства России. – Длинная рука в узком белом рукаве вышла из-за спины и легла на плечо Александра Сергеевича. – В письме, – продолжал царь, – которое получил вчера, Иван Федорович тебя особенно хвалит. Поезжай с богом и помни, что за мной служба не пропадет. Действуй смело – я тебе защита со всей русской силой, раз назначаю своим полномочным министром. – Белая рука оторвалась от черного плеча Грибоедова и опять соединилась с другой за спиной царя.
Когда, пройдя весь ряд, Николай сделал четкий поворот через левое плечо, то генерал-адъютант и церемониймейстер, очень ловко одновременно шагнувшие в стороны, чтобы пропустить его, выждали минуту и уже вновь скользили рядом за белой широкой спиной. Кивая то одному, то другому, царь шел обратно вдоль шеренги сановников к дверям Агатовой гостиной, которые так же плавно закрылись за ним и обоими спутниками. Иванов знал, что с той стороны стерегли нужную минуту два камер-лакея.
И тотчас в зале раздался почти громкий говор. Разбившись на группы, сановники двинулись к Иорданскому подъезду. Несколько господ окружили Грибоедова. Он, отвечая что-то, тоже пошел к выходу из зала. Но вдруг остановился и быстро направился к часовым. Встал перед Ивановым и спросил:
– Ты ли, тезка? Так щедро нафабрен, что не сразу узнаешь.
Как мог ответить Иванов? Только мигнул да чуть улыбнулся.
– Ну, вижу, что ты! – засмеялся Грибоедов. – Так вот: побывай-ка у нас до отъезда. Только чур – в этаком параде, чтобы Сашка мой от зависти одурел. Стоим у Демута, на углу Мойки, знаешь? Нумер двадцатый, во втором этаже. Ну, будь же здоров!
Кивнул и быстро пошел из зала. И опять Иванов порадовался его походке и стройности: «Вот такой посланник хоть кому нос утрет – статен, легок на ногу, умен, речист…»
Через день под вечер пошел к Демуту. Разыскал номер двадцатый и постучал в дверь. Никто не ответил.
– Они у шедши, господин кавалер, – сказал, подойдя на стук, коридорный слуга. – Их превосходительство недавно выехали, должно, в гости, по одёже видать, а за ними скоренько и камердинщик ихний куда-то волчком пошли, духами все облившись.
На другой день отлучиться в город не удалось. Только разложил на кровати парадную форму, чтобы подкрепить две пуговицы, и приготовил иголку с ниткой, как дневальный крикнул:
– Встать! Смирно!
По проходу между кроватями шел капитан Качмарев. Обычно заходя сюда под вечер, он после выкрика дневального говаривал: «Отставить! Не беспокоить гренадер!» Но в этот раз молча дошел до двери второго капральства и скомандовал:
– Всей роте строиться в «сборной»! Живо!
Застегиваясь, приглаживая волосы, гренадеры спешили выполнить приказ. Как только подравнявшийся строй замер, капитан прошел к правому флангу, встал против Варламова и велел:
– Выдь вперед на три шага да повернись к роте лицом! – И, когда тот повиновался, продолжал: – Вот, гренадеры, любуйтесь! Глядит, будто агнец непорочный. Видно, не стыдно за вчерашнее. Час назад встретился здешний майор от ворот и говорит, что вчерась сей воин заслуженный, самому государю поименно известный, в списке от полка аттестованный примерно нравственным и с которого ноне статуй для славы нашей роты сготовляется, – так он-то вчерась в казарму мимо дворца так брел, что за стенку придерживался и мальчишки за ним бегли, медведем дражнили. Вот государь бы порадовался, такое поносное зрелище увидевши! Не в пору ли нам, Карп Варламов, всем за тебя со стыда сгореть?.. Но то еще не все, гренадеры! За сим является ко мне на квартеру, куда вгорячах ушел, чтобы в наказании не ошибиться, полицейский поручик Василеостровской части и говорит: «Вчерась гренадер ваш на Четвертой линии встречного военного писаря в текучую кровь избил безо всякой того вины, как многие свидетели согласно показывают. Так прошу принять воздействие, раз я протокола не писал из уважения к роте, которую, сказывают, сам царь выше лейб-гвардии ставит…» А я-то уж знаю, кто сей герой, раз утром у меня Варламов отпрашивался на дежурстве подмениться, чтобы в Академию художеств в литейную мастерскую идтить, свой статуй увидать… Так вот что я тебе, бессовестный солдат, скажу! Сейчас – ты да ты! – Качмарев ткнул перстом в соседей Варламова по строю – берите ружья и его по всей Большой Миллионной под строгим конвоем проведите с моей запиской на гауптвахту Павловского полка. Вот сраму всей роте! Первый от нас арестованный… А как отсидишь, Варламов, две недели, то с ведома его сиятельства господина министра баки и усы тебе барабанщик перед фрунтом сбреет, и будешь бессменно по роте дневалить, покудова снова не обрастешь. Раз блюсти себя не можешь, то и я круто поступлю… Вот конвойным в руки моя записка к дежурному офицеру, которую с великим огорчением писал… Гренадеры, разойдись!..
Пока конвоиры снаряжались, несколько гренадер спрашивали Варламова, за что побил писаря, но он, насупясь, молчал. Зато вертевшийся тут же Павлухин уже болтал вирши:
На весь мир наш Карп прославлен,
Раз статуй с него отлили.
На габвахт за то отправлен,
Что с литейщиком подпили…
Но сегодня все от него только отмахивались.
Когда Варламова увели и волнение от случившегося немного улеглось, принесли ужин. «Пока поешь, оденешься да дойдешь, надо назад ворочаться, – решил Иванов. – Схожу завтра к Демуту».
Пошел в пятом часу. За дверью нумера звучала музыка. «Знать, Александр Сергеевич дома», – решил гренадер, нажимая щеколду.
За небольшой прихожей в нарядно обставленной комнате у фортепьяно сидел Сашка Грибов и, лихо взмахивая завитым хохлом и вскидывая локтями, отхватывал какой-то танцевальный мотив.
– Ух ты! И правда роскошно тебя обрядили! – воскликнул он, подбежал к Иванову, чмокнул его в щеку, оглядывая со всех сторон. – Женский пол весь, поди, только рты разевает!..
Приказав коридорному подать самовар, Сашка выставил на стол разную снедь и бутылку красного. Вино советовал подливать в чай да не жалеть сахару, называя такое питье «пуншиком». И сам делал это столь исправно, что скоро раскраснелся, как в бане. Однако гладко рассказывал про походы, про Тифлис, про красавицу Нину Александровну, которую называл «наша княжна», и хвалился, что от барина не отстанет и женится на грузинке, может, тоже княжне какой-нибудь. Там ведь не все князья богатые, а есть такие, что его заправским женихом сочтут, раз при Александре Сергеевиче служит, который обязательно министром в Петербурге станет, коли таланты имеет и с графом Паскевичем в близком родстве. А он, Сашка, при нем главноуправляющим и чин получит, раз грамоту и все господское обращение постиг.
Едва дождавшись, когда приостановился поток хвастовства, Иванов вполголоса спросил, не слыхал ли чего про господ Кюхельбекера и Бестужева, которых барин его знавал.
– Как же! Ведь мне Александр Сергеевич все даже секретное сказывает, – разом подхватил, тоже понизив голос, Сашка. – Обоих сих бедняг все в Сибирь не отправляют, а в казематах крепостных мытарят. Потому, сказывают, такая им мука назначена, что на площади великому князю смертью грозились…
Возвращаясь в роту, гренадер думал, что Сашка парень неплохой, но уж очень забалован, отчего в должности его полный беспорядок. Через двери, отворенные во второй комнате, видел на диване сюртук да панталоны – все кое-как брошенное. Должно, как ушел барин переодевшись, так и осталось неприбранное, а Сашка знай за фортепьяной хохлом трясет. Какой же из него главноуправляющий, ежели Александр Сергеевич все выше пойдет?.. Да, кому какая судьба даже из дворовых людей. Александр Грибов вон как набалован, а Семен Балашов где-то сейчас? Хорошо, ежели из темницы выпущен и сестра Вильгельма Карловича к себе взяла. Или еще из дворового звания Александр Поляков. И талантом наделен, а каково живет? Сапожонки в заплатах, локти лоснятся, голодный всегда. Отчего-то во дворце его не видать. Работой англичанин завалил или расхворался? Неспроста покашливает да в лице ни кровинки.







