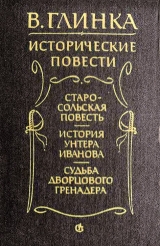
Текст книги "Судьба дворцового гренадера "
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
4
Утром прочел в табели нарядов, что с нонешнего полудня заступает дежурить на Половине короля прусского, и в обед заложил между ломтями хлеба большой кусок вареной говядины. Увидев это, сидевший напротив Павлухин тотчас начал плести:
Знатный пыж заготовляешь,
На дежурство поспеваешь,
Но закуска та без вкуса,
Коль ничем не смочишь уса.
– Брось болтать про зелье проклятое! Вон Карпа куда им занесло, да еще какой страм впереди примет, – сказал Иванов.
Но Савелий не унимался:
Я габвахты не боюсь,
Я и там за то ж возьмусь,
На походе и в сраженье
Мне от виршей утешенье…
В этот день гренадер много раз выглядывал из крайнего зала своего поста в Предцерковную, но не увидел Полякова. Так и отдал свой «пыж» на подъезде парню-дровоносу из тех простяг в деревенской одёжке, которые всегда не прочь пожевать хоть хлебца, перетаскавши на горбу несчетные вязанки дров в чуланы на разных этажах, откуда их разносят к печкам ливрейные истопники.
Теперь Иванов уже знал, что в этом огромном дворце, полном позолоты, шелков, картин и всяких богатств, кроме разодетой, часто заносчивой прислуги, живет куда за тысячу всякого подсобного люда и отставных стариков, раньше здесь что-то делавших, многие из которых рады куску, сунутому в руки.
Четыре дня Иванов не видел художника и забывал прихватывать для него съестное, такие события волновали роту. Когда князь Волконский доложил царю рапорт Качмарева, испрашивающего разрешения после выхода Варламова из-под ареста обрить его перед фрунтом «для внушения прочим», Николай Павлович, пребывая в добром часе, приказал простить виновного. Он помнил этого красавца правофлангового шефской роты с того дня, как юношей вступил в командование Измайловским полком, и сам недавно заказал его статуэтку, которой собирался украсить свой кабинет на манер портрета «первого солдата» Бухвостова, заказанного когда-то Петром Великим. Нет, такого нельзя уродовать бритьем, пусть почувствует царскую милость. Но нагнать на него страху необходимо. И царь приказал своим именем внушить Карпу, что при малейшем проступке уйдет в полк штрафованным рядовым.
Качмареву, конечно, была неприятна отмена его приказа. Но разве возразишь? И капитан сделал все, как велено, снова крепко отчитал перед строем заметно осунувшегося за трое суток ареста Варламова и, уйдя в канцелярию, засел за какие-то бумаги. А когда вечером, по обыкновению, шел в роту к поверке, то на дворе нагнал Савелия Павлухина, оказавшегося под сильной «мухой». На ногах он стоял крепко и лихо сделал капитану фрунт, но водкой несло от него за версту. Качмарев начал пробирать Савелия, чем дело бы, верно, и кончилось, но тот ответил стихами, в которых курившие поблизости товарищи услышали, что сердце гренадера иссушила кумушка, на которой жениться есть его заветная думушка. Потом пошли мечты про запотелый графинчик и на окошке цветущий бальзаминчик. Дальше капитан не пожелал слушать и приказал Павлухину отправиться на гауптвахту.
Перед сном среди гренадер шли пересуды, не будет ли и тут послабления свыше, и все соглашались, что командир роты не зря наказал Савелия. Ему бы молчать как рыбе или сказать: «Виноват, ваше высокоблагородие», а он знай свою дурь несет…
На другой день после этого происшествия Иванов не забыл захватить «пыж» для Полякова и только обошел свой пост, как увидел живописца, тащившего стремянку в галерею. Помог отнести и расставить, сунул свой пакет и наказал заглянуть к нему на пост, когда окончит работу, чтобы вместе убрать лестницу.
– Спасибо, дяденька Александр Иванович, – сказал художник каким-то не своим, бодрым голосом и с широкой улыбкой.
– А ты, тезка, никак именинник, хотя будто что в сем месяце никакого Александра не празднуют.
– Нынче мне поболе праздник выдался, чем именины, – отозвался Поляков. – Вот уж истинно счастливый день, раз в него узнал, что кабала моя вот-вот окончится.
– Неужто барин в судьбу твою взошел? – обрадовался Иванов.
– Поднимай выше! – счастливо засмеялся Поляков и указал на помещенный в третьем ряду портрет молодого генерала. – Вот они, президент Общества поощрения художников, тайный советник Петр Андреевич Кикин, которые раньше генералом боевым были, да еще господин Свиньин за меня перед самим государем заступились. Прошение подали на мистера Дова и плутни многие на чистую воду вывели, которые по алчности своей здесь завел.
Тут из Тронного вышел обходивший свой пост гренадер Крылов из прежних конногвардейцев. Попросив его подержать лестницу, пока Поляков лазает, Иванов поспешил на Прусскую половину, наказавши художнику зайти туда рассказать подробней о своих делах. Ждал и не дождался. А когда, сменившись, встретил Крылова, тот сказал, что в галерею заходил англичанин, бранил Полякова и наказывал скорей кончать какую-то работу. А молодой живописец все молчал, и когда вместе убрали лестницу, то заторопился следом за начальством.
Назавтра, когда Иванов после обеда сгибался в роте над щетками, дневальный сказал, что его спрашивают у двери. Здесь гренадер увидел Полякова, пригласил к своему месту, усадил на табурет, сам сел на кровать. Большинство гренадер стояли в наряде или разошлись в город, так что разговаривать было удобно.
– Не тужи, тезка, – сказал Иванов, – наша судьба отродясь подневольная.
– Да нет же, Александр Иванович, теперь моя судьба даже совсем к лучшему повернулась, – заулыбался живописец. – Вчерась в галерее я перед кровопийцем своим молчал, как вам, верно, дяденька Крылов передали, оттого что пока так наказано от благодетелей моих. А вчерась же ввечеру мне господин Свиньин сказали, что Обществом поощрения не только про мошенства господина Дова и про мою у него кабалу государю доведено, но еще две тысячи рублей на мой выкуп собрано. Подумайте – две тысячи! – Поляков поднял вверх палец. – И о сем государю также тайным советником Кикиным доложено. Да и то еще не все… – Живописец сбросил с плеч свою ветхую шинельку и приосанился: – Вчерась же от самого царского лица вышел письменный приказ запросить барина моего, сколько за меня получить желает, а меня сейчас же, ответа не дожидаясь, определить в Академию художеств обучаться и от Дова навсегда ослобонить. – Поляков перевел дух. – Вот, дяденька, голубчик, такие мои новости, что к вам ровно на крыльях летел. – Блаженная улыбка осветила бледное лицо художника. Он впервой огляделся по сторонам, как бы обретя на то смелость от своего рассказа. – А как тут у вас хорошо! На казарму вовсе не схоже. Тепло, светло, – он пощупал матрац, – кровати ровно у барышень каких, и белье чистое. Истинно царская рота! И ружья как славно в ряд стоят, солнышком освещёны.
«Видно, надобно и мне его в такой день чем-нибудь порадовать», – думал в это время Иванов и спросил:
– А не хочешь ли нонче под вечер, часов в шесть, пойти со мной в Графский трактир супротив Круглого рынка? Я тебя солянкой мясной угощу, а ты мне, как след, дела свои перескажешь. Согласен ли?
– Покорнейше благодарю, Александр Иванович, – поклонился, привстав, Поляков. – Я тамо еще не бывал, как сказывали, что дорого берут. А коли пятак случится, то сряду с лотка перехвачу печенки аль рубца…
Трактир, в который пригласил Иванов живописца, помещался в нижнем этаже принадлежавшего графине Зубовой дома на углу набережной Мойки и Аптекарского переулка. Он относился к разряду самых дешевых заведений этого рода. На вывеске стояло одно слово «Трактир», но в соседних кварталах его называли «Графским». Днем, в холодное время, здесь грелись чаем и сбитнем купцы и сидельцы Круглого рынка, сбежавшие из нетопленых лавок, и продрогшие там же их покупатели. А часов с четырех сиживали, сменяя друг друга, берейторы, шорные и экипажные мастера из почти что соседних придворно-конюшенных зданий. Заходили также канцеляристы дворцового ведомства и «солдатская аристократия»– писаря и фельдфебели Преображенского и Павловского полков. А последние месяцы почетными гостями стали дворцовые гренадеры, известные округе своими достатками.
Иванов не любил трактиров с их чадным «съестным» духом и бестолковым шумом, но уже не раз бывал в Графском по приглашению товарищей, праздновавших именины, получение нашивок-шевронов за беспорочную службу или находивших иной повод выпить и побалагурить.
Только без четверти шесть схватился убирать в тумбочку щетину, инструменты и одеваться к выходу. В начале седьмого он подошел к трактиру. Поляков уже прохаживался у дверей, подняв воротник шинели.
Заняв столик в третьей от входа, самой маленькой и пока пустой комнате, освещенной двумя оплывшими свечами в стеннике, Иванов заказал мясную сборную солянку, чаю на двоих и пяток калачей. Объяснив, что ужин сохранят ему в роте, гренадер отодвинул поставленную ему тарелку. Пока не принесли еду, художник разочарованно оглядывался: уж очень все невзрачно – низкие потолки, мятая скатерка, щербатые тарелки. Но когда половой водрузил перед ним миску, из которой ударил густой мясной дух, Поляков, перекрестившись на темный угол, скинул шинель на спинку стула, налил себе полную тарелку густого супа и начал истово хлебать, по-крестьянски подставляя под ложку ломоть хлеба. Чтобы ободрить гостя, Иванов рассказывал, как, даже будучи вахмистром, всегда мог есть, ежели появлялась к тому возможность. Потом вышел велеть, чтоб подали свечей поярче, и поглядел в первой комнате на писарей, игравших в шашки. А когда возвратился, художник дохлебывал вторую тарелку. Спросивши Иванова – неужто же и мяса не хочет? – он придвинул миску и стал убирать куски говядины, курятины, солонины – все, что оказалось там вперемешку с огурцами и луком. Есть так самозабвенно может только долго голодавший человек, получающий от пищи истинное наслаждение. При свете новых свечей стало видно, что востроносое личико живописца порозовело и все блестит испариной.
Продолжая рассказ, Иванов дошел до того, как после двадцатилетней солдатчины судьба его помиловала, точно как сейчас Полякова, который куда моложе и с учением впереди.
Дожевав последний кусок, художник вынул из кармана какую-то тряпочку, под столом стыдливо собрал ее в комок и, вытерши лицо и шею, сказал с чувством:
– Ну, спасибо, дяденька! Вот так угостили, прямо по-царски! Восемь лет в Петербурге живу, а так разу не едал.
– Нам иначе нельзя угощать, раз из царевой роты, – пошутил Иванов. – А теперь вместе чаю напьемся. Ты чай любишь ли?
– Как не любить! – отозвался живописец. – А мне, значит, под чай вам рассказывать, как англичанин из меня кровь сосал?
– Рассказывай, ежели вспоминать не тошно. – Иванов разлил чай по стаканам. – Сахару не жалей, да вот калачи свежие…
– Покорно благодарю-с… Так горе сие, дяденька, с того началось, что барин мой генерал Корнилов в Петербурге по делам кружился, когда мистер Дов уже вторую зиму портреты писал. Вот в тое время, перед ним сидючи, генерал и расскажи, что при костромском доме имеет своего крепостного живописца, меня то есть, который потолки по дворянским гостиным малюет и портреты схожие сымает, раз у тамошнего живописца Поплавского обучался. Дов не поленился к генералу на квартиру приехать, чтобы генеральшин портрет моей кисти поглядеть, и тут же предложил меня к себе в работу принять. Говорилось, что я мундиры да ордена писать стану, когда издалече генералы свои портреты Дову пришлют, с тем чтобы для галереи с них копии изготовил. А он за то меня станет в Академию учиться отпущать. Узнавши такое условие из письма управителю в Кострому, я прям возликовал – чего же лучше!.. Подрядились они так: за мою работу Дов будто должен в год восемьсот рублей ассигнациями платить, из них оброку двести рублей генералу высылает, четыреста за пищу себе удерживает, которую я имел с его лакеем, объедками господскими питаемым. Сюда же и квартира в виде холодного чулана входила. Остальные двести ни разу мне сполна на руки не выдавал. За каждый день, ежели захвораю, высчитывал. А в здоровые дни должен был я не менее двенадцати часов за мольбертом сидеть… Да, забыл сказать, что бумагу с генералом подписали сряду на все годы, пока галерея делается…
– А когда же учиться тебя отпускал? – спросил Иванов.
– То и дело, что в Академии я разу не побывал, так работой меня завалил. И насчет мундиров на копиях тоже одни слова пустые оказались… Услышите дальше, что расскажу, так подивитесь, каков мистер Дов жаден да лжив… – Поляков откусил кусочек сахару, отпил чаю и продолжал: – За каждый портрет, для галереи писанный, он по договору тысячу рублей получает. А почасту портрет, что мне или еще одному подручному немчику списывать даст, – ту нашу работу в галерее поставит, а который сам писал – генералу, что изображен, аль его детям, вдове, коли помереть поспел, за вторую тысячу уступит…
– Неужто же по тысяче за каждый? – поразился Иванов. – Я в первый раз, как ты сказал, думал, ослышался. А сколько же дней он тот портрет делал и подолгу ль вы их списываете?
– Он, слов нет, мастер редкостный, работает на удивление схоже с натурой и быстрей невозможно, – ответил Поляков. – Каждый портрет не боле шести часов пишет. А я поначалу дня по три копии сымал, а потом так присноровился, что за день…
– Так он, выходит, в один день твоим уменьем больше гребет, чем тебе же за год платит? – развел руками гренадер.
– Вот-вот, – подтвердил Поляков, отпил чаю и спросил: – Так есть ли тут, дяденька, какая справедливость?
Иванов сначала огляделся: место ли в трактире про такое говорить? Но они по-прежнему были одни в задней комнатке. Дверь в передние, полные людьми, была притворена, оттуда глухо слышны голоса и звон посуды. Другая дверь, из которой носили горячие блюда, верно, в кухню, была также прикрыта.
– Про справедливость нашему брату рассуждать нечего, – сказал наконец гренадер. Он налил Полякову еще стакан, пододвинул блюдце с колотым сахаром, калачи и спросил: – Так как же тот генерал Кикин в твое положение проник?
– Не во мне одном дело, – снова обтираясь своим комочком, ответил живописец. – А жадность черная Дова обуяла, все ему казалось, что мало денег загреб. А ведь, кроме генеральских портретов, сколько по городу в каретах рыскал, которые знатные бары за ним присылали, да ихние портреты писал. Царя покойного и нонешнего, государыней всех трех, князей великих, министров, сенаторов, архиреев, барынь знатных – кого только не писал! И за те портреты тоже большие тысячи шли. Однако все мало – засадил двух англичан со своих портретов гравюры резать да по двадцать пять рублей отпечаток продавал. Ему – пятнадцать, а мастерам – по десятке. С ними еще по-божески обходился. Потом нам с Василием приказал царские портреты прямо дюжинами сымать, а сам их подписывал, ни разу кистью не тронувши…
– Кто ж таков Василий? – спросил Иванов.
– Да тот немчик, которого поминал. Он Вильгельмом зовется, а по-русски – Василий. Голике его прозвание, тоже, бедняга, не зря охает, да все легче, раз не крепостной, в любое время отойти может… Так те копии, что мы с ним вперегонки писали, а Дов подпись свою ставил, уже в Гостином дворе купец Федоров по пятьсот рублей за штуку продавал и на ярмарку в Нижний сколько-то отправил. Были и еще мошенства, все долго рассказывать, о которых пошла-таки по городу молва. Дов, видно, думал, что тут, как средь дикарей, никто в художествах не разумеет. Ан нет! – Поляков допил второй стакан, заел его калачом и продолжал: – Живут, слава те господи, такой барин, Павел Петрович Свиньин. Они когда-то сами живописи учились, потом чиновником служили и журнал свой выдают. Все другие господа только: «Ах да ах! Каков господин Дов искусник!» А Павел Петрович и заметь, что много портретов иной рукой писаны, наметанный глаз такое сряду увидит. Прием у Дова, прямо сказать, сильный, смелый, а у нас обоих и мазок другой, робкий. Хоть его же копируем, но так, как он, ни в жисть не написать. Не говоря, что до сотни в галерее портретов, которые с присланных из дальних мест, часто плохоньких, мы с Голике в нужном размере копировали, а они казне также по тысяче рублей обошлись. Стали господин Свиньин туда-сюда ухо преклонять, добрались до купца Федорова, а потом и до нас с Василием. И еще очень обидно Павлу Петровичу, что галереей не русский живописец величаться будет, а иностранец, который русские деньги лопатой гребет, когда нашим первейшим художникам за такового размера портрет больше трехсот рублей не взять. – Поляков перевел дух и снова утер лоб и шею тряпочкой, которую поворачивал, ища сухого места.
– Как же тот барин Свиньин поднялся против такого самому царю известного иностранца? – спросил Иванов.
– Есть общество, добрыми людьми собранное, поощрением художников занимается, то есть чтобы нашему брату помогать. Так господин-то Свиньин хоть там не самый главный, но весьма речист и прыток. Он генералу Кикину все открыл и других господ на англичанина поднял. Позвали меня в ихнее присутствие и спрашивают, как живу. А что ж мне врать, мистера Дова выгораживать? Кабы он хоть малость меня жалел, то, верно, не стал бы. Я тут и высказал, как вам нонче. «Правда ли, – спрашивают меня, – что в день по портрету снять можешь?» – «Правда», – отвечаю. «А вот мы тебя испытаем», – грозятся. «На то воля ваша», – отвечаю. На другое воскресенье я за восемь часов большой портрет всей фигуры скопировал у них в запертом покойце. А они собрали, видать, все показания да доложили государю прошением, которое все подписали. Так ведь и государю приказать не просто, раз в галерее полсотни малых портретов не хватает да и больших всех, окромя царя покойного. Но тот, как всякому видать, весьма плох: не умеет Дов коней писать. Однако надо, чтобы доделал, за что взялся… Ну, государь и велел пока только меня от него отнять и в Академию определить, а барину писать, чтобы уступил за выкуп, что в обществе собрали. За две-то тысячи, да раз сам государь велел, отпустит, поди?
– Ясное дело, – кивнул Иванов.
– Ну, то впереди, – вздохнул живописец. – А покуда денег у меня сорок два рубля и обзаведения никакого – что на мне носильное да еще пара белья, тюфячок да подушка.
– Одеяло я тебе дам, у меня лишнее, еще полковое, – сказал гренадер. – Но где ночевать станешь? От англичанина отошел уже?
– Снял на Мошковом у старушки каморку с дровами, – ответил Поляков. – Завтра в Академию пойду, как господин Свиньин наказали. Будто там про меня уже известно. Скоро, видно, придется на Остров перебраться, где художники живут, к учению ближе.
– А что же с Довом государь сделает, как галерею окончит? – спросил Иванов. – Деньги, поди, с него не взыщут, так хоть бы мошенником ославили… Ну, а немчик твой при нем остается?
– Его дело иное, над ним не так измывался. Небось на лестницу меня всегда слал. Да еще пугал, бессовестный: «Разрываешь портрет, так две бес платы писать заставляю», – передразнил Поляков иностранный выговор своего врага. – А что убьешься до смерти, с пятого ряда свалившись, то ему все одно.
– А на что жить станешь? – обеспокоился гренадер. – Надолго ль твоих денег хватит? Пока на Мошковом живешь, ходи ко мне в роту, у нас всегда остатки есть.
– Спасибо, дяденька, но обещает общество помощь выдавать. И царских портретов, которые хоть зажмурившись писать могу, пару сделаю – да на рынок. Прокормлюсь не хуже, как у злодея. А нынче спасибо за угощение, право, с Костромы так не едал. Там повар мне крестный был, нет-нет да и накормит досыта.
– Бери калачи да сахар, за них плочено, – предложил Иванов.
Живописец не заставил себя упрашивать. Проворно распихав по карманам все несъеденное, он стал надевать шинель.
– Благодаря Дову даже сии края мне опротивели, – сказал он. – Как на Остров переберусь, то ни шагу сюда. К вам повидаться и то будет надобно себя неволить, хотя вас, дяденька, душевно полюбил… Ох, что ж такое? Никак драка пошла?..
За дверью в трактирной комнате послышались возня, стук падающей мебели, чей-то выкрик, потом будто звериное рычание. Вот дверь распахнулась, и за ее проемом встал, накрепко упершись в порог, высоченный дворцовый гренадер в фуражке и шинели. Под руки его подхватили и толкали вперед трактирные половые в белых рубахах и портах. Третий схватил сзади за поясницу, так что казалось, будто гренадер опоясан полотенцем. И все не могли впихнуть в комнату, откуда оторопело смотрели на борьбу недавние собеседники. Лицо гренадера было так искажено натугой и злостью, да еще он, перекосившись, зажмурил один глаз, так что Иванов не сразу узнал Варламова.
«Не пробрали его ни карцер, ни капитановы отчитки, – подумал гренадер. – Как бы уйти до греха?»
Но тут Варламов разглядел его.
– Александра! – воззвал он, снова оттолкнувшись ногами от порога. – Помогай! Вишь, гниды белые меня бьют.
– А ты чего им наделал?
На вопрос ответил тот половой, что толкал Варламова сзади. Ловко вывернувшись из-за гренадера и тряхнув волосами в виде поклона перед Ивановым, он бойко доложил:
– Они, господин кавалер, давеча в трактир как ввалились, уже хмельные, то сряду зачали двух писарей лбами стукать, разом обоих раскровенили, едва мы втроем отняли-с. А сейчас хотим черным ходом вывесть, раз те за будошниками побегли. Сберечь их, значит, от аресту хотим.
– А по глазу меня кто огрел? – взвился Карп. Вырвав руку, он ухватил одного из половых за шею и стал гнуть к полу.
– Брось сейчас! – приказал Иванов. – Брось, тебе говорю! Хочешь, чтобы капитану полиция связанным представила?
– Так мы же с тобой вдвоем и будошников хоть сколько уложим, – возразил Варламов, но отпустил шею полового и, разом подхваченный своими поводырями, оказался наконец в комнате. Видно, упоминание о командире дошло-таки до его сознания.
Воспользовавшись тем, что дверь оказалась свободной, Поляков, топтавшийся у стола, шмыгнул мимо них к выходу из трактира. В то же время Иванов надел шинель, фуражку и, обернувшись, толкнул дверь, через которую носили кушанье. За ней открылись сени, тускло освещенные фонарем. Слева за еще одной дверью трещали в печи дрова и мигал другой фонарь – там была трактирная кухня. Справа третья, открытая настежь дверь вела на двор. Там – снег, забор и калитка на Мойку.
– Пошли! – крепко ухватил Иванов за рукав Карпа.
– Дозволь хоть разок каждого награжу, – рванулся было тот.
– Самого завтра капитан наградит, – отозвался Иванов, выталкивая буяна в сени к выходу на двор.
За ними грохнула захлопнутая дверь, звякнула задвижка.
«Теперь бы только на будошников не нарваться, – соображал Иванов. – Откуда прибегут? Ближняя будка у Конюшенного моста…»
Он толкнул Карпа за поленницу у забора.
– Стой тут и нишкни. Снегу сгреби – да к глазу, чтоб завтра капитан не увидел.
– Измайловцы и в Бородине шагу не отступили, – бормотал тот.
Иванов двинулся к калитке, но во двор вскочил Поляков.
– Квартальный с будошниками только в трактир вошли, – забормотал он. – По Аптекарскому бегите да на Неву по Мраморному.
Сказавши, юркнул в калитку и повернул к Конюшенному мосту.
Схватив Карпа за локоть, Иванов потащил его за собой.
– Беги, пентюх, а то беды не оберемся!
Пробежав половину переулка, перешли на шаг. Поправили фуражки, одернули и застегнули шинели. Карп шел твердо и опять, схвативши горсть снегу, приложил к глазу.
– Видишь ли? – спросил Иванов, вспоминая свое давнее горе.
– Вижу. Только попервости саднило. Но обида!.. От половых обида гренадеру…
– Мало тебе, видно, дали, что про обиду рассуждаешь! – в сердцах сказал Иванов.
Как посоветовал Поляков, к воротам подошли от набережной. И в самое во время – дневальный запирал их на ночь. Дежурным был унтер Маслов, из бывших измайловцев. Он на поверке будто не заметил хриплого отзыва Варламова и его подбитого глаза.
«Ну, авось пронесло», – подумал Иванов.
Но утром сразу после раздачи сбитня его кликнули в канцелярию роты. Качмарев сидел один, услав куда-то писаря.
– Был вчера в трактире у Круглого рынка?..
– Так точно, ваше высокоблагородие.
– Что пил?
– Один чай, калач еще съел.
– А Варламов там был?
– Не могу знать. Я в задней комнате со знакомым гутарил.
– Побожись, что Карпа не видел.
Иванов молчал.
– Ну вот, значит, соврал мне, – сказал капитан. – Думаешь, оно хорошо?.. А теперь послушай-ка. Нонче чуть свет ко мне на квартеру заявился полицейский офицер и сообщает, что вчерась вечером в том трактире мой гренадер, лицом чистый, волосом русый, учинил драку. Сначала двух писарей от городского коменданта, впервой туда зашедших, лбами сталкивал да еще богохульственно приговаривал: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Потом троих тамошних услужающих сильно помял, которые его унимали. А увел его оттуда другой гренадер, который в задней комнате солянкой какого-то ледащего в шинелишке угощал. Я, понятно, сряду вспомнил, что Варламов днем мне навстречу попал, с узелком в баню шедши, отчего не фабреный, и второе – что ты известный трезвенник и живописца Полякова жалеешь…
– Виноват, ваше высокоблагородие, – сознался Иванов.
– Бог простит, – махнул рукой Качмарев. – Я тебя ведь для совета позвал. Истинно не знаю, что с Варламовым делать. Раз из полка мне передали, что куликнуть любит, то я его, дурака, уговорил жалованье сполна, окромя трешки на табак да на баню, в ящик ротный сдавать, чтобы на некое задуманное, которое открыть не захотел, капитал составить. Так все одно начал загуливать, когда в Академию приказали отпущать. Там мастер его полтинами награждал – отсюда и пошло! Упрятал было под арест – так нет, выпустили до сроку. Павлухина, чтоб компании ему не стало, туда заслал – тоже не помогло. Положим, полицейского поручика мы с супругой кофеем изрядно употчевали и за перчатку ему синенькую от себя сунул, за каковую побожился, что дело загасит, – мало ли тут рослых солдат? Но насчет Варламова я в полном сумлении. После прошлого мне князем строжайше наказано доносить про Карповы проказы, а он, всеконечно, государю про драку с богохульством тотчас доложит. И пойдет, садовая башка, в полк штрафованным в сорок два года. Хоть злость на болвана берет, а все жалко… Ну, а ты что скажешь?
– Вам видней, ваше высокоблагородие, – отозвался Иванов. – Но раз вчерашнее не откроется, то проберите его в последний раз. Только вас и боится. Одним вашим именем оттоль увел.
– А он никому еще про вчерашнее не болтал? Ты-то, я знаю, молчальник, – сказал капитан. – Ну ладно, попробую уж точно в самый последний раз. Эх, кабы один Варламов такой в роте был! Пока трезвы – рассудительны и послушны, а выпьют – и все обиды, что за жизнь накоплены, разом в башку брызнут… За ростом, красотой и заслугами гнались, жалованье небывалое назначили, льготы разные, а небось не написали в приказе, чтоб пьяниц не слали. Как можно! У нас ведь народ такой трезвый! А я теперь возись. Молодцов да красавцев много, но и пьяниц полроты… Ну, пошли ко мне дурака. Видно, страхом не проймешь, попробую души достать. Не знаешь, есть ли у него зазноба?
– Не могу знать, ваше высокоблагородие, не было такого слуху.
После обеда, увидев в окно Варламова, курившего в одиночестве трубку, Иванов накинул шинель и вышел на двор.
– Больше не бывать такому, вот те крест! – сказал Карп. – И к тому же вовсе не на что. Раз статуй мой окончили, то наградным от господина Ковшенкова конец… А писарей военных, особливо фофанов сытых, все одно так и подмывает уродовать.
– За что ж ты на них эдак зол?
Варламов, оглядевшись, убедился, что они одни, и сказал:
– За то, что один таков красавчик дочку мою сгубил.
– Дочку? Да разве ты женатый, Карп Васильевич?
– Был до службы. Только женился, а тут мещанское общество по жеребью меня в милицию в тысяча восемьсот седьмом году сдало. Сказывали, только до конца войны, а там – цап! «Зачесть за рекрутов, передать в полки». И попал в наш Измайловский… Тогда и ворочаться не больно хотел, раз узнал, что жена родами померла, а дочку сестра моя, бездетная и достаточная, к себе приняла… В тысяча восемьсот пятнадцатом году выпросился в отпуск, захотел в родном Ярославле сестрино семейство узнать – она замуж вышла и детей двоих родила. Тут и дочку свою впервой увидел, Федосьей звали. Такое дите доброе… Все, бывало, за мою руку держится, не отпущает. Я, говорила, за тобой, папонька, всюду ходить буду. И с рукой моей на ночь заснет… – Варламов закусил костяной мундштук трубки и, помолчав, продолжал: – Все твердила: «Возьми с собой, я тебе вместо мамоньки рубахи мыть да щи варить стану…»– Он отвернулся от Иванова, откинул серебряную крышку немецкой трубки, которую берег с заграничного похода, ковырнул в ней шпилькой, что болталась тут же на цепочке, пыхнул несколько раз дымом и спросил: – А куда взять-то? Кабы бабу встретил по сердцу, чтоб ей мачехой доброй стала… А так ведь все девки на час, которым дите разве можно сдать?.. Ну… Прошлый год осенью дошло от сестры письмо. Сряду, поверишь ли, сердце екнуло. Почуял, что горе в нем. Пишет, что Феню мою отдала в учение к золотошвее, а там к ней подделался писарь военный, хозяйкин знакомец, жениться обещал, перстеньки да ленты дарил. А потом и перевели его будто в Петербург… А она, глупая… – Карп вдруг моргнул, кашлянул, сплюнул и растер ногой. – Она-то и утопилась. Может, перед людьми чего скрыть хотела, а может, с обиды одной… Вот я и затосковал. Особливо когда сюда назначили. Тут бы мне дочку в Петербург выписать, на вольной квартире поселить, приданое справить, внучат дождаться, коль ее дитёй, почитай, не знал… Вот, Иваныч, оттого, как увижу писарскую смазливую харю, так и бьет кровь в голову: вот он, погубитель Фени моей. Разыскал бы его, так сестра, видно, того боится и прозванья не пишет…
– А на что же деньги, Карп Васильевич, копишь? – полюбопытствовал Иванов, желая отвлечь Варламова от тяжких мыслей.
– Собираюсь на родину съездить. Пишет сестра – овдовела, а сына ее, что Фенин любимый браток был, будущий год в рекруты может общество сдать. Хочу выкупить, чтобы моей сладкой доли не хлебнул…
Нежданной болью отозвались в сердце Иванова слова о детской ручке в ладони. Будто не то, а похоже чем-то и на его утрату. Откуда пришла боль через столько лет? Почему еще помнит, как доверчиво легли Анютины пальчики в его руку?..
Качмарев не зря ворчал: чем больше привыкали гренадеры к новой достаточной жизни, к легкой службе, к свободному выходу из казармы в будни, тем чаще, без меры приложившись к чарке, различным манером нарушали дисциплину. И все возрастало число просивших разрешения вступить в законный брак, дававший право убраться с глаз начальства на вольную квартиру.
Иванов оставался вне обоих этих разрядов, не загуливал и не собирался жениться. Но и он этой весной чувствовал горечь оттого, что нет близкого человека, нет угла, а все казарма да казарма. Пусть просторная, теплая, светлая, но все на людях, все начеку перед начальством. И теперь еще чаще, чем в полку, упрекал себя, что пять лет назад даже не спросил самое Анюту про ее согласие. Бывает ведь, что и в таком возрасте замуж выходят. И жива бы осталась, а как бы сейчас-то зажили!..







