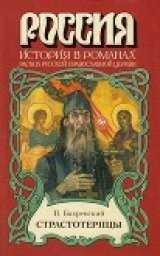
Текст книги "Страстотерпцы"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Енафа ещё при звёздах уехала в Лысково отправлять корабль в Астрахань. Товар – мурашкинские шубы и овчины. А втайне ещё и пушнину. Потому втайне, чтоб разбойников, сидящих на горах Жигулёвских, не всполошить. Десять молодцов под видом корабельщиков вооружила Енафа пистолетами и пищалями.
Анна Ильиуична, вдова Бориса Ивановича Морозова, подарила мортирку[27]27
Мортирка — небольшая пушка.
[Закрыть]. Тоже в торговлю пустилась, дала Енафе на продажу свои старые, но великолепные шубы: две куньи, две песцовые да соболью.
Савва в дела жены не пожелал вникать. Ему на мельнице было хорошо.
Проводил Енафу и пошёл на плотину, поглядеть, нет ли где какой прорухи.
Низко над землёй висел Орион. Название созвездия Савва ещё под Смоленском узнал, от немецкого майора. Зимние звёзды. Летом их видят разве что сторожа да пастухи. Перед зарей являются на небе.
На плотине послушал, как переговариваются струйки воды, бьющие через щели в досках. Говор был привычный, Савва сел на любимый пенёк и смотрел под мельничье колесо, на колыхание воды у плотины. Звёзды на той большой воде качались, как в люльке, и среди чистого, пронзающего душу запаха реки пахло звёздами, кремнёвой искоркой. С запахом звёздных вод для Саввы сравнимой была только околица, коровья пыль.
«Господи! – думал Савва. – Какую быструю жизнь послал ты мне, грешному!»
Вдруг вспомнил детский свой сон. Уже в поводырях ходил. Бог приснился. Некто невидимый поднёс ему на ладонях два огромных глаза, каждый с небосвод, и строго сказал: «Смотри, радуйся, страшись!»
Слепец Харитон, от которого тогда простодушный малец не утаил чудесного сна, три раза с вывертом ущипнул за кожицу на рёбрышке – по сей день чешется – и так истолковал видение:
– Смотри, лень ты наша, смотри так, чтоб и мы видели. Смотри, неслух, радуйся Божьей красоте, чтоб и мы радовались. Страшись, дурень, когда углядишь, что всем нам пора шкуру спасать.
Плеснуло! Да не плеснуло, а взгорбило воду, пояс Ориона вскрутнулся, ушёл в воронку под колесо.
– Сомище! – решил Савва и почувствовал: в прошлое утягивает. Внутренним зрением увидел соблазнительницу свою. Как вбирала она, мучимая любовью, всю плоть его: руками ласковыми, теплом тела, сокровенной влагой своей, светом и слезами глаз. А уж плакала – дождь так не вымочит, а уж смеялась – будто солнце в ливень.
Думал о той, о первой, но перед взором стояла Енафа.
Уловил на воде неясный, трепещущий свет. Зарницы, что ли? Ни единого облака, грома не слышно, а всполохи мечутся, небо дрожит, словно будет ему наказание.
«Может, с Никоном беда? – подумал вдруг Савва. – Жив ли святейший? Здоров ли?»
Увидел птиц. Огромные птицы, размахнув чёрные крылья, скачками передвигались со стороны Мурашкина к лесу. Савва замер. Потряс головой. Тихонько соскочил с пенька, наклонился над водою, умылся. Наваждение не исчезло.
2
– Воробьиная ночь! – говорили Иове и несли куда-то, а он уже привык к чудесам и дремал, не страшась и даже не думая о затеях лесных людей.
Плыли на лодке, но совсем недолго. Может быть, только переправились через Сундовик. Небо подмигивало, но уж так хотелось спать, что он снова засыпал. И в лодке, и в телеге. Везли на пахучих, на медовых травах. Сладок утренний сон под скучные скрипы колёс, под ленивый бег лошадки, под шёпоты и шелесты сена.
Пробудился Иова... на крыше. На соломенной крыше, в соломенном гнезде. Поглядел – лужайка, лес. Все деревья – дубы. Трава высокая, в траве, в росе девка купается.
– Проснулся! – закричал снизу визгливый старческой голос.
Голая девка тоже взвизгнула, кинулась в избу.
Заслоня глаза ладонью, смотрела на Иову от колодца... баба-яга. Иова пополз-пополз и спрятался в гнёздышке.
Старуха засмеялась, как залаяла, клюкой о журавель стукнула, крикнула, как каркнула:
– Заждались тебя травушки! Живей!
Иова лежал, помалкивая, прислушиваясь. Заскрипело сухое дерево, ближе, ближе... Над гнездом наклонилось синеглазое, пригожее девичье личико.
– Здравствуй, солнышко!
Иова подумал немножко и ответил:
– Ну, здравствуй!
– Слезай молоко пить! Да поспешай. Травки безымянные заждались. Слезай, не бойся.
– Чего мне бояться, – сказал Иова, – я, чай, царь.
– У нас ты ученик, – возразила девица. – Ты нам в ученье отдан. Быстро, говорю, слазь. Неслухов бабушка берёзовым прутом дерёт.
Иова хмыкнул, подождал, пока девица отправится вниз, и сам спустился.
Изба без крыльца, вместо ступенек врытый в землю кряж. Сеней тоже не оказалось. В избе – печка, полати, стол, лавка. На столе две кринки молока, два куска хлеба, солонка.
– Это тебе, это мне, – сказала девица и осушила кринку единым духом.
Иова откушал по-учёному: хлеб солил, запивал молоком. Молоко заедал хлебом.
Старухи не было видно.
«И слава Богу!» – решил Иова.
– Пошли! – торопила девица. – Травки уж так аукают, что вся роса на них высохла.
Роса не больно-то и высохла, босые ноги обожгло холодом. Иова догадался идти по следам девицы.
С дерева снялась, полетела, увязавшись за ними, синяя сойка.
– Это моя подружка, – сказала девица. – Меня Василисой зовут... Прекрасной.
Синие глаза зазеленели, как ящерки. Иова набычился.
– Тебе холодно, что ли? – спросила Василиса участливо. – А я так по утрам купаюсь в росе.
Иова багровел и молчал.
– Скоро потеплеет, – пообещала Василиса. Она размахнула руки, закружилась, складно выкрикивая слова: – На всякой на гари – Иваны да Марьи! У всякой дорожки – Акульки да Терешки! На лужайке – Параньки, Зинки – в низинке, на горке – Егорки, а там, где то́пище, – Агашка с Афонищей. Стелися, травушка, у норы лисьей – имечко тебе Василисье. Слушайте, слушайте моё слово: мужики-травы – будьте Иовы! Девки да бабы, сударушки-травушки, будьте ради свиданьица – Дарьины.
Василиса закружилась ещё быстрее, засвистела по-змеиному, подпрыгнула – Иове показалось, что пролетела, – и стала перед ним, тяжело, радостно дыша.
– Имечки раздали. Теперь травы к нам будут добры. Сорвём – не обидятся, не станут мстить.
Отёрла кончиками платка вспотевшие глазницы, улыбнулась, наклонилась и дала ему в руку пахучий, невзрачный, мохнатенький цветок.
– Шалфей. Запомнил? Понюхай – никогда не забудешь. Листья язвы залечивают. Цветок прост, да силу имеет большую. Если его зарыть в навоз да прочитать над ним заклинаньице, знаешь чего из гнили-то выйдет? Червь мохнатый. Того червя бросай в огонь, и уж такой гром хряпнет – упадёшь со страху. А если того червя положить в лампаду, весь пол в избе покроется змеями. Ступнуть будет некуда.
Василиса заглянула Иове в глаза.
– Запомнил? Ты запоминай! Бабушка спрашивать будет. За всякую позабудку – три розги.
Они пошли между дубами, не срывая могучих, грудастых боровиков с тугими тёмными шляпками.
– Грибы нам нынче не нужны, – сказала Василиса, будто знала, о чём подумал Иова. – Вот чего нам нужно.
Сорвала чернобыльник.
– От молний защищает, от падучей болезни. Дьявола прочь гонит! Если в лапти положишь, тридцать вёрст отшагай – не устанешь.
Побежала глазами по поляне. Улыбнулась. Сорвала растеньице, принесла Иове.
– Чемерица. Лунатикам её дают, чтоб по крышам не ходили. Паршу у собак лечит. От водянки – первое средство. Моя бабушка натолчёт её и в еду себе подсыпает, старость гонит.
Они снова пошли между дубами.
– Мой тёзка! – радостно крикнула Василиса, срывая василёк. – Тоже не простой цветочек. Желтуху лечит, глисты гонит. Живот схватит – попей отварчику, и будешь здрав. На груди его носи – ни один колдун к тебе не привяжется. А коли знаешь заклинания – заклинаниям тебя бабушка научит, – так брось с заветным словом в костёр; звёзды по небу, как мыши, забегают. Дым василька страх на человека нагоняет. Лошади от того дыма бегут как бешеные.
Посмотрела на Иову, засмеялась.
– Довольно с тебя? Пойдём к соснам, по малину.
Сосны стояли среди дубравы, как остров.
Василиса поклонилась бору:
– Здравствуй! – И сказала Иове: – Ты с деревьями здоровайся. Они любят уважение. А теперь запоминай. Когда тебе понадобится узнать заветное число, приходи до восхода солнца к сосне. Как краешек солнышка покажется, так сразу ступай вокруг сосны, да широко захватывай. Круг надо сомкнуть, когда солнце полностью выйдет. В том кругу считай упавшие шишки. Сколько шишек, таково и есть заветное число.
Василиса сняла кусок коры, отделила верхнюю кожицу, показала Иове:
– Этим ранки лечат... А коли грудь заложит, пьют отвар из шишек. От болезни груди шишки сушат. Только запомни: не на солнышке, в тени. Потом несколько раз кипятят и пьют.
– Почему несколько?
– Целебней.
Подошла к Иове совсем близко, спросила, глядя в глаза:
– Целоваться тебя ещё не учили?
Иова замотал головой.
– Так я тебя научу.
Подхватила, приподняла и звонко поцеловала в губы. Иова отбивался, руками, ногами. Василиса, смеясь, отпустила его, и он тёр руками свои губы, хоть и чувствовал, что на них совсем уж не противный запах малины, молока и ещё чего-то неведомого, запретного.
3
Мрачнее тучи встретил Савва ненаглядную Енафу.
– Тебя три дня черти носят неведомо где, а в доме пропажа.
– Какая пропажа?
– Сына увели. Работники в один голос твердят – улетел! Я собрался к воеводе челом бить, а мне горшок серебра принесли.
Горшок стоял на столе. Енафа приподняла: тяжелёхенек, фунта три-четыре.
– Кто принёс?
– Не видел. Работники сказывают, человек этот велел передать: сын жив-здоров, срок придёт – вернётся, а станете искать – будет вам красный петух.
Енафа села на лавку.
– Наш сын, Савва, – царь лесных людей.
– Царь?! Сбесилась ты, что ли?
– Нет, Савва, не сбесилась... Ничего нельзя теперь поделать... Помнишь Лесовуху?..
Тейерь и Савва сел.
– Одного сына нажили, и тот... царь.
– Я тебе другого рожу.
– До сей поры что-то не больно расстаралась.
– Ты тоже не подолгу с нами жил. Затяжелела я, Саввушка... Будет у нас сынок.
– Я и девке буду рад, – сказал Савва, опустился на колени перед иконами. – Господи, чудно украшена земля Твоя морями, реками, горами, городами. Смилуйся, дай мне дом, в коем молю Тебя, и землю, в которую ты привёл меня, до скончания века моего. Обещаю, Господи, потружусь ради Тебя, сколько сил есть, только не посылай мне больше странствий, не гони меня по земле от жены, от семьи.
Поцеловал икону Спаса и, подойдя к Енафе, поклонился ей до земли. Сели они рядком, и сказала Енафа:
– Батюшку моего во сне видела. Поверишь ли, Савва, на облаках рожь сеял. Шагает машисто, зерно кидает от плеча, а я не удивляюсь, другое в ум никак не возьму, кто же батюшке облака в надел дал?
– Твой батюшка и на облаках хлебушек вырастит. Люблю Малаха, да и Рыженькую никогда не забываю.
– В конюхах теперь батюшка, совсем уж старенький, но верно ты говоришь, его хоть в цари поставь, не расстанется с полем. По зимней дороге пошлю-ка я ему волжской пшеницы на семена.
– Ты лучше снаряди воз мороженых осётров да воз стерлядок – на уху всей Рыженькой.
– Ах, Саввушка! Коли вернётся корабль, не воз, а целый обоз послать не накладно будет.
Савва погладил ладонью горшочек.
– Не страшно тебе, Енафа? За что нам, грешникам, такое богатство? От кого?
– Дают – бери. В учение они забрали сыночка. В учение.
– Неужто Иова и впрямь... сказать и то страшно.
– А ты, Савва, не говори. Лучше послушай, как во чреве моём сердечко стучит.
Савва опасливо, не повредить бы, приложил ухо, куда Енафа показала, и услышал.
– Енафа, и впрямь стучит! Как у воробушка!
4
Малах пришёл поле поглядеть. Рожь, как царская риза, и всё ещё добирает ярости. Теплынь! Дожди идут по ночам, моросящие, тихие. Земля парным молоком пахнет.
Малаха потянуло лечь, обернуться частицею поля. Он уже обхаживал Емелю и чаял уговорить, чтоб в оный день тайком откопал его гроб и перенёс с кладбища на родное поле. На кладбище сырость, тень, скука...
Блаженно повалился на могучую лебеду, росшую за канавой.
Осенью горчило.
А рожь и впрямь хоть в церковь на стену. В их церкви его собственный зять написал снопы и поле золотом, одежды жнецов тоже золотом. Нынешняя рожь краше нарисованной. Вот и разбирала Малаха ревность. Не сам пахал своё поле по весне. Ведь главный конюх в барских конюшнях. Сорок человек работников. Попутал лукавый, дабы властью покрасоваться, гонял на своё поле конюхов. Сам сидел сложа руки.
– Ты уж прости меня, – Малах положил ладонь наземь. – За всю жизнь мою единый раз побарствовал. Ты стоишь себе, красно, а мне лихо: без моих рук обошлось. Не наказывай, вели оброк с меня взять!
Заснул вдруг. Приснилось: идёт по облаку, борода расчёсана, рубаха новая, лапоточки и те скрипят. Идёт он по облакам и сеет. Золотом. Ярым золотом.
Проснулся, сел. Положил ладони перед собой... Диво! Сон уж соскочил, а ладонь всё ещё тяжесть золотых зёрен чует.
– С колоса – горстка, со снопа – мера, у нашего Тита богатое жито.
Послышался конский топ. Лупцуя коня пятками, мчался конюх Тришка.
– Дедка Малах, за тобой боярыня человека прислала. Велят шестёрку коней в Москву отогнать.
– Что же ты за мной на телеге не приехал?
– А ты садись, скачи, я за тобой вприпрыжку.
– Всё у тебя скоро, да не впрок! – сказал Малах, собираясь осерчать, а вместо того улыбнулся: уж больно хлеб хорош.
От такого золота русское царство в позолоте.
5
В Москве, сдавши лошадей конюхам Анны Ильиничны, Малах поехал к дочери, к Маняше. С гостинцем явился, привёз десятивёдерный бочонок солёных рыжиков.
Маняшин муж, иконописец Оружейной палаты, имел собственный дом на Варварке. Ребятишек у Маняши было уже четверо. Сыновья Малаха, Егор и Федот, поставили на дворе избушку, в ней и жили, но ели из общего котла.
Маняша батюшке уж так была рада, что и сама стала, как девочка. От батюшки Рыженькой пахло, привольем, соломою медовой, лошадьми, дёгтем... Хотелось, как в детстве, прижукнуться к тёплому батюшкиному боку и, выпросив, слушать сказку.
– Расскажи дитятям сказочку, – попросила Маняша, – побалуй внучат.
– Да они у тебя малы.
– Двое и впрямь малы, а двое смышлёны.
– Про что рассказать-то?
– Про молитву купца.
– Что за молитва?
– Как купец у одного мужика по дороге на ярмарку останавливался да деньги считал.
– И что же?
– Соблазнился мужик, хотел купца зарезать, а купец выпросил минутку: Богу помолиться.
– А мужик?
– Да ничего. Позволил. А тут, помнишь, в окно застучали: «Собирайся, мол, товарищ».
– Кто стучал-то? – удивился Малах.
– Да как же кто? Убийца струхнул, купец, не будь дурак, деньжонки подхватил и на двор. А там никого! Господь спас.
– Эко! – изумился Малах.
– Батюшка, ты же сам рассказывал...
– Эх, Маняша! Моя сказка вся, дальше сказывать нельзя. Сама не ленись красным словом детишек радовать.
Егор и Федот водили отца в мастерскую, показывали, чему научились. Федот трудился в ту пору над братиной. Вырезал на чаше дивных птиц, женоликих, венчанных царскими коронами. У чернёных крылья были сложены, а у позлащённых раскрыты, изумляли узорчатыми перьями.
Малах принял в руки чашу, как цыплёнка, только что вылупившегося из яйца.
– Федотушка! Да они же райские песни поют, птицы-то! – поглядел на сына, широко раскрывая глаза. – На матушку ты у меня похож! Это она тебе птиц послала. Дивный ты мастер, Федотушка.
– Боярин шибко хвалит! – сказал о брате Егор.
– Какой боярин-то?
– Начальник наш, Богдан Матвеевич Хитрово.
– Он не боярин, – осадил брата Федот, – окольничий.
– Всё равно великий человек, – примиряюще сказал Малах и глянул на другого сына. – Теперь ты являй.
– Великомученика Фёдора Стратилата пишу[28]28
Великомученика Фёдора Стратилата пишу... — Феодор Стратилат, св. великомученик, был правителем Ираклии Понтийской. После жестокого бичевания был распят на кресте, а затем усечён мечом в 319 г. при Лицинии.
[Закрыть], – потупился приличия ради Егор.
Икона была большая. Святой держал тоненькое копьё, в огромных ножнах меч. На плечах красный плащ. Золотые доспехи перепоясаны золотым поясом. За спиной щит, как радуга.
– Как же ты научился-то?! – радостно пожимал плечами Малах. – До того пригоже, до того молитвенно – крестись и плачь.
– Заказ великого государя, – гордясь братом, сказал Федот. – Икона для Фёдора Алексеевича.
– Большие вы у меня люди! – сказал Малах. – Слушать вас и то страшно. Речь-то ваша о боярах, о царе с царевичами. Смотрите, старайтесь... С высокой горы падать тоже высоко.
– А хочешь, батюшка, с самим царём помолиться? – спросил Егор.
– Как так?
– Просто.
И повели братья отца своего в Успенский собор. Стоять пришлось чуть ли не у самого входа, но великого государя Малах видел. Со спины. Ухо видел, бороду, щёку... На том счастье и кончилось. Трое дюжих молодцов выперли старика из храма, а на паперти надавали по шее.
– Караул! – тихохонько, без голоса, прокричал Малах.
– Не ори, дурак, – сказали ему. – В царскую церковь припёрся, а невежа невежей. Государь крестится по-учёному, а ты, дурак, персты складываешь, как мятежник.
Выскочили из церкви Егор с Федотом, подхватили отца под руки, увели за кремлёвскую белую стену, подальше от глазастых царских людей.
Так-то с царями молиться.
6
Дьякон Успенского собора Фёдор пришёл к Аввакуму домой, рассказал, как за двоеперстие человека поколотили не токмо у всей Москвы на виду, но перед самой Богородицей.
Бешеный Филипп взвился на цепи, хватил Аввакума за ляжку зубами.
– Не постоишь за веру нынче, завтра простись с Царствием Небесным. Одного я бы нынче сам загрыз, да завтра на всех зубов моих не хватит.
– Нужно собор собирать, – решил Аввакум. – Только где?
– Чтоб ни одна собака не унюхала, – предложил Фёдор, – сойтись надобно в Чудовом. Архимандрита Павла не сегодня-завтра в крутицкие митрополиты возведут, ему не до монастыря.
– Так поторопимся! – сказал Аввакум, крестясь.
Коли Аввакум торопится, так все спешат.
Малаху боярыня Анна Ильинична приказала скакать к дому Федосьи Прокопьевны, делать то, что велено будет.
Малах был за кучера, пригнал к дому боярыни Морозовой крытый возок.
– Госпожа молится, – доложил Малаху дворовый человек боярыни. – Ступай и ты в церковь.
Глядя на храмовую икону, Малах размахнулся, чтоб крестом себя осенить, да вспомнил урок. Поглядел на руку. Приложил к двум перстам третий и только вознёс длань для печати Христовой – шмякнули по руке.
– Кому молишься? Богу или Никону? – Перед Малахом стоял сердитый поп. – Давно ли научился щепотью в лоб себе тыкать?
– Третьего дня.
– Третьего дня? – изумился поп.
– Меня третьего дня за старое моление побили... В Успенском соборе. Ты же бьёшь за новое моление...
Поп призадумался.
– Прости меня, грешного. Я человек в Москве нынче новый, из Сибири приехал... Ишь, время-то какое! Бьют за то, что Богу молимся... Как зовут тебя, старче?
– Малахом.
– А меня Иов. Помолимся друг о друге.
Когда утреня закончилась, оказалось, что Малаху надлежало отвезти к Чудову монастырю этого самого попа Иова.
Путь недалёкий. Прощаясь, Малах спросил-таки попа:
– Как же персты-то складывать?
– А как они у тебя складываются?
– Один к другому, по-старому. Матушка в детстве этак научила.
– Вот и не валяй дурака! – сказал Иов, благословляя.
7
В просторной келье, где монахи хранили мёд, собрались люди не больно знатные, но сильно озабоченные: архимандрит Покровского монастыря, что за рекой Яузой, старец Симеон Потёмкин, протопоп Даниил, игумен тихвинского Беседного монастыря Досифей, дьякон Благовещенского собора Фёдор, бывший священник Афанасий, а ныне инок Авраамий, Исайя – человек боярина Петра Михайловича Салтыкова, священники Феодосий да Исидор от церкви Косьмы и Дамиана, странник инок Корнилий и вернувшийся из сибирской ссылки поп Иов.
Симеон Потёмкин воздал хвалу Господу и открыл собор вопросом:
– Ответьте, братия! Перекрещивать ли отшатнувшихся от никонианства и переходящих в старую, в истинную веру? Свято ли крещение, полученное от никониан?
– Католиков и тех не перекрещивают, – сказал Фёдор.
– Вот и плодим бесов! – подал голос инок Корнилий. – Всякая неправда – сатана. Избавление же от сатаны – истина. Окуни человека в ложь, в чёрную воду, будет ли он белым?
– Чего попусту прю разводить?! – сказал Аввакум, кладя руку на плечо Фёдора, подпирая слово согласием знатного книжника. – Нужно всем народом идти к царю. Поклониться и спросить: «Царь-государь, неужто складная брехня греков да жидов тебе дороже Божией правды? Русские, может, и впрямь дурак на дураке, да они твои, а грек, – он как блоха, вопьётся в кровь да скок-скок под султана. И не сыщешь!»
Поднялся Досифей. Лицом серый – постник, в глазах огонь, голос же ровный, тихий:
– Нужно, сложась мыслью, определить, кто есть Никон. Антихрист или только предтеча антихриста?
Примолкли. Одно дело – лаять в сердцах, и совсем другое – возложить печать на человека.
Симеон Потёмкин, совсем уже белый, глазами медленный, на слово скупой, сказал просторно:
– Сатана был скован тысячу лет по Воскресению Христа. Тысяча лет минула – отпал Запад. Явилась латинская ересь. Через шестьсот лет Западная Русь приняла унию. Через шестьдесят – отпала Москва. Ещё шесть лет минет, и быть последнему отступлению.
– Оно на дворе – последнее отступление! – воскликнул дьякон Фёдор. – Человека в Успенском, в великом соборе, побили за то, что осенил себя крестом, как осеняли святые митрополиты московские Пётр, Алексий, Иона, Филипп, Гермоген! Как крестился отец наш преподобный Сергий Радонежский. Уж скоро, скоро явится отступник отступников. Сей царь водворится в Иерусалиме, и будет он из жидовского колена Данова[29]29
...и будет он из жидовского колена Данова, — Дан – один из двенадцати сыновей Иакова (от Рахилевой служанки Валлы). Родоначальник особого колена израильского, которое отличалось хитростью, коварством и вместе с тем богатыми дарованиями своих членов. В благословении Иакова сказано: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадёт назад» (Быт. 49: 17).
[Закрыть]. Нечего Никона антихристом ругать.
– Никон есть сосуд антихриста! – высказался инок Авраамий – Сей смутитель назвал речку Истру Иорданом, а чтоб Россия вконец пропала, строит, кощунствуя, свой Иерусалим.
– Царским попустительством, – добавил Досифей.
– Антихрист давно уже явился в мир! – вскрикнул инок Корнилий, да так резко, что все вздрогнули, – Было пророчество иерусалимского патриарха Феофана: когда на Руси сядет царь с первыя литеры, сиречь аза, притом переменяет все чины и все уставы церковные – быть великому гонению на Православную Церковь. Царь Алексей – антихрист.
– Батюшки светы! – перепугался Исайя, дворовый человек Салтыкова.
– Алексей – восьмой царь, считая от великого князя Василия{29}. А от Василия потому надо считать, что в те поры была ересь жидовствующих, все книги были исправлены! – сказал со значением протопоп Даниил.
– Что же, что восьмой? – не понял Фёдор.
– А то, что восьмой!
– Конец света не по царям надо считать, – возразил Авраамий. – Не со дня рождения Христа, а со дня сошествия Его в ад.
Аввакум замахал яростно руками.
– Да плюньте вы на сии вопросы! Башку сломишь, а какой прок? Братия моя возлюбленная! Народ нужно спасать! Родимых русаков наших. От Никона – так от Никона, от царя – так и от царя.
– От царя! – крикнул инок Корнилий. – Здешнему чудовскому старцу видение было. А видел он, как пёстрый змей, дышащий лютым ядом, обвивал Грановитую палату.
– Сие видение о Никоне, – возразил Фёдор, – Было оно старцу Симеону, когда Никон воротился с Соловков. Про Никона и раньше было ведомо. Старец Елеазар в Анзерском скиту не раз видел на шее своего келейника чёрного змея.
– Мне тоже было видение, – сказал Корнилий. – Спорили тёмнообразный и благообразный. Тёмнообразный поднял над головою четвероконечный крест и вбил крестом благообразного в землю, И установил свой крест на той земле. По какому признаку, не ведаю, но я узнал землю – то была Русская земля. Тёмнообразный одолел.
– Когда Никон баловал над нами в патриархах – помалкивали о видении Елеазара Анзерского, – вздыхая, перекрестился дьякон Фёдор, – А ведь государь получил от Елеазара великое духовное благословение. Благословение принял, а слово о Никоне мимо его царских ушей пролетело, как ветер. Страшное слово: «О, какова смутителя и мятежника Россия в себе питает! Сей убо смутит тоя пределы и многих трясений и бед наполнит».
– Так кто же есть Никон? – вопросил Симеон, озирая глазами братию – Сосуд антихриста, предтеча или сам антихрист? Ежели любое из сих определений истинно, то не перекрещивать приходящих в старую веру нельзя.
– Но до того, как впасть в никонианство, все были крещены истинно? – возразил инок Авраамий. – Младенцы крещены по-новому.
– Отпав от Христа, как можно вернуться к Христу? Трудный вопрос, да нам его решать, – сказал Досифей.
– Плюньте! – плюнул Аввакум. – Плюньте на все трудные вопросы. Чего гадать, когда миру конец? И змей будет, и конец света будет... Будет, как в книге у Бога написано. А нам жить надо, нам Бога молить надо. Вот и дайте наставление православному народу, как души невинные от погибели спасти. Мы уцепились друг за дружку, бредём, не ведая пути... А яма-то уж выкопана про нас, смердит, и уж коли сверзимся, так всем народом. Вы поглядите, как изографы пишут Спасов образ? Лицо одутловатое, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы жиром обляпаны. У ног бёдры тоже толсты непомерно, персты надутые. Не Спас, а немец брюхатый. Саблю на боку написать – чистый немец! А какова Богородица в Благовещенье у новых сих мастеров? Брюхо на коленях висит, чревата! Во мгновение ока Христос во чреве явился? Брехня и есть брехня! Христос в зачатии совершенный есть, но плоть его пресвятая по обычаю девятимесячно исполнялась. Не иконы, срам. А ведь этак любимейший царёв изограф пишет, Симеон Ушаков. Я поначалу тоже хвалил его, да поглядел Спаса Еммануила – ужаснулся. По плотскому умыслу писано.
Аввакум махнул рукой и замолчал.
И все молчали. Белым днём у всего Московского царства, у всего народа веру украли. Приехали проворные людишки, покрутились возле царя, напялили Никону белый клобук с херувимами, молились, все красивые, все строгие, а веры-то и не стало...
И Никона нет, спросить не с кого.
– Скоро за имя Христово будут жечь, на плахе головы рубить, – сказал Корнилий. – Миленькие вы мои, не совладать нам с царём. Царь веру губит. Одно опасение: уйти всем народом из царёвых городов, из дворянских деревень – в леса, в горы, за Камень, хоть в Дауры...
Симеон Потёмкин взял в руки крест, поцеловал.
– Кто осмелится оставить дом и землю? А если придёт такой час – побегут. Нам, пастырям, надо быть при стаде... Грешен. Сижу с вами, а за дверьми сей келейки – чую – чёрный стоит. Чёрный, как ночь. Слушает, что говорим, и на каждое наше слово приготовляет свою ложь.
Много и долго спорили озабоченные люди, да не было в их словах уверенности, ведущей к победе, – а были плач, горькое недомогание.
И тогда сказал Аввакум:
– Если языками человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имею, то я есмь медь звенящая, кимвал звучащий – ничто я есмь! Так Павел заповедал. Не родить нам в словопрении правды, правда наша – в деланье. Пойдёмте к чадам любезным, будем возглашать о Господе, покуда нас не услышат даже глухорождённые. Будем глаголить истину воплем – коли отрежут нам языки; телом – коли заткнут рот кляпом; светом пламени – коли бросят в огонь.
Разошлись по одному. И встретил Аввакум у дома своего царя, ехавшего верхом. Государь уже издали приветственно закивал протопопу, потянулся к шапке, да, снимая, уронил её наземь. Царёвы слуги кинулись поднимать, Алексей же Михайлович, смеясь, подъехал к Аввакуму и сказал:
– Перед тобою, батюшка, шапка сама с головы спрыгивает. Благослови, помолись обо мне крепко, ибо грешен! О царевиче, свете, помолись, об Алексее.
Аввакум трижды поклонился.
– Всякий день молюсь о тебе, великий государь. Будет на тебе благодать Божья, и на всех нас прольётся дождь щедрот твоих царских.
– Спасибо тебе, батька. Ты мне люб, да, говорят, уж больно ты горяч в словесных схватках. Не позволяй обойти тебя злохитрым. Правду сказать, я и сам горяч. Словечко в сердцах сорвётся, а попробуй верни его... Не догонишь, стрелой не сразишь.
Слуга подбежал с мурмолкой. Государь надел шапку, улыбнулся, поехал.
От царского добрословия сердце бьётся скорее. Прилетел Аввакум домой, чтоб с Марковной радостью поделиться, а в горнице гостья, монахиня кремлёвского Вознесенского девичьего монастыря матушка Елена Хрущова.
Поклонилась низёхонько, благословилась.
– Батюшка Аввакум, я монастырская уставщица. Надоумь, что делать. Новые служебники я в чулан кинула, да теперь опять принесли, священник служит по-новому.
– Просто делай, матушка, – Аввакум подошёл к иконам, поцеловал Спаса в краешек ризы, – Гони взашей всякого, кто Бога не боится. Христос гнал из храма торгующих, а эти – новообрядцы – душой торгуют. Гони, не сомневайся.
Вечером того же дня домочадицы Фетинья и монахиня Агафья рассказывали Аввакуму:
– Великий шум был нынче в девичьем монастыре. Инокиня Елена собрала старых монахинь, пришли они в церкву, услышали, что по новым книгам служат, кинулись на монашек, потянули да и выкинули вон. И книги новые тоже выбросили... От царя стража прибежала, утихомиривали матушек.
– Ох, Аввакум! Ох! Ох! – вырвались у Марковны нечаянные вздохи.








