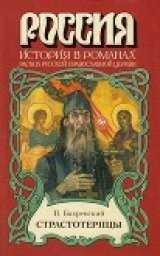
Текст книги "Страстотерпцы"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
16
Орёл с орлицею парили над бездной, но он был выше, чем птицы.
– Знает ли высокочтимый Шеремет-бан, что рассказывают о нём в Бахчисарае? – спросил узника прибывший от визиря Сефирь-гази его сын Ислам-ага. – Хан Мухаммед отказался от выкупа за визиря московского царя Шеремет-бана.
– Мухаммед?! – воскликнул боярин. – Отказался от выкупа?
– Так говорят в народе. Отказался и повелел запереть пленника в тюрьму навечно. Страшного русского привели в пещеру-темницу над отвесными скалами в Чуфут-Кале, заковали в кандалы весом в семьдесят веклей. Тогда Шеремет-бан в ярости вырвал из рук у татарки пятимесячного младенца и бросил в окно, в пропасть. Ребёнок не мог не разбиться, но раскрывшиеся пелёнки понесли его птицей, со скал на добычу кинулись орлы, хватали друг у друга, однако ж пелёнки не позволяли добраться до нежного тела, а старый мудрый орёл, победив молодых, отнёс младенца в дивный сад Ашлам. – Ислам-ага, человек смышлёный, весь в отца, приметил сонливость тюремщика и взглядом призвал боярина к особому слушанию. – Орёл положил младенца на вершине дерева. Садовники услышали плач, сняли дитя, изумились его красоте и отнесли хану. Могучий хан, обладатель всех природных качеств, быстрый разумом, повелел дать младенцу имя Неджати, что означает Спасённый. Отдал ребёнка кормилицам, воспитал до совершеннолетия, и Неджати вырос храбрецом-гулямом, с отметинами солнца и луны на лице.
– Когда же успел сей гулям вырасти, если я в плену шестой год?
Ислам-ага засмеялся:
– В сказках жизнь идёт быстро. Тот Спасённый однажды решил бежать от великого хана. Как только стемнело, он приготовил коня за воротами, ведущими в сад Ашлам. На родниковой дороге, у великой могилы святого шейха Мансура – воина Пророка, которому было открыто, что Крым будет заселён правоверными мусульманами, беглеца ждали заговорщики, и с ними он ускакал гулять по степи.
Ислам-ага смотрел так пристально, поднимая брови, шевеля беззвучно губами, что боярин вздрогнул: сказка не про Спасённого... Уж не его ли будут ждать у ворот на родниковой дороге? Но кто снимет колоду с ног, кто отворит дверь?
Ислам-ага передал Шеремет-бану пятьдесят червонцев, присланных от московского царя, и удалился. Оставалось – ждать.
Орлы улетели. Далеко внизу белая меловая дорога, дивная стрела, летящая в белый свет. По горизонту сонными всадниками облака, а кони под ними – горы. Небо зимнее, серое.
Посмотрел на кандалы. Семьдесят веклей? По русскому счёту это пуда три. Прибавила сказка тяжести. Но ведь и полтора пуда день потаскаешь – к вечеру как все десять.
Зная коварство Сефирь-гази, не больно поверил ему. Всесильный визирь кого только не обошёл хитростью, но все его старания, вся его любовь по деньгам. Может, Алексей Михайлович расстарался?
В глазах почему-то Тобольск стоял. После падения Бориса Ивановича Морозова пришлось Сибири изведать. Ныне бы своей волей не токмо в Тобольск – в Дауры птицей бы полетел... Любил в Тобольске на стене постоять, над рекой. Город как корабль. Волна в берег бьёт, облака навстречу лебедями – плавание, да и только.
Ночью дверь темницы открылась. Вошёл молчаливый человек, повозился с кандалами, освободил. Дал боярину тёмный плащ, повёл за собой, с тюремного двора, улочкой, в сад, спустились в подвал, здесь человек отодвинул плиту, помог спуститься в подземелье. Тесниной, бочком, ползком выбрались вдруг к звёздам. Звёзды – как виноград поспевший, земля – чёрная громада. Провожатый тянул за собой. Василий Борисович шёл, не видя, что под ногами, оскользнулся, съехал вниз, пока не упёрся ногами в куст. Провожатый помог подняться, повёл за руку. Тропа стала надёжней. Торопились, но не бежали. Василий Борисович не чувствовал ни радости, ни страха, шёл, куда вели.
Показался купол мазара шейха Мансура. Запахло лошадьми. К боярину подошли молчаливые люди, помогли сесть в седло. Поехали. Впереди двое, позади ещё двое. Копыта у лошадей не стучали, тряпками обмотаны. Ехали прочь от Бахчисарая, по горам, лесом, через колючий можжевельник. Воздух бодрил, но мороза не было. Уж такая тут зима. Не каждый год дождёшься снега.
На рассвете увидели море.
Боярина посадили в ладью; ладья, подняв парус, побежала вдоль берега ночь догонять.
Кормщик – кудрявый грек – улыбался своему гостю, но ни о чём не спрашивал, не заговаривал. Накормить накормил, осмотрел побитые железом ноги, помазал пахучей мазью. Днём сияло солнце, сияли волны, вода бездонная, синяя. Поздним вечером причалили близ какого-то города.
– Где мы? – не выдержал, спросил Шереметев.
– Гезлёв! – проронил единственное за день слово терпеливый грек. К лодке подскакали четверо всадников. У них была свободная лошадь. Приехавшие с любопытством вглядывались в лицо русского большого визиря, но тоже помалкивали.
Ехали степью, ночь напролёт. На рассвете остановились в чабанской пустой сакле. Один из провожатых уехал, привёз барана. Мясо пожарили на костре, поели, легли спать. Проснулся Василий Борисович от выстрела.
Саклю окружила добрая сотня сейменов.
Началась обратная дорога. В арбе, руки заломлены, связаны, на ногах лошадиные путы.
17
В ноздрях стоял запах моря, а всей воли – узкая щель в каменном мешке. Другие две щели заложены камнем.
Колода на ногах такая, что и шагу не сделаешь. Обвит четырьмя цепями, цепи прикованы к четырём стенам.
Золото отняли. Дают в день по куску заплесневелой лепёшки. Где только нашли такую?
На третий день цепной жизни привели визиря Сефергази, которого все русские звали Сефирь-гази. «Сефер» – путь. Путь гази – бойца Пророка.
Быстрые слуги хана расстелили на полу ковёр, положили золотом шитые подушки. Поставили курительницу, зажгли фимиам.
В сопровождении сейменов явился Мухаммед-Гирей, сел на ковёр. Принесли огромный медный поднос. На подносе плов, сладости.
– Ешь, Сефер-гази! Это последнее твоё пиршество.
– Аллах мне даст больше твоего! – ответил визирь.
– Аллах всемогущ, но у него нет награды, какую я, каган двух морей и трёх материков, приготовил тебе в дар за твою измену. Ты исхитрился украсть у меня самого великого пленника, мою славу.
– Побойся Господа, повелитель! Шеремет-бан взят не твоей саблей, его продали тебе. И кто?!
– Должники моей сабли.
– Я отпустил Шеремет-бана ради дружбы и мира с московским царём.
– Король мне платит больше. Позволяет брать полон в своих землях. Ты посягнул на мою власть и на мою казну, несчастный Сефер-гази. А помнишь, как ты покрывал ногайцев от моего гнева?
– Избив племена Адиля, Шейдяка, Урмамета, Кёр Юсуф-мирзы, вырезав всех воинов и обесчестив всех ногайских жён, ты, называющий себя каганом, навеки поссорил, в угоду Порте, татар с братьями ногайцами. С ногайцами ты мог противостоять падишаху, теперь ты его раб.
– Зачем столько слов, белобородый мой Сефер-гази? Не мудрствуй. Ешь. Я пресыщен твоими лживыми советами. Знаю, ты любишь вино, но у меня нет вина. Я блюду волю Пророка. Если тебя мучит жажда, выпей бузы.
Принесли бузу. Сефер-гази напился.
– Мы забыли о Шеремет-бане, – сказал хан. – Я милую его. Снимите... одну цепь.
Цепь сняли.
– Пора, Сефер-гази! Аллах заждался твоих советов.
Ударил в ладоши. Вошли тюремщики, принесли зелёный шнурок. Сефер-гази прочитал молитву, и его удавили.
Тотчас хан покинул темницу. Всё унесли, но оставили тело. Только поздним вечером приехали родственники, забрали казнённого.
Потянулись дни за днями. Цепи были тяжелы, но угнетало разочарование. Запах моря надрывал сердце; краткий миг свободы!
Наступил Рамазан. Ради праздника хан явил милость. Каждый вечер к Шереметеву входили тюремщики, снимали одну цепь. К тому же приносили плов, мясо, свежие лепёшки...
Благодеяния закончились самым нежданным образом.
Великий турецкий писатель и путешественник Эвлия Челеби, бывший гостем Мухаммеда-Гирея, в третью ночь Рамазана увидел чудесный сон. Приснился благочестивый старец из Эски-Крыма Кёр Юсуф-деде и хозяин дома в селении Кара-Альп, у которого Эвлия Челеби останавливался. Они стояли на берегу моря и, указывая на противоположный берег, говорили: «Отправляйся с ханом к падишаху Дагестана».
Сон спутался, но потом опять появились оба старца, и Кёр Юсуф-деде сказал: «Выступайте против османов, но мятежа не поднимайте! Утром поспешите в Дагестан. Там вы будете в безопасности... Ты, Эвлия, возвращайся в Крым, а хан пусть останется в Дагестане... В Крым привезут его тело».
Эвлия Челеби тотчас пробудился, увидел, что время молитвы ещё не наступило, праздничная ночь продолжается, поспешил к хану рассказать сон.
Мухаммед воскликнул: «Да смилостивится Аллах!» – но позвал в свои покои имама и просил истолковать сон. Почтенный шейх-эфенди, сохраняя на лице весёлость, раздумывал недолго.
– Знает Аллах и печать пророков, – сказал он. – Я же предполагаю: ваше величество совершит путешествие в Дагестан либо в Горный Крым для охоты и ловли... Сон обещает дорогу, и ничего более.
Но случилось как раз более. Утром в Бахчисарай прискакал гонец, привёз указ Мухаммеда IV, падишаха Великой Порты, и письмо.
«О, Мухаммед-Гирей, некогда крымский хан, – писал повелитель Османской империи. – Счастливый падишах Мекки и Медины отстраняет тебя от Крымского ханства и жалует ханство сыну Чабан-Гирея, Адилю. Вместо покойного шехида Сефер-гази пусть визирем будет его сын Ислам-ага, нуреддином – Мубарек-Гирей, а калгой – Крым-Гирей. Когда моё дружелюбное письмо придёт, подчинитесь падишахскому приказу и прибывайте со всеми султанами к Порогу Счастья, и тогда тебе и султанам будут оказаны милости ббльшие, чем положено по закону. Да будет мир!»
Письмо зачитали в диване и на площади перед дворцом.
Войско взбунтовалось. Хану предложили выступить в поход и осадить принадлежащую османам Кафу. После размышления и советов хан Мухаммед-Гирей вышел к войску и объявил свою волю:
– Те, кто хочет ехать к Порогу Счастья, пусть едут по морю. Я отправлюсь со своими воинами по суше.
Народ ликовал. Если хан идёт по суше, значит, будет набег на османов. Пора их проучить. Давно пора!
В четвёртую ночь Рамазана, на пиру, хан Мухаммед вдруг вспомнил:
– Двадцать семь лет тому назад мне был сон, будто я приподнял подол падишаха Дагестана и спрятал под сим подолом мою голову. Я рассказал тот сон тебе, Эвлия Челеби, и ты решил, что я пойду войной на падишаха. Сон сбывается только теперь, когда я в третий раз теряю престол Крыма.
Хан пожелал осмотреть сокровищницу, но не тронул мешки с деньгами. Слишком тяжёлый был этот груз. Распорядиться казной приказал старшему сыну Ахмед-Гирею.
Утром к Шереметеву и темницу явились ханские слуги, сняли оковы с ног, но на голову надели железную шапку, приковали цепочками к этой шапке обе руки.
Ничего не объясняя, повезли на арбе в Бахчисарай.
Здесь Василий Борисович понял: в его несчастной судьбе новый поворот. Хан, убегая, забирает его с собой.
Войску Мухаммед назначил встречу у Ая-Каи, а сам отправился в сторону Керчи, где у мыса Килиседжик у него были приготовлены корабли для переправы.
До Керчи Шереметеву доехать не довелось. На одном из станов к хану явились ширинские беи, потребовали оставить Шеремет-бана в Крыму.
Пришлось бывшему хану смириться, отдать ширинам своего драгоценного пленника.
Вновь очутился боярин в своей пещере с одним окном. Руки от цепей освободили, повесили колоду на ноги.
Наконец прибыл новый хан с новым визирем. Ислам-ага приходил к Шереметеву, слушал его рассказ о гибели отца.
Приказал тюремщикам освободить сидельца от колоды, обещал прислать священника. Шёл Великий пост, боярину хотелось причаститься Святых Тайн.
Иеромонах Успенского пещерного монастыря явился к Василию Борисовичу с чернецом, жидовином.
Пока иеромонах ставил иконы, зажигал свечи, монашек успел передать боярину просьбы Ордина-Нащокина. Было что и Василию Борисовичу сообщить. От караимов, которые стерегли его, от нового визиря Ислам-аги он узнал, что в Бахчисарай приехали послы гетмана Дорошенко, уговаривают Адиль-хана воевать польского короля. Казаки зовут Дорошенко татарским гетманом. В притворной обиде гетман положил булаву, а когда его попросили быть в гетманах по-прежнему, отправил великое посольство в Константинополь. Посольству приказано просить султана принять Украину и всё Войско Запорожское в вечное подданство.
Возрождались старые игры Богдана Хмельницкого.
18
1 марта, на преподобную мученицу Евдокию, когда русские люди смотрят погоду: будет погоже – всё лето пригоже, – в Москву из Мезени привезли протопопа Аввакума.
На последнем стане пристав посылал стрельца в Приказ тайных дел сообщить о прибытии узника.
Для протопопа подали крытый возок без окон, об Иване да Прокопии указа не было, и пристав отпустил их с миром на все четыре стороны.
Господь не оставляет православный народ чудесами. Не диво ли? На последнем как раз стане, когда Иван с Прокопием крепко призадумались наконец, где им жить в Москве, чем кормиться, случайный человек, стрелец, приставленный охранять узника, сообщил:
– А я, батька, брата твоего знаю.
– Кузьму?
– Кузьму Петрова. Я тоже в Барашах живу, у Крестов.
– Да нешто Кузьма в Москве?
– Перед самим Великим постом у Ивана Юрьевича Бахметьева поселился.
– Кто сей Иван Юрьевич?
– Благородный человек. Дворянин. Поп Кузьма в домашней церкви у него служит, живёт там же, во дворе.
– Господь тебя послал! – прослезился Аввакум, обнимая стрельца, потом обнял и детей своих. – Ну, милые, ступайте к Кузьме, а там как Бог даст.
Увезли протопопа.
Ехали, ехали, наконец стали. Вышел Аввакум из возка – Крутицкое подворье.
Пристав передал узника монахам, а те, благословясь у протопопа, повели его не в подвалы, а наверх, в братский корпус. Поместили в тёплую, светлую келью с дивными иконами: Божьей Матери всех Скорбящих Радость, великомучеников Димитрия Солунского и благоверного царевича угличского и московского Димитрия да Алексия, человека Божьего.
– Помолись, брат, перед обедом, – сказали дружелюбно монахи и оставили протопопа одного.
Икона всех Скорбящих Радость была древняя, две другие новые. Алексий, человек Божий, написан в простом платье, фон зелено-золотой, нимб тоже из света, из золота. Икона двух Димитриев – строгановского модного письма. Доспехи на Солунском как жар горят, на царевиче алая в золоте шуба, под шубой долгополое чёрное платье тоже сплошь в золоте. Корона высокая, в каменьях, в жемчугах. Лицо золотистое, от рук сияние.
Аввакум поцеловал образ Богородицы, опустился на колени, отбил сотню поклонов.
– Помоги, заступница, устоять, не впасть во искушение.
В трапезной, куда привели Аввакума, стол был накрыт на двоих. Тотчас из другой двери появился митрополит Павел. Постоял, ожидая, что протопоп подойдёт под благословение, но Аввакум отдал поклон издали.
Павел прочитал обеденную молитву, сказал просто:
– Покушай, батюшка, с дороги! В пути приставы небось скудно кормили.
– Везли, как велено было, – ответил Аввакум, но ерепениться не стал, сел за стол, ел кушанья без печали.
Павел в митрополитах помолодел, борода шёлковая, ни единого волоса не топорщится, румянец на щеках благородный, ровный, розовый. На челе – дума, как печать.
– Великие времена грядут, протопоп! – сказал Павел ласковым голосом. – Государь зовёт в стольный свой град вселенских патриархов, то будет великое пришествие, великая благодать царству. Опасается государь, не ударить бы в грязь лицом перед всем-то светом! Посему будет созван свой домашний собор. Не умею хитрить, батюшка. Прямо тебе скажу: хорошо бы нам, русакам, не тешить греков да жидов. Решить бы неустройства между собой, мирно, радуя Господа Бога, царя-надёжу. Коли поднимем крик друг на друга, рассуживать возьмётся жидовнин Лигарид. У него на всякое слово заготовлено правило. А в помощь ему другой грек – жидовнин Арсен да и все пришлые. Митрополит на митрополите.
– Господь Бог не попустит, чтоб последнее слово осталось за жидами, – сказал Аввакум, раскусив вишнёвую косточку, попавшуюся во взваре.
Павел один глаз прищурил, другой совсем закрыл.
– Сладко, что ли, в Мезени?
– Сладко Исусу Христу служить.
Павел навалился телесами на стол, рыкнул аки лев:
– Не вводи во грех, протопоп! Отчего не величаешь меня владыкой?
– Какой же ты владыко? Тебя царь в митрополиты поставил.
– Царским указом, но хиротонован я архиереями, по правилу... Ты, батька, ступай в келью, помолись. Коли Господь не вразумит тебя – не прогневайся. Учить буду, как упрямого неслуха. Знаешь, как учат азбуке неприлежных? Ради их же пользы?
На вечерню Аввакум не пошёл. Ему принесли в келью просфору с изображением крыжа, сказали:
– Помяни, протопоп, усопших.
– Какой вор украл с вашей просфирки Христов Крест? – спросил Аввакум, не притрагиваясь к приношению.
– Смирись, батька! – поклонился упрямцу монах. – Коли отринешь сие, приказано доставить тебя на правёж.
– Чего тогда медлишь? Веди, горемыка!
Тотчас появились дюжие чернецы, подхватили под руки, волоком притащили в подземный каземат.
Митрополит Павел здесь его ждал.
– Мне сам государь велел тебя, недостойного царских милостей, на ум наставить. Как ты смел просфору не принять?
– Не от Христа, от тебя не принял.
– Примешь и от меня.
– Того, что Бог даёт мне, у тебя нет и тебе не даст. Слезами о вас, горемыках, сердце себе надрываю, почему последнего суда не боитесь?
– Не вали с больной головы на здоровую. Мы исповедуем Господа по истинным правилам святых отец. – Положил на ладонь просфору с вынутыми частицами. – Вкуси, протопоп.
– Не смею. Ты сие Тело Господне, как таракан, изгрыз. Девять дыр понаделал! Где ум-то?
– Так надобно по завету святителей, безумствующий протопоп. Частицы вынуты по числу чинов небесных сил.
– Господи, помилуй! Небесные-то чины бесплотны. Жертва приносится в воспоминание плотных, живших на земле. Первая просвирь – за самого Христа-агнца, вторая – за Богородицу, третья – за всех святых. Все лики заступников наших в мольбу о согрешениях купно предлагаем Богу. Лики частьми не разлучаем, се – нечестиво. Четвёртую просвирь и часть из неё – единую, господин мой, не тараканье кусание! – приносим со агнцем о чине святительства, о правящих Божее дело, о спасении их. Пятая и частица из неё – за царя благочестивого, за всё княжество, за пекущихся о правоверии. Шестую же просвиру и часть из неё приносим со агнцем к Богу о всех живущих на земле, подаёт-де нам долгоденство, здравие, спасение. Седьмая просвирь – об усопших в правой вере.
– Долго я тебя слушал, слушай меня теперь. Или ты покоряешься царю, желающему тебе добра, или изведаешь мучения и будешь гоним до самой смерти.
– Сколько мне ещё жить – один Бог знает, да уж много меньше, чем прожил. Мне, господин, вечная жизнь дорога. Не променяю на стерляди, на шубу мягонькую.
– Поглядим, как теперь заговоришь. Дюжину ему отмерьте.
Аввакума повалили, привязали к лавке. Били плетьми. Поуча, поставили перед Павлом.
– Что теперь скажешь?
– Поп из Номвы Авимелех дал Давиду хлеб и оружие Голиафа. Пастух донёс на попа царю Саулу, Саул же, взбесяся, убил левитов с их архиереями тысячи с две и больше. Так и вы ныне: секи, жги, вешай. Сами сблудили над Церковью с Никоном, с носатым, с брюхатым, с борзым кобелём, и бросаетесь на всякого, кто правду говорит.
– Молчи!
– Они ограбили матерь нашу святую Церковь, а мы молчи. Не умолчим! До самой смерти будем кричать о вашем воровстве!
Павел размахнулся, ударил кулаком, метя в лицо. Отшатнулся Аввакум, кулак в грудь попал.
– Спасибо, господин, за бесчестье! – поклонился протопоп. – От воров терпеть – на небе прибыль.
– Служить на пяти просфорах, мужик, подобает ради пяти человеческих чувств. Запомнил?
– Брехня! Никон переменил предание святых отец по научению папёжников, того же Лигарида-иуды. Служить на пяти просвирах – папская затея. У них в Риме еретик еретика на престоле меняет. Шапки-то рогатые. Один на пяти служил, другой говорит: будем – на трёх, во образ Святыя Троицы. Десятый мудрец тут как тут. Зачем три – одной довольно. Бог-то един. Дальше – больше: не подобает-де просвиры из кислого теста печь, жиды опреснок потребляют. И никто не подумал – жиды по закону Моисея молятся, по ветхому закону! Мы же исповедуем Христа!
– Уберите его с глаз долой! – приказал Павел.
Монахи-палачи замешкались.
– Куда его?
Митрополит сердито промокал рукавом вспотевший лоб. Оглядел Аввакума. Махнул рукой:
– Наверх!








