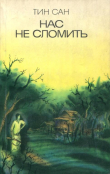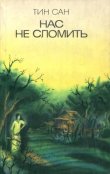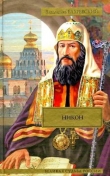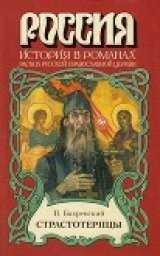
Текст книги "Страстотерпцы"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
13
27 декабря на озеро Кшару пожаловал стрелецкий голова Аврам Лопухин с двумя сотнями служилых людей. Путный ключник города Ярополча Андрей Пекин в тот же день проведал скиты на озере Юхре.
По дороге через лес стрельцы Лопухина поймали крестьянина с книгой. Допросили. Крестьянин не запирался: был в скиту на Кшаре, у отца своего Якушки Кузнеца. Книгу – «Толковое Евангелие» – дали ему отнести в деревню Пострекалово Ерёмке Змееву. Обмолвился: отец его, Якушка, в норе живёт.
Для двух сотен жидкий тын Вавилова скита – не большая преграда. Ради пущей острастки зажгли, сделали три пролома, хоть никто стрельцам не перечил. А вот когда подступили к большой избе – в стрельцов полетели стрелы.
– Секи двери! – приказал Лопухин.
Стрельцы взялись за топоры, а лютые чернецы давай стрельцов рогатинами пихать. Пятидесятник Федька Яковлев заматерился на отступивших. Пальнул из пищали, выхватил у стрельца топор, побежал дверь громить да и повалился. Глядят стрельцы, а в груди начальника стрела торчит. Глубоко вошла. Подбежали – не дышит.
Озлились стрельцы, решили из пушки палить, но тут из-под крыши малой избы дым повалил.
– Тащите их вон, погорят! – закричал стрельцам Лопухин.
Стрельцы дверь сорвали, а на них, как змей, пламя. Потом узнали: три крестьянских семьи сгорело, семнадцать человек.
– Ах, они жечь себя! – рассвирепел Лопухин. – Так и мы их сожжём!
Навели-таки на большую избу малую пушку, тюфячок. Бахнули – от двери только щепки остались.
Взяли Вавилу, чернецов, белиц. Из нор затворников повыкурили.
Андрей Пекин тоже со своим делом управился.
Привезли пойманных капитоновцев в Вязники. В тюрьме места нет, по крестьянским избам поставили. Думали, за чей счёт кормить столько людей, а они еды не принимают, лежмя лежат и безмолвствуют. Архимандрит свияжский Антоний пришёл для благословения и опознания, но никто у него не благословился. От икон крестьянских отворачивались, молились только на свои, скитские.
29 декабря 1665 года стрелецкий голова Аврамко Лопухин послал в Приказ тайных дел отписку о поимке раскольников.
«И те государь люди, – писал Лопухин, – из изб рогатинами и из луков стреляли и застрелили моево приказу пятидесятника Федьку Яковлева под левую титьку. А стрелы государь их и железца у стрел их дело воровское, а не мастерское. А у старца жил мальчик лет пятнадцати Стёпкою зовут из Суздаля, а сказал мне холопу твоему, которые-де живут на озере Кшеве, те-де к себе подговаривают на двор и в пустыню и морят-де до смерти... А я холоп твой по лесам и по болотам со стрельцами ездил и из деревень мужиков проводников беру, и мужики государь, ведая те кельи, не скажут про них. И я холоп твой бью, а что выбью, то и укажут. А жёг государь я пустынь, келей с тридцать в лесах злых за болоты... А хлеба государь старцы и старицы и девки и мирские люди нихто не ест».
Две недели шастали по лесам за Клязьмой, забираясь и в Нижегородские леса, команды Лопухина и Матвеева.
11 января боярин Прозоровский послал в Приказ тайных дел заключительную отписку:
«Полковник и голова стрелецкий Аврам Лопухин мне холопу твоему сказал, что сыскал он в лесах под Вязниками и в иных местах восемь человек чернецов, двадцать пять черниц, пятнадцать человек бельцов, четыре девки, всего пятьдесят два человека и в том государь числе два человека наставников Вавило да Леонид... А в распросе чернец Вавило мне холопу твоему говорил: кто-де переменяет Божественное Писание, тот предтеча и антихрист. Церковь-де ныне не в церковь, святители не в святители, а иные государь непристойные и страшные речи он говорил, чего и писать невозможно. И я холоп твой ему Вавиле говорил, что он говорит вне ума своего, прельщением дьявольским и велел ему крестное знамение положить на себя по достоинству. И он Вавила про крестное целование говорил непристойные речи и плевал».
Другой наставник Леонид оказался на расправу жидковат. Покаялся, крестное знамение клал, как приказывали, Вавилу уговаривал, но тот и дыбу стерпел, и пытку огнём.
Не добившись покаяния, Прозоровский обвинил железом повитого старца в злохульных и непристойных речах и велел сжечь. Поставили в Вязниках сруб, согнали людей, сожгли еретика. Огнекрылые серафимы отнесли к Господу душу Вавилы на Суд, куда ему идти. Жестоко с жестоким обошлись царские слуги, а по людским суждениям – поделом получил.
Чернец Леонид на допросах показал: Вавила сестру Леонидову, сына и тёщу и многих иных, которые в лес приходили, запирал в кельи и морил голодом до смерти.
Пытали капитоновцев, чернецов и черниц, бельцов и белиц с пристрастием. Двадцать семь человек со старцем Леонидом приняли еду и крестное знамение, двадцать пять пытки вытерпели, безмолвия не нарушили, к еде не притронулись. Как их ни уговаривали, сколько над ними ни насильничали – не покорились, померли.
Разговорчивее других оказался парнишка Стёпка, суздалец. Показал Лопухину в Нижегородском уезде в Скоробогатовской волости ещё один скит. Кто здесь спасался, с каких пор, откуда пришли – ничего не узнали. Запёрлись в келье шесть человек мужского полу, сожгли себя. То, что шестеро их было, по костякам сосчитали.
Искали по лесам дьякона Антония, старицу Евпраксию, старцев Селиверста и Капитона – не нашли. Но потянулись ниточки в Вологду, в Кострому, в Шую, в Суздаль, во Владимир.
В Вологодские леса послал царь московский стрелецкого голову Мишку Ознобишина. В вотчине боярина Ильи Даниловича Милославского в сельце Блещееве взял Ознобишин семейство крестьянина Фомы Артемьева. В Лежском волоке, в Комельской, в Обнорской волостях в вотчинах князя Шаховского, дворян Беклемишева, Бренчанинова, иноземца Довларова сыскал и уличил в капитонстве семьдесят крестьян, но были и несчитанные. В поместье Довларова в двух избах сожглись добрые сеятели за восьмиконечный правый крест, за правое крестное знамение, сколько их было – не разобрались, но дознались: среди них сгорели кровные родственники старца Капитона. Шесть женщин да два мужика из семидесяти пойманных из-под стражи утекли. Ангел двери им отворил.
Алексей Михайлович отписки Лопухина и боярина Прозоровского сам читал. Следствием остался доволен, повелел: «Тем людям, которые учнут указывать пустынников, давать нашего государева жалованья и впредь нашим государевым жалованьем обнадёживать. Малому Степану дать жалованье первому, чтоб он и достальные пустыни указывал. Пусть и другие стараются, дабы лживых пустынников и пустынниц вывести всех до единого».
О благочестии и порядке пёкся великий государь. От того царского попечения случилась небывалая отроду гарь, запахло в русских лесах человеческим жареным мясом. Не в едином каком бору, а во многих борах, во многих землях...
14
В оный день, когда на Мезени не бывает дня, взыграло небо всполохами, умом не постижимыми.
Из радуг и белого дивного света встали во всё небо стены города, а каков город, рассмотреть было нельзя. Стены поднимались чреда за чредой.
Анастасия Марковна, выходившая за берестой на растопку, позабыла, что ей надо, побежала звать Аввакума, детей и домочадцев чудо глядеть. Аввакум, кипевший гневом, кляня отступников в очередном писаньице любезным детям духовным, заругался:
– Печка у стольких-то баб студёна! А им бы всё поглядки! Не нагляделись на мороку.
Перо бросил в великой досаде. Не одеваясь, не обуваясь, метнулся из избы по сеням, глянул, помчался одеваться.
– Прости, Марковна! Впрямь Вавилон али град Небесный.
Высыпали на лютый мороз всем семейством.
– Опускается! – первым догадался Прокопий, – Батюшка! Гляди, опускается.
Город, стоявший в зените, торжественно одолевая твердь небес, плыл к земле и доплыл, опершись светеярыми стенами на горизонт. Неба не стало. Первая стена сплошь опоясала землю, зелено-синяя, с кровяными разводами, дышащая, как человек. За первой стеной вставала другая и, поднимаясь вверх, суживала небо; за второй – третья стена, четвёртая, десятая, там уж и не углядеть, сколько ещё, и все они – за, а на самом-то деле внутри. На вершине же всего, в зените, переливаясь розовыми пламенами, кудрявое древо, а в самой-то вершине – прореха, чёрный немигающий глаз.
– Господи! Что есть диво Твоё?! – закричал Аввакум. – Господи! О чём свидетельствуешь? Вразуми!
От крика видение разом поблекло, краски погасли, белое в небе слилось с белым на земле, и только по древу в зените перекатывались сполохи радуг и вдруг растаяли.
– Уж не воротит ли нас в стольный град батюшка-государь? – сказал дома Аввакум.
Анастасия Марковна перекрестилась.
– Господи! Явил бы милость – в Мезени дал век скоротать!
– Пуглива ты стала, Марковна! – зыркнул глазищами Аввакум. – Бог даст, поправится Михалыч от Навуходоносорова безумия.
– Аввакум, Аввакум! Тебе и царь – Михалыч.
– Отчего же не Михалыч? Он хоть помазанник, но человек смертный.
– Подальше бы от таких смертных.
– Увы, Марковна! Дальше некуда. Разве что в Пустозерск.
Ужинали по-праздничному, заканчивалась рождественская неделя.
– Как на Тайной вечере сидим. С Афонюшкой двенадцать человек, – сказал Аввакум, окидывая добрым взором семейство и домочадцев. – Жаль, не мой черёд служить. Поучил бы народ. Чай, завтра Васильев день, с идольских времён много осталось дурости. Здесь, на Мезени, – не знаю, а в Нижегородчине в Васильев вечерок хлеб на пол сеют. По пшённой каше гадают. Коли под пенкой красная – к счастью, белая да мелкая – жди беды. Лихоманку заговаривают. На звёзды глядят. Увидят девичьи зори на Млечном Пути – в слёзы: ещё год в девках сидеть.
– Ой, батька! – покачивая Афоню, помолодела от доброго воспоминания Анастасия Марковна. – Заговорил о родной земле, а у меня, глупой, корова наша первая в глазах. Чернавка. Ты её привёл во двор, а она меня увидела да и подбежала. У меня хлеб в руках для неё был.
– Ведь махонькая, – обрадовался воспоминанию Аввакум, – а молоком заливала. Во всех горшках – молоко.
– Как доить, бери два ведра, – сказала Анастасия Марковна. – В одном не умещалось.
– А помнишь, как лосёнка Чернавкиным молоком выхаживали? Матку грозой убило, лосёнок и пришёл в село. От голода ножки подгибаются.
– Выходили? – спросила с испугом Аксиньица.
– Выходили.
– А куда дели?
– В лес отпустили. – Аввакум погладил дочь по голове. – Потом такой лосище приходил из лесу. Придёт, лизнёт вторую матушку в руку, постоит на дворе, откушает угощения и опять в лес.
– Я его баловала, – призналась Анастасия Марковна.
– Так и я хлеб давал, но он руки мне не облизывал.
– Господи, и наревелась же я, когда Чернавку продать пришлось. Уж больно в далёкие края уезжали, в Москву, в чужие люди.
– А как Чернавка мычала! Тебя, Марковна, всякая тварь любит.
– Особенно мошка.
– Что верно, то верно! Далеко Мезень от Даур, а мошка здесь такая же злая... А вот чуда, какое нынче видели, ни в Москве, ни в Даурах не бывает.
– Господи, к добру бы! – взмолилась Агриппина.
– Глазам загляденье, а сердцу – ужас, – перекрестился Аввакум.
Заскрипел снег во дворе, хлопнула сенная дверь, стыло прогрохотала промороженная обувь. Дверь распахнулась, и в морозном облаке вошли трое заиндевелых стрельцов.
– Ты Аввакум? – спросил старший.
– Затворите дверь, младенца застудите!
Дверь затворили.
– Ты Аввакум Петров, протопоп? – снова спросил старший.
– Весь тут.
– Собирайся!
– Далеко ли?
– Царь судиться с тобой желает. В Москву.
– Вот он к чему, Вавилон небесный! – воскликнул Аввакум.
Семейство молчало, как умерло.
– Когда же ехать? – спросила Анастасия Марковна.
– Да хоть сегодня! – рявкнул старший. – Всё равно ночь.
Снова заскрипел снег, и в избу вошёл воевода Алексей Христофорович.
– Зовёт тебя, протопоп, супруга моя.
– В Москву в сей же час хотят везти! – горестно развёл руками Аввакум. – Как на пожар.
Воевода сурово и надменно посмотрел на стрельцов.
– В сей же час не получится. Подвод нет. Да и вам, господа служилые, после дальней дороги отогреться надо.
– У меня царский указ поспешать! – буркнул старший.
– По царскому указу протопопу надлежало жить в Пустозерске, а крестьяне подвод не дали – здесь живёт. Полтора года. Вам постой приготовлен, господа служилые.
...Пани Евдокия, вчера такая бодрая, лежала в постели бледная как снег.
– Не отпущу тебя, батюшка, пока не похоронишь.
– Смилуйся, госпожа! – У Аввакума слёзы на глаза навернулись. – Живи, Бога ради! Потерпи. Подожди солнышка. Солнышко тебя развеселит, жизни даст.
– Нет, батюшка... Ты соберись в дорогу хорошенько. Денёк-другой впрямь потерплю. – Подняла слабую белую ручку, осенила протопопа крестным знамением. – Батюшка! Господом Богом тебя молю, возьми с собой сыновей. Боюсь, не довезут тебя живым. Одного возьмёшь сына – тоже ненадёжно. Ивана и Прокопа бери – над тремя побоятся злое совершить.
Помолился Аввакум с пани Евдокией, вернулся домой, прожило семейство день, как ничего не случилось. Отправляясь наутро к воеводше, Аввакум сказал Анастасии Марковне, как в прорубь окунул:
– Ты собери Ивана с Прокопием. Вместе поедем. Если, Бог даст, всё обойдётся, вас в Москву покличем. Будет худо – ребята воротятся и тебе расскажут.
Взял Афонюшку с рук Марковны, осенил крестным знамением, поцеловал в тёмные бровки. Поставил на пол. Дал сынку протопать несколько шажков, подхватил, подкинул. Афонюшка задохнулся от восторга.
В доме воеводы слуги ходили на цыпочках, горели свечи. Аввакум пособоровал умирающую. Пани Евдокия глядела, как говорила, а на слова сил не было, сложила перст с перстом и позвала взглядом приблизиться. Прошептала:
– Буду молиться перед Престолом о тебе.
На другой уже день Аввакум отпел усопшую.
Похоронил.
Ночью Анастасия Марковна прижукнулась ледяным плечиком к тёплой мужниной груди. Аввакум, не дыша, легонько притиснул родную, ласковую, верную, а сказал не то – неистовое:
– Марковна, расшибу я их словом Божиим! Как пророк Иеремия гряну: «Слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима! Я наведу бедствие на место сие – о котором кто услышит, у того зазвонит в ушах». Одного боюсь, Марковна: царь малодушный, не придёт состязаться об истине. За Ртищева спрячется, за Илариона с Павлом. Марковна, голубушка! Разгорелось бы только моё сердце, одолело бы их! Как им в свою неправду верить? Им бы царю угодить – а вера угождению не сестра, не ровня. Вера, Марковна, – столп Господнего Престола.
И заснул.
Разбудили незваные гости.
Молились наскоро: стрельцы торопили, ругались. Поели наспех. Воевода дал Аввакуму и сыновьям его двое саней. Домочадцы укладывали припасы на дорогу. Наконец пришла пора тулупы надевать. Перецеловались, попросили друг у друга прощения. Сели.
– С Богом! – сказал Аввакум, благословляя семейство крестным знамением.
– Батюшка! – кинулась к отцу Агриппина.
– Батюшка! Батюшка! – кричали Акулина и Аксиньица.
– Батюшка! – лепетал поднятый на руки Афонюшка.
Подошла Анастасия Марковна, отогнула завернувшийся ворот тулупа.
– Впервой без нас едешь, – улыбнулась, но голос дрожал.
– Алексей Христофорович – не Афанасий Филиппович. Не оставит вас. Терпи, Марковна!
– Терплю.
Высыпали на улицу, отъезжающие сели в сани. Лошади тронулись.
Анастасия Марковна вдруг кинулась следом:
– Подожди! Подожди!
– Стой! – приказал вознице Аввакум. – Стой!
Путаясь в тулупе, стал выпрастываться из саней.
– Не возвращайся! – кричала Анастасия Марковна. – Пути не будет.
Бежала, летела: не дать Аввакуму единого шагу назад ступить.
Заспотыкалась на льдышках, упала бы, но он успел, подхватил. В огромном тулупе, огромный, как медведь. Спрятал на груди жизнь свою, крепость свою, счастье своё. Обвил широченными полами тулупа, утопил в себе, сыскал маленькое драгоценное личико, расцеловал.
– Настасьица, диво моё! Ради Бога, не плачь.
– Не плачу, батька!
– Слёзы-то застывают.
– Ты погрей дыханием.
– Грею, милая! Эх, времени нет!
– Всё, Аввакумушка! Всё! Езжай с Богом.
– Поехал, Марковна.
– Езжай! Встань за Господа, как Николай Угодник вставал!
– Постою, Марковна.
Уходил, отступал.
И снова кинулась птицей. И не дошла единого шага. Остановилась. Опустила руки.
– Прости, батька. Ослабела.
– Марковна! – Аввакум поднял десницу в зенит. – Бог-то с нами, Марковна!
Осенил голубушку крестным знамением. Повалился в сани. Помчались. Только снежный прах да облако лошадиных вздохов. Съела ночь умчавшихся.
15
31 января, на память бессребреников-мучеников Кира и Иоанна, подкрепив себя согласием митрополитов и других архиереев, твёрдым словом Лигарида, царь Алексей Михайлович покончил с сиротством Русской Церкви. В патриархи был наречён добрый пастырь – архимандрит Троицкого Сергиева монастыря Иоасаф{36}.
Патриарх повёл себя так тихо, что никто сначала и не приметил, сколь великая перемена произошла в церковных делах. Может, потому и не приметили, что царь не оставил забот и попечения о священстве. Да и как было взвалить сей груз на благородного Иоасафа? Никон наречения законным не признал, а приедут, не приедут в Москву вселенские патриархи – вилами на воде писано.
От Мелетия ни слуху ни духу. Впрочем, с неделю ни в какие церковные дела Алексей Михайлович не встревал, другим был занят.
Пришла пора с великою надеждой провожать посольство Ордин-Нащокина. Утешив государя, Афанасий Лаврентьевич попросил у нового патриарха благословения и напутствия.
Москва проводила великого посла, наместника щацкого, окольничего с почтением, а 12 февраля его встретил с почётом Смоленск.
День был праздничный, именины царевича Алексея Алексеевича, почитание иконы Иверской Божией Матери, святителя Алексея, митрополита московского и всея России чудотворца.
Отстояв службу, отобедав у воеводы, Афанасий Лаврентьевич, оставшись наконец один, предался наслаждению – думать не о деле, не о происках врагов, а праздно, вольно.
Прибытие в Смоленск – начало великого посольского дела. Первый сей шаг осенён благословением Богородицы, чудной Иверской иконой, а стало быть, и патриаршим благословением, ибо Никон потрудился о прославлении афонской святыни на Русской земле. Не дивно ли, осенён сей первый шаг и благословением святого митрополита Алексия, правителя, да ведь и создателя Московского княжества. Единая русская рать на Куликовом поле загородила Мамаю дорогу не только молитвами, но и государственным прозорливым разумом святителя, драгоценнее же всего: не одни русские, но и татары пришли защитить землю. С таким-то предстоятелем грех не ухватить жар-птицы. Та жар-птица – и вечный мир, и вечный союз. Перед великим братством самодержавной России и Речи Посполитой гордые царства Европы – карлы. Огромная Турция, охотница до чужих земель, будет травку щипать у себя дома.
В голове каруселью пошла вереница имён: Ян Казимир, Любомирский, Брюховецкий, Дорошенко, Одоевский, Ртищев, царь, Никон, бедный Зюзин, Радзивиллы, Гонсевские, Потоцкие, Пацы...
Как можно соединить этих людей, это множество устремлений? Как всю ненависть, накопленную веками, превратить в любовь? Чёрное в белое? Одному Богу такое по силам.
Но разве простит Господь раба, если раб не положит жизнь на служение истине?
Почувствовал: вскипающая кровь распирает жилы, не уберёгся от вечной своей обиды. Сколько можно было сделать для царства великого, доброго – родись он у боярина. И осадил себя. Господи! По тысяче поклонов надо бить еженощно, благодарить Всевышнего – не в курной избе явился на белый свет, у дворянина из Опочки. Мила Опочка, да кочка. Да вот лягушечка-то уж до окольничего доскакала.
Вспомнил отца. Вся горячка кончилась. Лаврентий Денисович – сердечный человек! Так ведь и звался между людьми – «сердешный». Не больно-то счастлив был, нёс убытки от пожара, бури, от нашествий, жестоко обманывали друзья, жестоко разоряли родственники, но остался-таки Лаврентий Денисович радостным и сердечным. Всё говаривал: «Солнце-то нынче взошло, светит, греет! Унывать – грех, хмуриться – стыдно».
Перед книгами благоговел, от жизни ждал до последнего часа великого чуда, но за ежедневные чудеса был благодарнейшим Господу молитвенником.
Службу чтил, служить приказывал делом, вкладывая во всё сердце, ум и науку.
Ради науки приставил к сыну грамотея поляка. Латынь отворила дверь в мир великих, польский язык – в жизнь устроителей жизни.
«Лаврентий Денисович, к твоим ногам положить бы все мои добытые чины! Начинал-то ведь службу с низшего звания{37}. Псковским дворянином стал уж после женитьбы. Василию Колобову приглянулся. В зятья принял. Тут саночки-то и покатились в гору!»
Дворянин Колобов был в родстве с Богданом Миничем Дубровским. Дубровский сидел а судьях Приказа большой казны, свой человек Фёдора Ивановича Шереметева, наитайнейшего, первостепенного боярина царя Михаила Фёдоровича. Увы! На закате величия этих людей был замечен и приставлен к тайнам посольского дела. В Молдавию, к господарю Василию Лупу, поехал в 1643 году, а в 1645-м на престол взошёл Алексей Михайлович. Новый царь – новые люди. Век бы куковать во Пскове, да беда за уши из болота вытянула. Восстание черни{38}. Никто не мог объяснить государю толком, что творится во Пскове. Только он, мелкопоместный дворянин Ордин-Нащокин, явившись пред государевы очи, рассказал о явных и сокровенных причинах псковского самовольства, указал на людей, которые смогут вернуть город без большого боя, без пролития крови. Сорок три года тогда ему было, да никогда не поздно государю служить... Теперь – пятьдесят девять. Есть за что укорить себя, есть что оплакивать.
Многие дела задумывались как великие, но всегда находились правщики. Уж так поправляли, что у прекрасного младенца вырастал горб. Не по глупости такое делалось, из одной только зависти.
Об иных замыслах до сих пор приходится молчать как рыба. Изуродуют.
Зависть – сатана России. Георгий Победоносец на белом коне змея копьём пронзил, а зависть на чёрном коне белую птицу копытами топчет.
Горько стало во рту. Желчь. Хотел отдых себе дать, а устроил судилище. Хованский, желтеющий от злобы, смещён, но сам тоже недалеко ушёл...
Прикрыл глаза. Поплыли по широкой воде корабли. Высокие, с трюмами для товаров, с оконцами для пушек, с мачтами. Паруса поставлены, ветром напряжены... По Волге, по великой реке, торгуя с Персией, с Кавказом, можно озолотить оба берега. Но ведь нынче Волга – не государева река, по которой мёд льётся, а бан разбойников. Бан в тысячу вёрст.
Запил желчь квасом, ложку мёда съел.
До петухов уснуть не мог.
Утром ушёл с головой в посольские дела. Нужно было разослать тайных людей за вестями. Найти польских комиссаров. Где он теперь, жмудский староста Юрий Глебович? Чем король жив, в какую сторону казачество качнётся, хан кого собирается ограбить?
На свой страх и риск отправил ловкого надёжного человека в Крым, к Василию Борисовичу Шереметеву. Боярин хоть и пленник, но может вернее послов послужить делу. Нужно купить дружбу хана. У Глебовича крымская карта – козырная. Отнять надо игрушку у плохих игроков.
Не проявляя суеты, но и не пуская дела на самотёк, Афанасий Лаврентьевич для скорейших ссылок с паном Глебовичем перебрался из Смоленска в Мигновичи. Ещё не договорившись о месте съездов, начал хлопотное, но доброе дело – обмен пленными. Освобождённые поляки испытывали к послам благодарность, отношения между Глебовичем и Ордин-Нащокиным сами собой теплели. Скоро нашлось и место для посольских съездов. Деревня Андрусово на реке Илародне, пограничье между Смоленским и Витебским уездами.