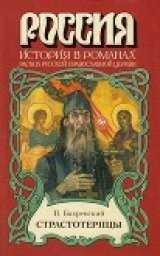
Текст книги "Страстотерпцы"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
10
Иван Мартынович Брюховецкий пробудился поздно. Первое, что почувствовал, – простыни рекой пахнут. Лежал, улыбался, вспоминая, как тихонько, благодарно, счастливо шептала ночью жена имя его. Чуть скосил глаза на соседнюю подушку – пусто. Жена – птаха ранняя. Русские спозаранок славят Бога. Впрок! Дневные грехи на вечерне отмаливают.
Иван Мартынович потянулся, наслаждаясь здоровьем, постелью, видом опочивальни. Одеяло – на лебяжьем пуху, соболями подбито. Шатёр – голубого шёлку, стены – голубой бархат, на полу вместо ковра сшитые беличьи шкурки. Босым ногам – ласковое балованье.
На большом серебряном гвозде с массивной шляпкой в виде львиной головы – сабля: подарок тестя Дмитрия Алексеевича. Ножны в сапфирах, рукоятка из кости допотопного зверя мамонта, по эфесу алмазы.
При виде сабли мысли кинулись к войсковым делам, но Иван Мартынович сердито остановил себя. Встал, оделся. Подошёл к иконам, перекрестил лоб, хотел уж было уйти, но с порога вернулся, отбил три поясных поклона перед Страстной иконой Божией Матери с огненными ангелами по углам.
В горнице навстречу ему поднялась милая его супруга.
– Пробудился?
– Вон солнце какое ярое! Царство Небесное проспал.
– Нет, не проспал! – Глаза влюблённые, сама как цветочек средь зелёного луга: для всего мира радость. – Песцов привезли, не хочешь ли поглядеть?
– Шкурки?
– Живых! Уж такие пригожие! Весёлые!
Божий мир сиял. Три пары песцов, пушистых, как зима, играли в просторном загоне. Всё было в инее. Деревья, бороды дворовых людей. Причудливые маковки терема, остро поднятые крыши хозяйственных сараев, коньки, деревянное узорчатое кружево на окнах, крылечках, на барабанах церковки.
– А ведь и впрямь белее снега! – изумился Иван Мартынович красоте северных лисиц. – Зачем их привезли?
– В подарок, на наше счастье. От Ильи Даниловича.
– От Милославского? От тестя государева?
– Чай, Илья Данилович – родня. Матушка моя – Милославская. Илья Данилович в гости нас нынче звал.
– Никто мне о том не говорил, – нахмурился Иван Мартынович.
– Ихний дворецкий в передней тебя дожидается. Ты ведь опочивал.
На завтрак, по случаю Рождественского поста, подали коричневое пиво, солёные грузди, пироги с рыжиками, с калиной, с визигой, пшённую кашу с белужьей икрой, мёд, мочёную бруснику.
Еда для казака непривычная.
Иван Мартынович, соблазнясь груздями, выпил чарку водки. Грузди на зубах хрустят, водочка по жилам кровь гонит. Хорошо! И тихо ужаснулся: «Через неделю выпрут из Москвы. Четвёртый месяц в гостях... – Спросил себя: – Что ты не видывал в Переяславле да в Гадяче? Здесь жизнь, там – погибель. Не поеду!»
Будто чёрта за хвост дёрнул. Принесли письмо. И от кого же? От друга Мефодия. Епископ Мстиславский и оршанский писал из своего Нежина: «Теперь на Украине без вашей милости ничего доброго нет, всяк в свой нос дует. Если б боярин Пётр Васильевич Шереметев поспешил в Киев, то всё б посмирнее было». Сообщал, паникуя: брацлавский воевода Дрозд, лихо бивший полковника Дорошенко в сентябре, изнемог и сдал Брацлав. Овруцкий полковник Децик, разбивший Дорошенко под Мотовиловкой, ушёл в Киев. Вокруг Киева бродят польские залоги. Нападают на отряды киевского воеводы князя Никиты Львова. Князь – человек старый, ни к чему не пригодный, военного дела не знает. Если не поспешит ему на смену Пётр Шереметев, если гетман промедлит с возвращением – надо ждать скорой беды не только с Киевом, но и со всем Заднепровьем. Того и гляди отойдёт к недругам Канев.
Швырнул письмо Иван Мартынович на пол, ногой повозил, давя, как гадину.
– Шалят детки без отца.
Поднялась со дна души злоба на генерального писаря Захара Шикеева. В гостях не умел жить мирно. Кинулся с ножом на пиру у князя Юрия Алексеевича Долгорукого на протопопа Григория Бутовича. Нож отняли – вилку схватил, хотел ткнуть другого писаря, Петра Забелу. Повезли дурака из Москвы прочь, в Сибирь, охладиться...
Забыл Иван Мартынович, что за столом с милой женой сидит. От чёрных мыслей лицо почернело. Думал, как разделаться с Мефодием. «В письмах ластится, но первый ненавистник. Пролез в епископы, в митрополиты лезет. Погоди, дружок, ты у меня разлюбишь Москву. Пришлют в Киев московского владыку, обгоняя Дорошенко, к полякам кинешься... Дорошенко... Да что Дорошенко – все полковники ненадёжны. Мещане готовы казаков перевешать... Владетельные паны – мещан. Разлад, разоренье...»
Обрадовался, когда пришло время ехать к Илье Даниловичу.
Старейший из Милославских, отец великой государыни, к удивлению Брюховецкого, лицом и повадкою был молодец молодцом. Скоро семьдесят, а седых волос в голове не видно. Всё серебро в бороде да на бровях.
Илья Данилович в былое время управлял Малороссийским приказом, казаков привечал.
Угощение и здесь было постное. Лакомились нежной сёмгой, сельдью из Плещеева озера в Переславле-Залесском. Подали саженного осётра.
На пирующих с женской половины, из потайного чулана, в щёлочку смотрели дочери Ильи Даниловича: царица Мария и вдова боярина Морозова Анна.
– Чего государь не отдал меня за гетмана? – разобиделась младшая на старшую.
– Иван Мартынович был холост, просил дать в жёны девицу.
– Вся жизнь моя за старым прошла.
– Борис Иванович любил тебя.
– По ночам! Днём за дуру почитал. Всё бы ему с Федосьей Прокопьевной витийствовать. У Федосьи слова – как шелка. Книгочея.
– Читала бы и ты.
– Читала. Раскроешь толстенную, буквы в глаза так и прыснут, хуже тараканов! Соберёшь слово, соберёшь другое, третье, а какое было первое, уж забылось.
– Не наговаривай на себя, Анна! – обняла сестру Мария Ильинична.
– Умру скоро.
– Типун тебе на язык!
– Тебе чего, ты счастливая! Детей чуть не дюжина, а я и не знаю, как бабам бывает больно.
Мария Ильинична кинулась целовать сестрицу, проливая на прекрасное смуглое лицо её неудержимые слёзы.
– Прости меня, Аннушка! Прости за счастье моё, за судьбу дивную, несказанную. Наградит тебя Господь за печали твои.
– На небе, – сказала, как замок на дверь повесила. Замерла, поражённая вечной своей обидой.
За стеной пошло большое движение, голоса весёлые, громкие. Мария Ильинична виновато улыбнулась сестрице:
– Алексей Алексеевич пожаловал. Он собирался к дедушке.
Анна Ильинична прильнула к потаённому глазку. Царевич стоял посреди комнаты, разглядывая гетманскую булаву.
– Как же это надо жить, чтоб столько казаков тебя полюбили? – спросил царевич гетмана. – Сколько их?
– Кого? – не понял Брюховецкий.
– Казаков, любящих тебя.
– Любящих?
– Но ведь булаву на казачьем кругу дают? Большинством?
Брюховецкий гладил себя по лысому черепу, поклонился:
– Благодарю, ваше высочество, за доброе слово. Увы! Булаву дают не ради любви, ради выгоды. Я хотел дружбы с великим государем великой России, вот меня и выкликнули. На Левом берегу. Я, ваше высочество, половинный гетман. Другая половина Украины служит королю. Только надолго ли? Королева желает, чтоб корону ваше высочество наследовало. Тогда, должно быть, и соединится многострадальная Малая Россия.
Мария Ильинична дёргала сестрицу, оттаскивая от глазка:
– Дай разочек взглянуть!
– Во дворце на сыночка не нагляделась?
– Редко теперь вижу. Милая, не упрямься!
Анна наконец уступила место.
Алексей Алексеевич на этот раз держал в руках простую казацкую саблю. Румяный, весёлый, глаза сияют, чело белое, высокое.
– Да ведь она книзу тяжелей! – взмахнул саблей царевич.
– Рубить так рубить! – Гетман, перепугав Марию Ильиничну, показал, как казаки головы рубят.
Алексей Алексеевич тотчас повторил страшное движение.
– Надо и нам завести казачьи полки! – подбежал он к деду.
– Полки гетмана служат твоему батюшке, – возразил Илья Данилович.
– Нет! Пусть казаки в Москве стоят. Чтоб враги знали, трепетали.
– Мечта каждого государя – устрашать без войны. Сия мысль – мужа государственного, – польстил царевичу Брюховецкий. – У польского короля есть крылатая конница, гусары. Перед гусарами, когда земля гудит от тяжкого топота, когда визжит от ужаса ветер в крыльях, – всякое сердце трепещет, но гусар тоже бьют.
– Что ж! Неуязвимый Ахиллес имел-таки слабое место на пятке, – ответил Алексей Алексеевич. – Но ведь сколько им одержано побед! Дедушка, надоумь батюшку о казаках!
– Садись за стол, внук! – пригласил Илья Данилович. – Для тебя изготовлен пирог на медовой вишне, а другой – с твоей любимой черникой.
– Пирогов я отведаю, но что теперь в доме сидеть? Поедемте по Москве-реке кататься. Уж так санки летят, искры сыплются! Правда, правда! Я сам вчера видел вечером.
Уговорил. Гетман пожелал испытать московскую потеху. К его удивлению, Илья Данилович тоже согласился прокатиться по Москве-реке.
Сопровождающих набралось человек с тысячу, но скакали по заснеженному льду только три тройки. В санках сидели по двое: Илья Данилович со слугой, Алексей Алексеевич с дядькой, с Фёдором Михайловичем Ртищевым, Брюховецкий с супругой.
Первым укатил в малиновую закатную даль Илья Данилович, вторым – царевич.
Санки легче пера. Ивана Мартыновича разбирало сомнение – не перевернуться бы: зрителей множество. Возница повернулся к молодым, глаза озорные, предвкушающие радость. Натянул шапку на уши, поправил рукавицы, шевельнул вожжами, пробуя на вес... Лошади тронули, возница гикнул. И хлынул в лицо сверкающий малиновый поток морозного воздуха. Невидимые кристаллики льда тотчас превратились в метель. Иван Мартынович задохнулся, но супруга подняла песцовый полог, укрылась по глаза, укрыв заодно драгоценного супруга.
На том радости дня не кончились. Дома ждала баня. Московская лютая страсть. Избежать испытания никак невозможно: баня для гостя, для желанного зятюшки. Сумасшедший жар изготовлен великими мастерами. Такое благоухание, будто в нектар окунули. Плохо соображая, Иван Мартынович покорно отдал себя банщикам, и те отхлопали его вениками, превратив из белой рыбы в багряного рака. Нежили шёлковыми щёлоками, мыли, заворачивали в простыни, поили квасом, от которого внутри поселялось прохладное, бодрящее блаженство.
«А ведь они всю земную жизнь в раю живут», – подумал о боярах Иван Мартынович, стоя на вечерне, где дивный хор величаво славил Всевышнего.
Пели москали чересчур строго, но это был единый глас, единое дыхание. Сила в том пении чудилась необъятная. Вглубь – бездонно, вверх – безмерно.
Ясно и просто подумал о себе Иван Мартынович: погиб. Не быть ему здесь больше. Да разве простят казаки гетману боярство?!
На отпуске получил всё просимое. Государь пожаловал ему и всему роду Брюховецких на прокормление Шептоковскую сотню в пограничном с московскими землями Стародубском полку. На вечные времена. Жителям Гадяча царь, исполняя челобитие боярина-гетмана, даровал магдебургское право, каждого полковника свиты наградил селом, остальные получили грамоты на земельные наделы, а гетман выклянчил для себя сверх всего мельницу в Переяславле. Переяславль – столица Войска Запорожского, там двор гетмана; своя мельница – свои пироги.
11
Осталось Брюховецкому исполнить ещё одно сомнительное, но важное дело. К патриарху Никону в Воскресенский монастырь отправился, как обещано было, полковник Кирилл Давыдович.
Попал на похороны. В заточении умер иподьякон Никита. Всей вины его – носил патриарху письма боярина Зюзина. Боярин за писания, за умысел призвать святейшего в Москву поехал на службу в Казань, советчик его Ордин-Нащокин – во Псков, а письмоносец, ведать не ведавший, что в письмах, – в подземелье ухнул.
По завещанию бедного Никиту привезли хоронить в Воскресенский монастырь. Никон воздал усопшему архиерейские почести, сам положил во гроб, сам отпел, похоронить указал в храме Воскресения у лестницы, ведущей в предел Голгофы.
С полковником святейший говорил с глазу на глаз.
– Будь великодушен! – просил Никон. – Как воротишься на Украину, съезди в Киев, в Печерский монастырь. Пусть архимандрит Иннокентий вспомнит, как пёкся я о его обители, да поможет моему посланцу. Тебя же прошу провезти с собой моего близкого родственника.
– Мы о том думали, – ответил полковник, – в свои сани возьму. На заставах объявлю племянником. Дескать, в плену был, взят подо Львовом воеводой Бутурлиным. Бутурлина давно в живых нет. Не проверят.
Позвали Федота Марисова. Ростом, глазами – копия дядюшки. Родом курмышский, первенец сестры Никона.
Прощаясь, святейший благословил полковника и всё Войско Запорожское. Наказал:
– За четыре дня до отъезда приходи на Иверское подворье. Федот там тебя будет ждать. Возьмёшь грамоты и деньги. Золото, когда достигнете пределов Войска Запорожского, отдай Федоту. Это ему на дорогу. Три грамоты ему, четвёртую, для архимандрита Иннокентия, сам передашь.
Через четыре дня полковник Кирилл Давыдович получил на Иверском подворье пятьдесят рублей серебром для себя, пятьдесят золотом для Федота. Грамоты к патриарху константинопольскому, иерусалимскому, в Валахию, к греку Мануилу, в Киево-Печерский монастырь архимандриту Иннокентию.
Федот Марисов отправился из Москвы в санях полковника. Никто не приметил неправды, но шило из мешка высунулось. Узнали в Приказе тайных дел о Никоновом племяннике. Погоня началась бешеная. Подьячий Иван Дорофеев гетмана на дороге не успел перехватить, явился в Гадяч. Брюховецкий распорядился сыскать полковника Кирилла Давыдовича. Нашли его вместе с лжеплемянником в городе Седневе. Сковали – и в Москву.
Читал Алексей Михайлович послания Никона вселенским патриархам и чуял, как льётся из-под мышек ледяной пот. Неправды или злословия в письмах не было, ужасала правда.
«По уходе нашем царское величество всяких чинов людям ходить к нам и слушаться нас не велел, указал – кто к нам будет без его указа, тех людей да истяжут крепко и сошлют в заключение в дальние места, и потому весь народ устрашился».
– Как царского указа не устрашиться? Устрашились, и Слава Богу.
«Учреждён Монастырский приказ, повелено в нём давать суд на патриарха, митрополитов и на весь священный чин, сидят в том приказе мирские люди и судят».
– И сие правда.
«Написана книга «Уложение»[42]42
...книга «Уложение», — Соборное уложение 1649 г., свод законов Русского государства. Принят Земским собором 1648—1649 гг. Основной закон России до первой половины XIX в.
[Закрыть] – святому Евангелию, правилам святых апостол, святых отец и законам греческих царей во всём противная... в ней-то, в тринадцатой главе, уложено о Монастырском приказе, других беззаконий, написанных в этой книге, не могу описать – так их много!»
– Врёшь, «Уложение» – книга честная.
«Я исправил книги – и они называют это новыми уставами и Никоновыми догматами. Главный враг мой у царя – это Паисий Лигарид, царь его слушает и как пророка Божия почитает. Говорят, что он от Рима и верует по-римски, хиротонисан дьяконом и пресвитером от папы, и когда был в Польше у короля, то служил латинскую обедню. В Москве живущие у него духовные греческие и русские рассказывают, что он ни в чём не поступает по достоинству святительского сана, мясо ест и пьёт бесчинно, ест и пьёт, а потом обедню служит, мужеложествует…
– Срам! Читать срам. Этакое по всему свету разносит!
«Теперь всё делается царским хотением: когда кто-нибудь захочет ставиться во дьяконы, пресвитеры, игумены или архимандриты, то пишет челобитную царскому величеству и царским повелением на той челобитной подпишут: по указу государя царя поставить его, и в ставленной грамоте пишут: хиротонисан повелением государя царя».
– От сего тоже не открестишься.
«Царь забрал себе патриаршие имения, так же берут, по его приказанию, имения и других архиереев и монастырские, берут людей на службу, хлеб, деньги берут немилостивно, весь род христианский отягчал данями».
– Отягчал. Заморила война народ.
«Много раз писали мы царскому величеству, представляя ему примеры царей благочестивых, благословенных Богом за добрые дела, и нечестивых, принявших от Бога мучения, но он ни во что вменил наши увещания, только гневался на нас и присылал сказать нам: «Если не перестанешь писать, унижая и позоря нас примерами прежних царей, то более не будем терпеть тебя».
– Всё, сатана, вывёртывает на погляд!
«Боярин Семён Лукьянович Стрешнев научил собаку сидеть и передними лапами благословлять, ругаясь благословению Божию, и назвал собаку Никоном-патриархом. Мы, услыхав о таком бесчинии, прокляли его, а царское величество... держит Стрешнева у себя по-прежнему в чести».
– И тебе была честь! Уж ты покрасовался, подурил, забавляясь царским доверием и любовью.
«Мы предали анафеме и крутицкого митрополита Питирима, потому что перестал поминать на литургии наше имя, и которые священники продолжали поминать, тех наказывал. Он же хиротонисал епископа Мефодия в Оршу и Мстиславль, и послали его в Киев местоблюстителем, тогда как Киевская митрополия под благословением вселенского патриарха. Когда мы были в Москве, то царское величество много раз говорил нам, чтоб хиротонисать в Киев митрополита, но мы без вашего благословения и без вашего совета не захотели этого сделать и никогда бы не сделали».
– Изменник и предатель! Держать бы тебя за крепкой стражей в яме. Да уж потерпим малое время, ибо долго терпели.
Когда Никон узнал: Федот Марисов в тюрьме, грамоты у царя, – сел на лавку и просидел, глядя перед собой, с утрени до вечерни. В голове – пустозвон. Вязниковского попа вспоминал. Надеть бы на себя пудовые плиты, подобно старцу Капитону, затеряться в лесах дремучих: ни царя не знать, ни его поганого царства.
12
Бедный Никон! Забыл: от русского царя на Русской земле не спрячешься. Только не всякому земная власть страшнее вечной.
Бежали от царя богобоязненные.
Старец Селиверст привёл братьев-немтырей в тайную обитель. На озере Кшара, за Клязьмой, за лесами за болотами, хлипкий жердяной тын ограждал от зверья избу и две избушки. Изба приземистая, широкая, со многими пристройками. Перед избой три огромных восьмиконечных креста из живых сосен с обрубленными вершинами. Никто не показался, не встретил беглецов. Когда проходили впотьмах через просторные тёплые сени, братьям почудилось – стены стонут.
Селиверст прочитал перед дверью молитву, и они вошли в светлое, с выскребанным полом жильё, сильно утеснённое печью. Духоты не чувствовалось, хорошо пахло смолой и хлебом.
В переднем углу за длинным столом сидел чернец, обвитый поверх рясы цепью. Цепь замкнута на великие замки: два на груди, два на боках, два на бёдрах.
Чернец всплеснул вдруг руками, выбежал из-за стола и упал Селиверсту в ноги. Плача, облобызал и старца и братьев, усадил всех троих на лавку, разул, обмыл ноги тёплой водой.
– Сей труженик Господний – старец Вавила, – сказал Селиверст. – Пять пудов на себе носит. Каждый год, смотря по грехам, творимым царём, удлиняет цепь.
Вавила улыбался братьям, но молчал.
– Нынче пятница! – вспомнил Селиверст. – Он в постные дни безмолвствует.
Пришли три женщины. Собрали на стол еду: чугун с постными щами, чугун с пшённой кашей, каравай хлеба, три луковицы, горшок солёных чернушек.
Пока беглецы молились, обедали, в избе стало тесно. Пришло восемь иноков, двадцать инокинь, четверо девок-белиц, парнишка лет пятнадцати. Все хотели послушать старца Селиверста.
– Бог послал мне в темницу в помочь сих двух братьев, – Селиверст поклонился молчунам, и все поклонились им. – Подали нам в хлебе сострадатели наши пилу, железо пилить. Братья сильными руками освободили меня и себя от колод на ногах, подпилили решётку, и ушли мы из-под Красного крыльца. Кто нас прятал, вывозил из Москвы – разговор долгий... Одно скажу: поп Введенского девичьего монастыря Василий Фёдоров подал митрополиту Павлу извет о наших скитах. Злое дело породило зло: попа убили. Теперь надо ждать большого гонения. Царь осатанел. По дороге к вам, братья и сёстры, встретили мы доброго человека, бегущего от расправы. Посылал царь стрельцов жечь скиты на Керженце. Старца Ефрема Потёмкина, оплакавшего рождённых и во чреве носимых, ибо явился на земле антихрист, – в цепях в Москву повезли... В Москве ждут приезда вселенских патриархов судить Никона.
– Слава Тебе, Господи! – возрадовались насельники кшарских скитов.
– Рано радуетесь! – возопил Селиверст. – Никон на цепи, как змей у Господа. Царь – антихристов предтеча. Сапожки носит мягонькие, а как по церкви-то пойдёт, всем и слышно: копытами раздвоенными постукивает. Козлиными.
– Что же делать, батюшка?! – закричал парнишка, падая перед Селиверстом на колени.
– Молиться. Исполнились сроки. От Рождества Исуса Христа идёт шестьсот шестьдесят шестой год с тысячей. Сие число есть начало царствия антихриста. По Писанию, два с половиной года дано ему мучить да искушать нас, бедных. А там уж и второе пришествие. Страшно, братия! Как Иов кричу: «Лягу в прахе, завтра поищешь меня, и нет меня».
Молились дотемна.
Спать братьев положили на печи, Селиверст с ними лёг. Вавила же, звеня цепями, бил и бил поклоны, покуда не упал от изнеможения и не заснул на полу перед божницей.
Долго ли спали братья, коротко ли – услышали стоны. Под печкой стонали, стонали половицы в полу, брёвна в стенах...
Старший, Авива, толкнул брата в бок. И брали они в руки головы друг друга, прижимались лбами... И соединяли ладонь с ладонью – сжимали до боли. Сама их плоть ужаснулась от воспоминания, как морил их голодом старец Капитон.
В полночь отворилась дверь, и вошли в избу старцы и старицы. Поставили под образа гроб, зажгли свечи и лампады, воскурили кадило. В белых одеждах непорочные девы-белицы привели под руки парнишку Степана. Сняли с него крестьянское платье, обрядили в саван. С пением заупокойных молитв подняли, обнесли вокруг стола и положили во гроб. Отпели, обернули тело пеленами, как младенца, открыли подполье и опустили гроб без крышки во тьму.
Братья всё это видели. Старец Селиверст, спавший с ними, не проснулся, изнемог в пути, крепкий сон был его хранителем.
Утром братья, мыча, подступили к Вавиле и, указывая Селиверсту быть свидетелем, тыкали руками в подполье.
– Там праведники, поспешающие к Господу, – сказал Вавила.
Зажёг свечу, поднял крышку.
Огонёк выхватил из тьмы гробы. В гробах – спелёнутые женщина, старик, ребёнок, парнишка Степан.
– Хлеба! – крикнула женщина. – Водицы! Смилуйтесь!
– Терпи! Господь ожидает тебя! Радуется твоим слезам! – Вавила захлопнул крышку.
Умирающие завыли.
Братья посмотрели друг на друга, на Селиверста.
– Вавила! Зачем умерщвляешь не свою, но чужую плоть? – спросил Селиверст.
– Не я казню. Сами спешат к Господу, до неистовства антихристова, до Страшного Суда.
– Ты – старец, всеизрядно познавший книжную премудрость в Парижской академии. Уж не там ли обучен мучить людей до смерти? Есть ли такое в твоей немецкой земле, в твоём немецком племени, что творишь с русскими? Скажи мне чистосердечно, возможно ли подобное в лютеранстве, которое дано тебе было во искушение?
– Селиверст, ты меня исповедуешь! Преклоняю перед тобою мою главу, ибо не я, а ты был первым у старца Капитона, ты претерпел заточение в царской темнице и вызволен из плена у никониан промыслом Исуса Христа. Мне пристойно исповедаться пред тобой, Селиверст. Внемли: мертва наука академии – жива простота старца Капитона. Не Лютер – великий пророк – духовник мой, безвестный Капитон. Старец праведный Корнилий, радея о чистоте веры, разбил зажжённое кадило о голову попа-отступника. Я же готов собственную голову разбить о кадило, лишь бы услужить Господу. Не я уложил отрока Степана во гроб – сам попросился. Мне же послано терпеть плач ослабевших духом.
Подступили братья к Селиверсту, смотрели ему в глаза, ожидая, что скажет. Но старец молчал. Тогда братья сняли с себя пояса, повалили лютого Вавилу на пол, повязали. Вынули бедных людей из тьмы на свет Божий, распеленали, напоили водой, покормили понемногу щами.
Взяли хлеб, лук, топор да кочергу и, поклонясь Селиверсту, пошли прочь из скита и увидели, что и Селиверст поспешает за ними.








