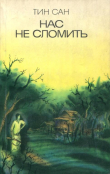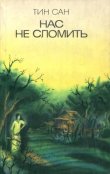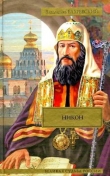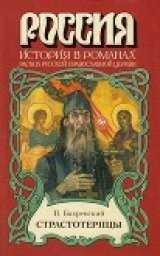
Текст книги "Страстотерпцы"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Твоя правда, – согласился Желябужский, – но государь у нас добрый, жалеет пленных. Как прикажет, так и будет.
6
– Мария Ильинична! Дружочек! Новость-то какая! Гетман бил челом – дать ему московскую девицу в жёны. Помоги, голубушка. У кого девицы в возраст вошли? Кто Ивану Мартыновичу будет пара?
– Да он ведь казак. Отдадут ли за казака из хорошего дома?
– Иван Мартынович – гетман! – сказал Алексей Михайлович не без досады. – За добрую службу я жалую его боярством. Жених он желанный.
– У Дмитрия Алексеевича Долгорукого вторая дочка на выданье.
– Князь Дмитрий рода знаменитого, сам окольничий. Подходяще. Хороша ли девица?
– Лебедь! Лицом в батюшку.
– Долгорукие из себя видные. Лепо, Мария Ильинична! Помощница ты моя.
– Хлопочешь о гетмане, как отец родной, да они ведь все обманщики, атаманы да гетманы. Сколько беды было и от молодого Хмельницкого, и от Выговского, и от Тетери! Приезжали, ласкались, а как с глаз долой, так и шкурку овечью долой.
– Волков, матушка, тоже надо прикармливать. Он потому и волк, что есть хочет.
– Господи! Ты у меня за волка-то готов заступиться! Пусти волка в овчарню, он всех овечек зубами переберёт. Голодным останется, но дело своё сделает. Лиса курочку сцапает – ей и довольно. А волку лишь бы убить.
– Брюховецкий – не волк, матушка. Человек вежливый, служить горазд. Мне такой в Малороссии зело надобен.
– Не бабье дело о государевых делах судить-рядить. Только слышала я от моих приезжих боярынь: у Брюховецкого друзей в Войске Запорожском, как волос на голове.
– Зато статьи хорошие подписал.
– Смотри, батюшка! Не передаст ли он тебе со статьями всех своих врагов? У колдуна бесы в венике, у твоих гетманов – в статьях.
– Матушка, уж не напел ли кто тебе об Иване Мартыновиче недоброй песенки?
– Не нужны мне ни гетманы, ни атаманы. Ты мне нужен, свет мой. Я ведь помню, как приезжал Выговский! А Хмель-то молоденький каков изменник! Из-за него Шереметев у татар в колодках сидит[39]39
А Хмель-то молоденький каков изменник! Из-за него Шереметев у татар в колодках сидит, — Хмель молоденький – Юрий Хмельницкий (см. коммент. к стр. 32). Имеется в виду измена Ю. Хмельницкого, попавшего под влияние пропольской группировки, в результате чего капитулировала русская армия В. Б. Шереметева (киевского воеводы) и Польше удалось захватить всю Правобережную Украину (без Киева). В. Б. Шереметев попал в плен к татарам.
[Закрыть]. Уж четвёртый год.
– Господи, помоги Василию Борисовичу! Виноват я перед ним, матушка, правду говоришь. Но ведь денег в казне таких нет, какие за него татары просят, – тридцать тысяч золотых червонцев: заплатить – всё войско распускай... Вот я и хочу через гетмана исхитриться да и отвадить крымских людей от поляков. Без короля хан сговорчивей станет.
Царские дела у Алексея Михайловича вершились без мешканья.
17 сентября, через шесть всего дней по прибытии в Москву, была у Брюховецкого невеста, и спрашивал он своего пристава Желябужского:
– Добрый Иван Афанасьевич, объясни, Бога ради, как мне быть! Самому ехать к Долгорукому говорить о сватовстве или моих людей посылать? Где мне с князем прилично ударить по рукам? На какой двор невесту привозить? Кого звать на свадьбу, в каких Чинах? Тысяцким обещал быть Пётр Михайлович Салтыков, а больше у меня в Москве знакомых людей нет!
Суетился Иван Мартынович, головы, впрочем, не теряя, о всех своих заботах помнил, своё требовал сполна.
– Иван Афанасьевич, – налегал он на Желябужского, – спроси у кого следует и объяви мне честно: в каком платье на венчании и на свадьбе пристойно мне будет появиться: в московском или в служебном, в казацком? Посылать ли невесте до свадьбы подарки? У нас принято дарить суженой серьги, платье, башмаки с чулками... Спросил бы ты, друг мой, о моих печалях у самого великого государя, пусть он указ даст.
Ясельничий Желябужский слушал и в затылке скрёб.
– Лучше всего напиши обо всём. Подашь челобитие на пиру у великого государя.
– Государь позовёт на пир на отпуске, а сватов уж теперь надо посылать! – не соглашался гетман.
– До отпуска будет пир! – брякнул Желябужский и прикусил язык: проговорился. У царя все его дела, даже добрые, нежные, – тайна.
Прежде чем звать казаков на пир, пригласил Алексей Михайлович гетмана в Боярскую Думу. Здесь, перед лицом знаменитейших родов Русского царства, Брюховецкому объявили царскую милость, возвели в боярское достоинство. Отныне Иван Мартынович должен был писать на своих грамотах и универсалах: «боярин и гетман»,
В честь нового боярина царь задал пир в Золотой палате. Здесь и указали Брюховецкому его место. Было оно завидное. Выше гетмана сидели двое: ближний боярин князь Никита Иванович Одоевский да ближний боярин Пётр Михайлович Салтыков. Всего же бояр у самодержца всея Руси было восемьдесят, одиннадцать из них – ближние. Окольничих – девяносто, думных дворян – сорок, думных дьяков – одиннадцать.
7
Во Псков к воеводе Ордин-Нащокину приехали посланные царём селитряные мастера Кашпирка Григорьев да Микитка Волчёнок. Селитряным делом великий государь указал ведать опальному. Добрый знак: опалы, знать, убыло.
За пособничество Зюзину, обманно призвавшему в Москву патриарха Никона, думный дворянин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин был отправлен с глаз долой во Псков. Воеводой, да без права ведать военными и городскими делами. Всё это было отдано князю Хованскому. Опальному указали вести переговоры с иноземцами, решать межевые, таможенные дела.
Слава Богу, не судили, не казнили, ещё и службу дали. Сын Афанасия Лаврентьевича Воин, бежавший к польскому королю, боясь, что царские слуги достанут в Варшаве, уехал во Францию, к королю Генриху Анжуйскому.
Беседуя с немцами Кашпиркой да Микиткой, Афанасий Лаврентьевич думал о Воине, всё пытался поставить себя на место новоприбывших, поглядеть на Псков, на русскую жизнь глазами иноземца. Воин так же вот глядит на французов, на их города, на землю, на небо. Неужто ему не вспоминаются отец, мать, дом?.. К царским делам был приставлен, а кто он теперь? Приживала?
Вздыхая о Воине, Афанасий Лаврентьевич говорил с иноземными мастерами ласково, дал им хороший дом со слугами, снабдил всякими припасами. Дело разумейте да не ленитесь.
Всякое доброе слово великого государя Ордин-Нащокину князь Иван Андреевич Хованский принимал за обиду себе. А из Кремля, с самого верха, к думному дворянину то один гонец, то другой. Царю недоставало Афанасия Лаврентьевича. Прибыл от короля Яма Казимира посланец Иероним Комар. Привёз подтверждение перемирию на весь 1665 год, согласие уступить на сей год Смоленск с городами. Были у Комара полномочия: договориться о времени, о месте съезда великих послов, дабы заключили вечный мир. Царь спрашивал совета, как говорить с Комаром. Объявить ли о том, что в Москве знают о восстании надворного маршалка Юрия Любомирского против короля, а вернее сказать – королевы. Поторопиться ли с началом посольских съездов или выждать, чем кончится польская междоусобная смута?
Ордин-Нащокин умолял царя ради перемирия на уступки не идти. Уступать придётся на съездах, обсуждая статьи вечного мира. О Любомирском Комара надо спрашивать с пристрастием, чтоб подумал – не собирается ли великий государь помогать маршалку?
Царский гонец пробыл у Ордин-Нащокина всего с час, Хованскому даже не показался, ускакал – уж такие спешные дела у великого государя с опальным.
Не прошло недели – опять скорый гонец, опять мимо Хованского. Царь сообщал Афанасию Лаврентьевичу: приехал полковник от Любомирского. У маршалка две просьбы: первая – дать денег на войну с королём, вторая – принять на службу сына, чтобы имел он на Украине два города, оборонял бы их от прихода татар и бродячих польских отрядов. Если взять молодого Любомирского на службу, не вызовет ли это неудовольствие у австрийского кесаря?
Ответ требовался письменный, но такой же скорый.
Помолился Афанасий Лаврентьевич перед иконой Спаса, попросил Господа Иисуса Христа:
– Тебе служу, Всевышний! Да будет воля Твоя, верни мне сына Воина в здравии, защити его от царского гнева... Соверши, Господи, по молитве моей. Ежели нужна Тебе иная служба от меня, грешного, – отрекусь от мира. Только сына не оставь!
Ответы написал краткие, ясные: «Сыну Любомирского пристойно быть в Москве. Сие поможет миру, а всему свету станет явно: сын великого человека, славного сенатора короны польской служит тебе, государю Московскому. Твоей же дружбе с кесарем такая служба не повредит, ибо Любомирский в милости у кесаря. Иметь царскую благосклонность к сыну такого вельможи не зазорно от людей и не ново, а полякам будет страшно. Что до казны, то если послать её самому Любомирскому – большой прибыли великой России от этого не будет: злая ненависть не возросла бы. Свои ратные люди зашумят. В чужую землю казну посылают, а у себя и хлебом и деньгами скудно».
Гонец увёз ответы и вскоре был опять во Пскове. С великой милостью: государь всея Руси пожаловал Афанасия Лаврентьевича чином окольничего. У Хованского желчь разлилась. Помирать собрался и помер бы, да Ордин-Нащокин прислал ему надёжного доктора, немчуру проклятую. Вылечил!
А гонцы не унимаются, скачут туда-сюда. Новоиспечённого окольничего царь и Боярская Дума назначили великим, полномочным послом на переговоры в Смоленск с великим послом короны польской. Ордин-Нащокину надлежало сдать воеводские дела Хованскому, ехать в Москву спешно, готовить наказ своему же посольству.
Обиднее всего для Хованского было новое, преудивительное назначение выскочки, псковского поместного дворянчика: не в товарищах ехал у родовитых Одоевского, Долгорукого, сам поименован великим послом. А в товарищи ему дан, кого он, Афонька мерзкий, пожелал, – родственничек его Богдашка Нащокин.
Теснят выскочки древние роды, сам царь тому потатчик. К добру ли? Потакал Иван Грозный мелкой сошке, и вместо природных царей являлись сначала Бориски Годуновы, а потом и Гришки Расстриги{35}.
В последний день перед отъездом из Пскова пошёл Афанасий Лаврентьевич на берег Великой.
Двадцать три года тому назад отправлялся он отсюда на первую свою большую службу, на тайную службу при дворе молдавского господаря Василия Лупу. Донесения посылал через монахов Густынского монастыря самому Фёдору Ивановичу Шереметеву. В царствие Михаила Фёдоровича Фёдор Иванович Россией правил.
Всё минуло. Нет уже молдавского господаря Василия Лупу. Хитрейший был государь, но как миленький выслушивал от молодого псковича укоризны.
– Великий посол! – вслух сказал Афанасий Лаврентьевич.
Думал ли о такой доле батюшка, уча сына латыни? Окольничий, наместник шацкий... Воин пошёл бы выше. Боярства мог удостоиться. Господи, ведь умён! На пять лет вперёд видит, чему быть. И всех его чинов – беглец.
Река Великая катила холодные осенние воды под холодные небеса. За поворотом к Снетогорскому монастырю разливалась широко, серебряно. Там, за белым горизонтом, великая бескрайняя земля белого царя. И не кого-нибудь, Ордин-Нащокина позвал белый царь к великому делу.
Трепетала душа, как у молодого, дрожала потаённо, как в былые дни перед Василием Лупу, когда тот вставал и молился на Спасов образ за государя Михаила Фёдоровича, за царевича Алексея Михайловича, чтоб показать ему, Афанасию, сколь он, господарь, предан Москве. Угождал турецкому султану, крымскому хану, сердцем лепился к короне польской – и грозил пойти под руку русского царя, потому и допускал русского дворянина столь близко до себя. Жребий таков у царств, лежащих под ногами великих государей.
– Великий посол!
Если Бог даст, можно совершить дело, славное в веках, соединить вечным союзом великую Россию со свободной, с прекрасной Речью Посполитой[40]40
Речь Посполитая – официальное название объединённого Польско-Литовского государства со времени Люблинской унии 1569 г. до 1795 г.
[Закрыть]. Вот когда славяне стали бы перед Богом первыми, первее возлюбленных жидов.
...Когда Ордин-Нащокин приехал в начале ноября в Москву, наказ великому посольству был уже готов. Составил наказ Никита Иванович Одоевский. Иные статьи показались мелочными, иные – гордыней и упрямством, а одна, чуть ли не самая главная, была всему посольскому делу проруха. Боярин князь Одоевский требовал установить границу между Россией и короной польской по Бугу.
Забыл, что Правобережная Малороссия начиналась уже на другом берегу Днепра. Казачьи полки этой земли не были под булавой гетмана Брюховецкого. Правда, гетман Правобережья Павел Тетеря, измученный бесчисленными изменами полковников, не имея помощи от короля, который сам бегал от маршалка Любомирского, изнемог, потерял веру в казачество, а потому положил бунчук, булаву и уехал в Польшу пожить мирным человеком, без славы, но зато не казня себя за поражения, за голод, за погибель Украины. Булаву поднял полковник Степа Опара. Памятуя об уроках Хмельницкого, Опара тотчас призвал татар, но татар переманил на свою сторону изворотливый Петро Дорошенко. Степу схватили, заковали в железа, отправили в Польшу. Дорошенко же провозгласил себя гетманом «тогобачной» Украины. «Граница» Одоевского обещала Московскому царству не долгожданный мир, а бесконечную войну.
У Афанасия Лаврентьевича опустились руки, посостязался в бесполезном споре с дьяками Посольского приказа, ударил челом царю: допусти, великий государь, до твоего царского величества говорить о посольских делах истинную правду.
8
Не лучший час избрал великий посол для высокой беседы. Алексея Михайловича изумили. Изумили до такой небывалости, что, гневаясь, не рукоприкладствовал, не ругал ругательски всякого, кто попадался на глаза, а... хохотал. Захохочет, хохоча, побледнеет, и щёки станут серыми, как пепел. Сидит молчит – и опять в хохот.
Из тюрьмы под Красным крыльцом бежали трое колодников. Могли бы все десятеро, да совестливые посовестились. Утекли же старец Селиверст, еретик, сподвижник неистового Капитона, а с ним двое безымянных братьев – языки резаные. Братья – на вид люди степенные – зело созорничали, поколотили в церкви Дмитрия Солунского у Тверских ворот попа с дьяконом. По новым книгам служили.
Изумился Алексей Михайлович.
У царя из-под носа злодеи белым днём на волю бегут. Не потеха ли? Спиридон Потёмкин, в иноках Симеон, совсем уж умирал, а прослышал о староверах, из царской тюрьмы бежавших, – смеялся. Три дня ещё пожил, приговаривая: «Дуется наш пузырь, дуется, а всё у него некрепко, как пузо!» Кто пузырь – не говорил. Да у кого пузо-то, будто квашня, дуется?
Белел Алексей Михайлович от гнева, только с мёртвого взятки гладки – ни языка обрезать, ни руки оттяпать...
Начальники стражи в ногах валяются: не казни, грозный царь, решётку воры изнутри подпилили, в хлебе, в пирогах передали колодникам напильник. Пришлось указ написать: «Хлеб для колодников, сидящих под Красным крыльцом и под Грановитой палатой, принимая от подающих, смотреть, нет ли в нём чего. Да чтоб податели милостыни с колодниками никаких разговоров не говорили».
«Друзья» Ордин-Нащокина, мстя ему за чин окольничего, не предупредили, сколь гневен государь. Ждали, какое поношение претерпит выскочка, но Алексей Михайлович, увидав перед собой умные глаза, строгое лицо, хоть и прищурился зло, хоть и сказал срыву, да не казня, а жалуясь:
– Вот кто у меня вечно недовольный. Режь правду-матку! В моём царстве всё наперекосяк, всё дуром сляпано. Куда ни поворотись, таратуй на таратуе.
Афанасий Лаврентьевич и рад был бы убраться с глаз долой, но царь указал ему на стул:
– Садись!
Воцарилось молчание. Алексей Михайлович пыхнул:
– Пришёл, так говори!
– Великий государь! – поднялся Афанасий Лаврентьевич. – Смилуйся, не хочу тебе досаждать, но и царству твоему досадить не смею. По наказу, который составил князь Одоевский, съезжаться с поляками – только усугублять распрю, растравлять старые раны.
– Вы друг друга ненавидите, а в ответе – царь! Вам бы только неприязнь свою тешить!
– Много на мне грехов, государь, но этого – не принимаю. Зачем бы мне поносить Никиту Ивановича, зная, как ты его любишь?! Себе дороже огорчить царя, поперечить первому боярину. Грешен, но верю. Господь Бог укажет мне путь к миру.
– Ладно! Не серчай! – Алексей Михайлович ладонью вытер мокрые щёки. – Меня каждый день обижают. Терплю, терплю, да, бывает, кончится терпение... В чём ты не согласен с Никитой Ивановичем?
– Нельзя требовать от поляков установить границу по Бугу. Если посольские комиссары, изменив своему королю, согласятся на такое, так не согласны будут хан, Дорошенко и турецкий султан.
– Никита Иванович просил созвать Земский собор по польским делам.
– Собор согласится с Никитой Ивановичем, а ты, государь, готовь войско и казну. Быть войне до полного разорения что Польши, что Московского царства.
Алексей Михайлович долго смотрел в лицо великому послу.
– Царству нужен покой.
– За покой тоже надо платить.
– А казакам покой разве не надобен?
– Покой народу нужен, хлебопашцам. Казаки – не народ. Иные хуже татар. Для иных мирная жизнь – страшнее смерти. Их хлеб – грабёж, их питьё – война.
– Мне многие говорят: ты, Афанасий Лаврентьевич, не любишь Малороссии, казаков – ненавидишь.
– Я люблю всё, что полезно и выгодно моему государю. Честность в службе для меня превыше самой жизни. А можно ли верить запорожским казакам? Хмельницкий убежал от своего войска из-под Берестечка. Знал: казаки, спасая себя, не задумываясь выдадут его полякам. Как выдали Наливайко и многих, многих. Хмельницкий семь лет молил тебя, великого государя, принять погибающую Украину под великую твою руку и сам же затевал измену, сносясь тайно со шведами. Выговский продавал Москве секреты Хмельницкого, но пришёл час, и перекинулся на сторону поляков, а от поляков снова к Москве. Юрий Хмельницкий, испугавшись суровой схватки, предал несчастного Шереметева. Тетеря просил у тебя города и перебежал на сторону короля, как будто не поляки разорили до обнищания его родину. Прости меня, великий государь, я не верю Брюховецкому, не верю, что Дорошенко честно будет служить королю. Казаки – перекати-поле. Горазды слабого разорвать на части. Уважать мне их не за что. По мне, дешевле иметь их в неприятелях, нежели в друзьях. Не дрогнут ударить ножом в спину. Предают же не когда ты силён, а когда тебе нужна помощь.
У Алексея Михайловича глаза заблестели, в лице мелькнула хитринка.
– Афанасий Лаврентьевич, хочешь яблочка отведать?
– С благодарностью, государь! – Удивления скрыть не сумел-таки.
Алексей Михайлович обрадовался, хлопнул в ладоши.
– Яблок! Моих! – приказал вошедшему стольнику.
Стольник принёс татарское блюдо, на блюде горкой – яблоки. Разной величины, разного цвета.
– Отведывай от каждого понемногу, – попросил царь, подавая гостю нож.
Афанасий Лаврентьевич отведывал. Все яблоки были разного вкуса.
– Есть похожие? – спросил Алексей Михайлович.
– Нет, государь. Я не считал, сортов тридцать, должно быть...
– Тридцать три!.. – Алексей Михайлович поднял палец кверху. – Но здесь одна тайна. Угадай.
– Ума, государь, не приложу! – Афанасий Лаврентьевич принялся разглядывать яблоки. – Из твоего, государева, сада, ты сам сказал: «Моих!»
– Ты думай, думай!
Гость покраснел.
– Видно, сорта... заморские?
– Есть заморские... Ты ещё думай.
– Не знаю.
– Ну! Со скольких яблонь яблоки?
– С тридцати трёх.
Алексей Михайлович, смеясь, расцвёл, по-иному смеялся, наливаясь румянцем.
– С одного! С одного древа, друг Афанасий! Уж такой мастер у меня. Скоро ещё один приезжает... Ищи мне мастеров, Афанасий Лаврентьевич, на всякое дело ищи мастеров!
Развеселился, пробовал яблоки, жмурил глаза от удовольствия, о наказе же не помянул.
9
Побег колодников из-под Красного крыльца перепугал Алексея Михайловича. Кремлёвская стража ненадёжна, тайные враги дерзнули всей Москве напоказ помогать явным врагам. Сам сел просматривать дела неистовых в упрямстве староверов. Поразил извет вязниковского попа Василия Фёдорова, убитого неведомо где, неведомо кем, но за службу государю!
– Почему не посланы стрельцы в Вязники?! – закричал Алексей Михайлович на Дементия Башмакова. – Всех еретиков сыскать, воровские скиты разорить. Да глядите мне! Вы прыткие ноздри рвать, руки сечь! Заблудших православных людей, не делая им дурна, всячески увещевайте, уж коли будут прекословить, хулы пускать, тогда, смотря по неистовству, кого в Сибирь, кого в тюрьму, кого и сжечь...
Государев гнев подхлестнул медлительную колесницу следствия. Сыск по делу старца Капитона царь возложил на судью Разбойного приказа боярина Ивана Семёновича Прозоровского, дьяка Приказа тайных дел Фёдора Михайлова, полковника, стрелецкого голову Артамона Матвеева. В Вязники поехали двенадцать стрельцов его приказа, потом ещё двадцать...
Лист за листом прочитал Алексей Михайлович доносы на старца Григория Неронова.
Неронов подбивал умудрённых грамоте монахов, белое духовенство готовиться к собору вселенских патриархов, писать о погублении Никоном истинного православия, да не истощится Крест Христов.
О Неронове Алексей Михайлович советовался со Ртищевым.
– Много от него досады в Москве, – согласился Фёдор Михайлович. – Сам себе избрал для молитв Игнатьев монастырь на Лому. Там бы ему и жить!
– Отвезти старца Григория в пристойной для его седин карете в Вологду, до самого Спасского Игнатьева монастыря, – распорядился Алексей Михайлович. – Пусть знают: государь своих обидчиков не казнит – жалует. Фёдор Михайлович, ну скажи, разве я не терпелив?
– Таких терпеливых, как ты, великий государь, Господь раз в сто лет посылает.
– Батюшка Михаил Фёдорович был терпеливей меня. Кроткая, ласковая душа. Я ведь на руку, сам знаешь, скор! Иной раз в храме Божьем бездельника попа тресну.
– Так поделом!
– Поделом-то поделом... Пускай Неронов едет в пустынь свою, от греха. Всё бы им царю перечить! – Алексей Михайлович сделался красным, как варёный рак, – обиделся. С обидою брал в руки очередное дело – дьякона Фёдора[41]41
С обидою брал в руки очередное дело – дьякона Фёдора, — Фёдор (Иванов), писатель, диакон московского Благовещенского собора. Сначала тайно придерживался старообрядчества, но потом был уличён в принадлежности к расколу и осуждён собором 1666 – 1667 гг., лишён языка, сослан в Пустозерск, где в 1681 г. сожжён.
[Закрыть].
В Благовещенском соборе служил, в Успенском, человек зело книжный, греческий язык выучил. Если бы для пользы церковной! Ради распри – ловить греков на слове. На весь белый свет срамил новые книги, посылая письма в Вятку, в Сибирь, в Переславль-Залесский... Навострился в Мезень грамотки закидывать, протопопу Аввакуму.
– Какого он роду-племени? Откуда взялся? – спросил царь Дементия Башмакова, хотя сам принял Фёдора в Благовещенскую церковь за громадный голос, за учёность. Было это на другой год после ухода Никона с патриаршего места. Привёл дьякона отец Михаил, поп домашней дворцовой церкви. Близкие люди восстают. Хорошо кормленные, знающие царскую ласку.
Дементий Башмаков принёс государю запись о Фёдоре. Отец и дед – попы, служили в селе Колычеве, в Дмитровском уезде. В моровое поветрие, когда народ вымер, Фёдора обманно записали крестьянином. Управляющий Якова Одоевского расстарался. Заступников поп Михаил нашёл, Фёдор его матушке племянник. В московских церквах потом служил... Дивное дело! Ростом Фёдор не больно велик, живота тоже не много, а запоёт – воздух дрожит.
– Смотрите за дьяконом в оба глаза! – приказал Башмакову Алексей Михайлович. – До приезда патриархов искоренить бы упрямство...
Не успел государь от побега колодников в себя прийти – новые тревоги.
Вернулся из Константинополя Стефан Грек, привёз три патриаршие грамоты: от константинопольского Дионисия, от иерусалимского Досифея, от александрийского Паисия, и все три о назначении газского митрополита Паисия Лигарида экзархом для суда над святейшим Никоном.
Стефан Грек прибыл в Москву на Иоанна Милостивого, 12 ноября, а уже через день Алексей Михайлович позвал к себе наверх архиереев, своих и иноземных. Стефан представил для освидетельствования патриаршие грамоты. Государь был печален: Паисий Лигарид, получив власть, Никона осудит, низвергнет из патриаршего достоинства, но его суд, пусть экзарший, – суд низшего над высшим. Никон такого суда не признает, смуты не убудет.
Все ждали, что скажет иконийский митрополит Афанасий. Тот осмотрел грамоту за грамотой, подошёл к иконам, поцеловал образ Спаса и объявил:
– Все три поддельные!
Лигарид в ярости ударил посохом, как палкой, об пол, закричал на Афанасия по-гречески:
– Скотина! Уймись, скотина! Обещаю тебе, будешь бит, как худший из ослов!
Греки подняли крик, не сразу вспомнили, где они и перед кем. Умолкли наконец, усовестились.
– Пока отложим наше дело, – мрачно сказал Алексей Михайлович. – До поры. Великий суд великим шумом негоже вершить.
Иконийского митрополита, однако, отправили в Симонов монастырь, на успокоение: обвинять во лжи доверенных людей царя – то же, что усомниться в честности самого царя...
Только трое знали, до какой поры отложил дело Алексей Михайлович: сам он, его духовник да дьяк Приказа тайных дел Дементий Башмаков.
Государь ждал возвращения с Востока Саввы – келаря Чудова монастыря, посланного проследить за Стефаном и Мелетием.
Церковные дрязги довели Алексея Михайловича до немочи. Слёг. Но царское тайное дело делалось, далеко достигала рука самодержца.
Ещё по старому доносу на попа Лазаря, на попа Дементьяна, на поддьяка Фёдора Трофимова, живших в ссылке, указал великий государь из Сибири их взять, отвезти в Пустозерский острог: «за неистовое прекословье».
В Вятку за игуменом Феоктистом отправилась сыскная команда. Феоктист был игуменом Никольского монастыря в Переславле-Залесском, новые служебники не принял. Изболевшись душой, покинул самовольно братию, уехал к епископу Александру, жил в Трифоно-Успенском монастыре, в одной келье с родным братом, иноком Авраамием. В Вятке Феоктиста не нашли, не нашли и в Игнатьевской пустыни у Неронова. Царские ловцы до ловли охочие, настигли Феоктиста в Великом Устюге, в Архангельском монастыре, у другого брата. В загонщиках и ловцах были архимандрит московского Новоспасского монастыря Иосиф, келарь Симонова монастыря Иосиф Чирков, стрелецкий полуголова Карандеев. У Феоктиста нашли сочинение Аввакума о поклонах, четыре собственные челобитные к царю и среди них «Роспись, хто в которые во владыки годятца». И ещё письмецо дьякона Благовещенской царёвой церкви Фёдора. Сообщал: грамота с прошением вернуть протопопа из Мезени «не пошла». «Подавал я духовнику Лукьяну Кирилловичу челобитную об Аввакуме, о свободе, и он в глаза бросил с яростью великою. Да послал я к тебе от Аввакума грамотку, его руку».
За сие совсем не крамольное послание Фёдора взяли под белые руки, отвели во двор Павла Крутицкого. Книги для досмотра отдали самому владыке Павлу, а письма и сочинения пошли в Приказ тайных дел.
В Суздале был схвачен и доставлен в Москву поп Никита Добрынин. Привезли вместе с челобитной. Писал свою челобитную Никита десять лет, правду хотел сказать о церковных новшествах Никона. Писал, писал и не дописал...
В Вязники искать Капитона, вести сыск об убийстве попа Василия Фёдорова на подмогу трём десяткам стрельцов из приказа Артамона Матвеева отправился полковник и голова московских стрельцов Аврам Лопухин с двумя сотнями.
В Керженские леса, за Волгу, разорить скиты старца Ефрема Потёмкина поспешила ещё одна стрелецкая команда.
На Соловки царское повеление подчиниться церковным новинам повёз архимандрит Спасо-Ярославского монастыря Сергий «с товарищи».
Послал и в Мезень гонца: Аввакума доставить в Москву для последнего, ради вселенских патриархов, увещевания.
Спешил государь прибраться в Доме Господа, ожидал-таки великих гостей.
Тут как раз воротился из тайного путешествия келарь Савва. Убил Савва Алексея Михайловича! Убил, убил! Стефан Грек, правая рука Паисия Лигарида, – блудня. Все его грамоты о назначении митрополита газского патриаршим экзархом в суде над Никоном – поддельные.
На вопрос Саввы: «Был ли у тебя Стефан Грек, посылал ли ты с ним грамоту?» – святейший Дионисий ответил: «Стефан Грек у меня не был. Докучал мне хартофилаксий, хотел, чтоб я написал грамоту: быть-де газскому митрополиту экзархом, но я этого не благословил. Если такая грамота объявилась у царя, пусть знает: сие – плевелы, посеянные хартофилаксием, Паисий Лигарид – лоза не константинопольского престола. Я его православным не называю, ибо от многих слышу, что он папёжник, лукавый человек. Стефана Грека пусть государь не отпускает, он сделал великое разорение Православной Церкви, как и Афанасий Иконийский».
Алексей Михайлович, слушавший Савву с упавшим сердцем, аж подпрыгнул на стуле.
– Как?! Афанасий? Правдолюбец? Такой же... вор?
– На нём случился большой долг туркам. Упросил дать недельный срок для уплаты, а сам бежал. Святейший Дионисий так сказал: «Я Афанасию ни одного слова наказа не давал. Пусть его держат крепко. Если царь его отпустит, то большую беду Церкви сделает».
– Почему Дионисий так немилостив к своему племяннику? – удивился Алексей Михайлович.
– О родстве я тоже спрашивал, – сказал Савва. – Святейший об Афанасии сказал: он мне не родня. По крови, верно, не родня, но брат Афанасия женат на тётке Дионисия.
Одно порадовало царя: грамоты, привезённые иеродиаконом Мелетием, – подлинные. Афанасий своровал, уличая в подлоге честного человека, но – горе! – не ошибся в подлоге Стефана. Лигарид же изобличён во лжи и в папёжестве самим константинопольским патриархом.
Ждали ареста газского митрополита. Не дождались. Не всякая правда надобна царям, не всякий вор – царям неугоден.