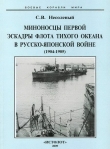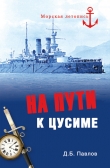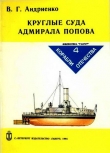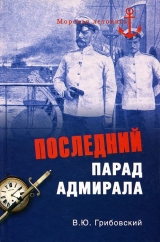
Текст книги "Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского"
Автор книги: Владимир Грибовский
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Так, только что пришедший из Кронштадта в Ревель броненосец «Орел» уже через три дня участвовал в эскадренном учении – ночном отражении минной атаки. Результаты учения даже на флагманском броненосце вызвали обоснованные нарекания командующего эскадрой. Что же касается «Орла», то там ночная тревога явилась полной неожиданностью. «Некоторые из матросов, – писал позднее А. С. Новиков–Прибой, – в особенности новобранцы, находясь под влиянием разных слухов о близости японцев, думали, что началось настоящее сражение. Слышались бестолковые выкрики. Офицеры ругали унтеров, а те толкали в шею рядовых Много минут прошло, пока на броненосце водворился некоторый порядок. Забухали и наши 75–миллиметровые пушки» [96] 96
Новиков–Прибой А. С. Цусима. Т. 1. Москва: Андреевский флаг. 1993. С. 46
[Закрыть].
Сам Зиновий Петрович был недоволен запросами адмиралов Е. И. Алексеева и Н. И. Скрыдлова, которые, находясь на Дальнем Востоке, хотели вмешаться в управление эскадрой. Беспокоили командующего и текущие проблемы с личным составом – для укомплектования его кораблей были выделены, кроме балтийцев, матросы из черноморских экипажей, а также инструкторы–комендоры из Учебно–артиллерийского отряда. Последнее было весьма отрадным. Но в командах кораблей имелись также запасные, новобранцы и так называемые штрафованные, элемент весьма ненадежный, хотя и разнообразный по своим достоинствам. Как ни странно, но более всего «нетчиков» – то есть не вернувшихся из увольнения на берег или даже дезертиров – было из «избранной» команды «Императора Александра III» [97] 97
См. РГАВМФ. Ф. 417. Он. 4. Д. 6804. Л. 21–36
[Закрыть], носившей красные погоны Гвардейского экипажа. Впрочем, дезертирство не носило массового характера.
Среди офицеров эскадры было много молодежи, но в целом она была сравнительно полно укомплектована как флотскими офицерами, так и инженер–механиками, а также кондукторами. На назначение младших флагманов и командиров судов З. П. Рожественский мог повлиять лишь в ограниченной степени. Так, контр–адмирал О. А. Энквист, при весьма скромных достоинствах, был родственником Ф. К. Авелана. Часть командиров имела хорошую «протекцию». В то же время
среди флагманов и командиров эскадры (считая и посланный потом отряд Н. И. Небогатова) было много опытных людей, служивших ранее под командой Зиновия Петровича.
Их молено было отнести к его «товарищам и ученикам», как позднее В. И. Семенов назвал флагманов и командиров японского флота адмирала Того. Среди близких знакомых командующего были адмиралы Д. Г. Фелькерзам и Н. И. Небогатов, командиры кораблей Б. А. Фитингоф («Наварин»), А. А. Родионов («Адмирал Нахимов»), В. Н. Миклуха («Адмирал Ушаков»), Н. Г. Лишин («Генерал–адмирал Апраксин»), С. И. Григорьев («Адмирал Сенявин»). Все они служили под командованием Зиновия Петровича в Учебно–артиллерийском отряде. Капитан
1–го ранга Л. Ф. Добротворский («Олег») в 1895–1896 гг. был старшим офицером – ближайшим помощником З. П. Рожественского, командовавшего крейсером «Владимир Мономах». Большинство других русских командиров в командном стаже не уступали японским. Так, еще до назначения на 2–ю эскадру Тихого океана капитаны 1–го ранга В. И. Бэр («Ослябя»), П. И. Серебрештков («Бородино»), Н. М. Бухвостов («Император Александр III»), Е. Р. Егорьев («Аврора»), Н. В. Юнг («Орел»), М. В. Озеров («Сисой Великий»), И. Н. Лебедев («Дмитрий Донской») имели опыт самостоятельного командования кораблями I ранга в длительных морских и океанских плаваниях.
Почти 10–месячная кампания под флагом З. П. Рожественского в походе 2–й эскадры на Дальний Восток для этих людей была более чем достаточной для достижения взаимопонимания.
На флагманском броненосце был прекрасный оркестр, руководимый вольнонаемным капельмейстером Александром Дитшем. Из 18–го флотского экипажа по просьбе командующего, раздраженного бестолковостью вестовых и съездом на берег вольнонаемного повара (не выдержал?), 26 сентября был отправлен в Ревель прежний и любимый вестовой Петр Пучков [98] 98
См. Там же. Д. 5690. Л. 473,496.
[Закрыть]. Он прибыл без замечаний благодаря распорядительности К. К. де Колонга и любезности А. Г. Нидермиллера. Наконец, на госпитальном судне «Орел» эскадру сопровождала старшая сестра милосердия госпожа Сивере, дама, любезная адмиральскому сердцу [99] 99
См. Новиков–Прибой А. С. Указ. Соч. С. 300.
[Закрыть]. Правда, адмирал в письмах жене отрицал всякие на сей счет вздорные слухи, но Ольга Николаевна оставалась в Санкт–Петербурге, а ее «старый Зеня» (выражение из письма З. П. – В. Г.) уходил за многие тысячи миль от столицы.
В общем, нельзя однозначно утверждать, что командующий был обречен на неудачу с негодными средствами при недостатке хороших помощников и исполнителей его воли. Тем более, что надежды на него возлагал и сам Николай II, учинивший в конце сентября в Ревеле императорский смотр эскадры.
Смотр начался солнечным воскресным днем 29 сентября. Позавтракав на «Штандарте», Николай II на паровом катере отправился на корабли и последовательно посетил броненосцы «Ослябя», «Орел», «Бородино», «Князь Суворов» и «Император Александр III». С флагманского корабля царь и его свита наблюдали специально подготовленные взрывы контрмин. На следующий день Николай II осмотрел девять миноносцев в порту, а на рейде – $1Сисой Великий», «Светлану», «Алмаз», «Аврору», «Жемчуг», «Дмитрий Донской», «Наварин», «Адмирал Нахимов», а также вторично – «Князь Суворов» и «Император Александр III».
По свидетельству А. С. Новикова–Прибоя, тогда – баталера на броненосце «Орел», на кораблях император довольно невыразительно «..лризывал нас отомстить дерзкому врагу, нарушившему покой России и возвеличить славу русского флота.» Далее писатель дает яркое описание внешности командующего эскадрой: «Здесь же находился и Зиновий Петрович Рожественский, облаченный в полную свитскую форму… Массивные плечи его горели серебром контр–адмиральских эполет с вензелями и черными орлами. Широкая грудь сверкала медалями и звездами. Брюки украшали серебряные лампасы. От левого плеча наискось к поясу перекинулась через грудь широкая анненская лента, переливаясь алым цветом шелка, а с правого плеча свисали витые серебряные аксельбанты. Своей могучей фигурой он подавлял не только царя, но и всех членов свиты. В чертах его сурового лица, обрамленного короткой темно–серой бородой, в твердом взгляде черных пронизывающих глаз запечатлелось выражение несокрушимой воли. Против своего обычая упрямо склонять голову, сейчас он сосредоточенно смотрел на царя, прямой, монолитный, как изваяние, и такой самоуверенный, что, казалось, никакие преграды не остановят его замыслов» [100] 100
Новиков–Прибой А. С. Указ. соч. Т. 1. С. 48.
[Закрыть].
Внешность и манеры Зиновия Петровича тогда на многих произвели сильное впечатление. Вот как описывает его младший помощник судостроителя В, П. Костенко, первый раз прибывший но вызову на «Князь Суворов» со своего «Орла» еще 28 августа в Кронштадте: «При первой встрече с ним каждого поражает выражение суровой и властной воли в чертах его сосредоточенного, никогда не улыбающегося лица, в стальном пронизывающем взгляде и в твердой отрывистой речи. Его манера говорить краткими и четкими выражениями внушает представление о нем как о человеке, который знает, куда идет, чего желает добиться и не свернет с намеченного пути. Его высокий рост и статная худощавая фигура усиливает это впечатление: он на голову возвышается над окружающими…»
После представления корабельных инженеров адмиралу их собрал флагманский корабельный инженер Е. С. Политовский, который « … охарактеризовал Рожественского, как человека необыкновенной работоспособности и исключительных организаторских качеств. Адмирал входит во все детали снаряжения эскадры к походу. На нем также лежит тяжелая задача боевой подготовки и обучения личного состава эскадры, который еще представляет собой совершенно сырой материал для войны..» [101] 101
Костенко В. П. На «Орле» в Цусиме. 2–е изд. А, Судостроение, 1968, С. 133–134.
[Закрыть]
Да, задача снаряжения эскадры, порученная Зиновию Петровичу, и сейчас представляется грандиозной. Новейшие корабли эскадры спешно заканчивали испытания одновременно с приемкой боезапаса, запасных частей и всех видов снабжения, более старые корабли ремонтировались и вооружались для плавания. При этом надо отметить, что уровень технической оснащенности 2–й эскадры был выше, чем 1–й Тихоокеанской эскадры, и тем более Учебно–артиллерийского отряда Балтийского флота. Необходимость многих усовершенствований была очевидна еще до войны, но тогда она осталась вне поля зрения ГМШ, в том числе и самого Рожественского.
Так, все броненосцы и крейсера эскадры получили горизонтально–базисные дальномеры Барра и Струда (подобные бывшим в японском флоте, база —1,2 м.), оптические прицелы системы капитана Перепелкина для орудий калибров 75 мм. и выше, а чугунные снаряды в боекомплекте были заменены на стальные фугасные. Бронебойные снаряды, правда, только 152–мм. калибра (и то хорошо!) наконец‑то снабдили наконечниками системы адмирала Макарова.
Однако опыт текущей войны в техническом отношении был учтен лишь в ничтожный степени. Это было неизбежным следствием второстепенного положения обезглавленного ГМШ и неповоротливости Морского технического комитета, который возглавлял вице–адмирал Ф. В. Дубасов. Единственным новшеством по опыту боев с японцами стало оборудование рубок 51–мм. горизонтальными козырьками, расположенными вокруг вертикальной брони ниже прорези и предназначенными для отражения осколков снарядов. Однако, как показали последующие события, это «улучшение» не гарантировало безопасности командования: козырьки не выдерживали разрывов, а их куски вместе с осколками сами залетали в боевые рубки и калечили людей.
На все большие корабли установили радиостанции системы Сляби–Арко германской фирмы «Телефункен» с контрактной дальностью действия не менее 100 миль. Впервые в нашем флоте радиостанции были установлены также на миноносцах. Несмотря на некоторое техническое несовершенство и недостаточную освоенность личным составом, такое радиовооружение предоставляло большие возможности для управления силами. Осталось эти возможности использовать…
Кроме техники командующий занялся комплектованием судов личным составом Здесь тоже были проблемы, начиная от поведения Н. П. Куроша до дезертирства и неявки отдельных матросов. Но, как уже говорилось выше, эскадра была укомплектована достаточно полно и, что важно отметить, полнее эскадры Тихого океана к началу войны. Личный состав, конечно, следовало доучить и сплотить, но для этого было отпущено вперед немало времени.
Много энергии у командующего отнимали текущие дела, связанные с сосредоточением кораблей и вспомогательных судов эскадры. Так, в конце сентября вооруженный в Либаве военный транспорт «Иртыш» при входе в Ревель мелководным Суропским проходом коснулся мели и получил сильную течь. Здесь не было вины командира «Иртыша» капитана 1–го ранга К. Л. Ергомышева или его старшего офицера лейтенанта П. П. Шмидта (весьма опытных в морском деле офицеров). Наоборот, именно этот рискованный маршрут был назначен флагманским штурманом полковником В. И. Филипповским, прибывшим на борт транспорта у о. Нарген. Возможно, что флагманский штурман передал распоряжение командующего, которое не следовало обсуждать…
Получив доклад о пробоине и видя беспомощность буксиров, пытавшихся ввести «Иртыш» в гавань, Зиновий Петрович сам прибыл на транспорт. «Он быстро поднялся на мостик, – вспоминал позднее служивший на «Иртыше» мичманом Г. К. Граф [102] 102
См. Граф Г. К. Моряки, Париж, 1930. С. 137–138.
[Закрыть], – и стал сам распоряжаться, но от этого дело не пошло скорее……. «Чем втаскивание шло медленнее, тем адмирал все больше выходил из терпения и сильнее выражал недовольство: то и дело слышалась ругань и проклятия, и это всех терроризировало. Только к 12 часам ночи «Иртыш» окончательно втянули в гавань, и адмирал уехал, а мы, измученные и подавленные, спустились в кают–компанию…»
«Иртыш» пришлось поставить в ремонт, и злополучный транспорт догонял эскадру в пути. Перед этим вспомогательный крейсер «Дон» опрокинулся в сухом доке порта Императора Александра III. Правда, Зиновия Петровича там не было, и он не смог продемонстрировать свой гнев и красноречие. К тому же вооружение вспомогательных крейсеров оставалось в ведении контр–адмирала великого князя Александра Михайловича Однако, снаряжая эскадру, З. П. Рожественский свел на нет половину усилий августейшего коллеги. По его представлению операции на морских и океанских коммуникациях Японии силами вспомогательных крейсеров были свернуты, чтобы не обострять отношения с нейтральными державами (Англия, Германия, США) на время перехода эскадры.
При снаряжении эскадры ее матросы и офицеры не испытывали недостатка во внимании августейших особ. Император неоднократно посещал корабли и увенчал проводы описанным выше смотром на Ревельском рейде. Еще в Кронштадте Николай II и императрица Александра Федоровна «всемилостивейше соизволили пожаловать» на все суда священные иконы и собственного Александры Федоровны изготовления воздухи (покрывала) для церковных сосудов. Зиновий Петрович не преминул объявить об этом в приказе по эскадре (№ 32 от 28 августа 1904 г.). «Их Императорским Величеством ведомо, – писал адмирал, – что все чины эскадры от мала до велика пламенеют единым желанием положить свою душу на защиту чести народа во славу Государя и в утешение любвеобильному сердцу Царицы. Примите же товарищи благословение Царское, как освященный залог исполнения Ваших желаний».
17 сентября в Ревеле корабли эскадры объезжала мать императора – вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая не успела посетить транспорты «Иртыш», «Анадырь» и 7 миноносцев. Офицерам и командам этих судов в особом приказе (№ 66) объявлялись «напутствие Ея Величества благословения» и пожелание счастливого плавания и благополучного возвращения.
Зиновий Петрович, несомненно, был польщен столь пристальным вниманием царской семьи. Но здесь надо заметить, что это внимание, в том числе и со стороны генерал–адмирала, ограничивалось визитами, пожеланиями и дарением икон. Без всякого контроля за снаряжением, хотя великий князь Алексей Александрович был здесь главным ответственным лицом и мог решить с Николаем II любой вопрос. Безразличие высоких лиц флота и государства, как всегда, позволили тыловикам сэкономить на мелочах. Главное управление кораблестроения и снабжений (ГУК и С) умудрилось столь точно рассчитать сроки носки формы одежды, что нижние чины износили все свое обмундирование уже на полпути к театру военных действий и стали напоминать оборванцев.
Экономия на матросских штанах и обуви выглядела ничтожной в сравнении со стоимостью боезапаса, а последнего было отпущено с превышением на 20 % основного комплекта для всех калибров, кроме 10– и 12–дюймового. Для крупных орудий, впрочем, имелось достаточно практических снарядов и зарядов (главная норма) [103] 103
См. РГАВМФ. Ф. 763. Oп. 1. Д. 321. Л. 108.
[Закрыть]. На броненосцы «Сисой Великий», «Наварин» и крейсер «Светлана» добавили по четыре 75–мм. пушки. Вообще, главные силы эскадры по вооружению выглядели солидно: семь броненосцев З. П. Рожественского имели 28 орудий только крупного (254 мм. и выше) калибра против 17 таких же пушек на линейных кораблях адмирала Того Хейхатиро. При рациональном использовании артиллерия русских кораблей могла нанести серьезные потери противнику, а в эскадренном сражении в открытом море она могла сыграть и решающую роль при разумном сочетании ее огня с огнем орудий среднего калибра и стрельбой минами Уайтхеда с больших судов и миноносцев. Нельзя сказать, что Зиновий Петрович не думал о встрече с противником В письмах из Ревеля, адресованных Капитолине Николаевне Макаровой, он, в частности, утверждал: «…Не могу ни о чем думать теперь и живу только одним желанием победить. Это желание выше сил моих… Разговор о Чухнине (в столице ходили слухи о замене З. П. вице–адмиралом Г. П. Чухниным – В. Г.) по–видимому, праздный. Это значило бы – не посылать эскадры вовсе. Кроме меня никто не может повести ее в ближайшем будущем..» [104] 104
См. РГАВМФ. Ф. 17. Л. 90–91, 94.
[Закрыть]
Интересно, что в начале войны З. П. Рожественский писал жене своего прежнего начальника, что сам сделал все возможное для назначения С. О. Макарова командующим флотом в Тихом океане, – надо было «спасать остатки флота». Теперь же, когда вице–адмирал Макаров пал на поле брани, складывалось впечатление, что Зиновий Петрович не только не служил под флагом покойного, но даже не имел понятия о творческом наследии и достижениях этого выдающегося флагмана рубежа XIX‑XX вв.
Так, в период командования флотом С. О. Макаров успел ввести в действие «Инструкцию для похода и боя» с приложением однофлажных сигналов (впервые в истории нашего флота) и инструкции по управлению огнем. Подлинники этих документов сгинули с «Петропавловском», на кораблях эскадры сохранились многочисленные копии. Если говорить коротко, то макаровская «Инструкция…» представляла собой прообраз современного боевого устава, а сигналы – прообраз первой части свода боевых эволюционных сигналов. Макаров предусматривал активные формы боя, основанные на раздельном, но согласованном маневрировании отрядов броненосцев, крейсеров и миноносцев с использованием легко читаемых однофлажных сигналов (позволяли быстро совершать перестроения) и не исключал возможность залповой пристрелки в эскадренном сражении.
На 2–й эскадре Тихого океана была принята только двухфлажная сигнальная книга, с испытаниями которой мучились почти все предвоенное десятилетие (на замену трехфлажной), и наконец приняли ее незадолго до начала войны. Маневрирование по двухфлажным сигналам было хорошо для мирного времени, так как эти сигналы требовали значительного времени для набора и разбора.
Правила стрельбы – «Организация артиллерийской службы на судах 2–й эскадры Тихого океана» (приказ № 5 от 8 июля 1904 г.) [105] 105
См. Сборник приказов и циркуляров по 2–й эскадре Тихого океана.. С. 41–65.
[Закрыть]явно тяготели к устаревшим документам МТК 90–х гг. XIX в. Они предусматривали, в частности, пристрелку одиночными выстрелами назначенного для этой цели плутонга и показание установки прицела своего первого выстрела передним мателотом, чтобы этой установкой воспользовались следующие за ним корабли. При принятой системе сигнализации для всего этого требовалось драгоценное время, которого, как показал опыт войны, не хватало в условиях эскадренного боя больших линейных кораблей, маневрирующих на скорости около 15 уз. и стреляющих на расстояние 50–70 кбт.
Впрочем, «Организация артиллерийской службы…» была довольно подробно разработана, что свидетельствует о глубине технических и организационных познаний ее автора – подполковника Ф. А. Берсенева. Однако в ней не видно глубины тактической мысли, а также следов анализа опыта войны. Утвердивший эти правила З. П. Рожественский, в отличие от «техника» Ф. А. Берсенева, мог бы довести «Организацию…» хотя бы до уровня правил, утвержденных С. О. Макаровым, но этого не сделал.
Архаичными оказались и труды флагманского минного офицера лейтенанта Е. А. Леонтьева, также отданные приказами Зиновия Петровича по эскадре. Здесь и детальная «Организация сторожевой службы и отражения минных атак с судов при якорной стоянке эскадры на незащищенном рейде», и «Схема организации работ по очистке проходов от мин заграждения». Первый документ предусматривал создание «непрерывной световой преграды» боевыми фонарями броненосцев, а второй – траление минными катерами и шлюпками. Все это уже было отметено опытом войны: во избежание минных атак лучше всего было соблюдать полное затемнение, а минные катера не выгребали против волны даже на внешнем рейде Порт–Артура В минные погреба в носовой части броненосцев были загружены контрмины, хотя наличие там большого количества боезапаса уже стало причиной гибели «Петропавловска» и «Хацусе».
Всему этому удивлялся капитан 2–го ранга В. И. Семенов, преодолевший тысячи километров от Сайгона до Либавы, чтобы принять участие в переходе 2–й эскадры [106] 106
См. Семенов В. И. Расплата СПб: Гангут, 1994. С. 275–286.
[Закрыть].
Его появление на эскадре представлялось очень важным: прибыв в Порт–Артур вскоре после начала войны, Владимир Иванович принимал участие в боевых действиях командиром миноносца «Решительный», старшим офицером крейсера II ранга «Ангара» и крейсера I ранга «Диана», на котором бился с японцами в сражении 28 июля 1904 г. в Желтом море.
Семенов вначале был принят на эскадру как бы сверх штата и оформлен на должность флагманского штурмана, а потом – начальника военно–морского отдела штаба командующего. Сам он скромно именовал себя «пассажиром» – офицером без определенных обязанностей.
«Ничего, что у вас нет определенного занятия, – успокаивал его З. П. Рожественский, – вы нам много поможете своими рассказами о том, что и как было, как и что вышло. Наши на вас так насядут, так вам придется работать языком, что ни о какой другой работе и не подумаете!»
Однако «наши» (то есть офицеры штаба – В. Г.) не насели, а смотрели на Семенова настороженно. Сам же адмирал, хотя и «всецело отдавался», по воспоминаниям Владимира Ивановича, «мысли и заботе об успешном ходе военных действий», не нацелил работу штаба на изучение боевого опыта и не потрудился сплотить своих ближайших помощников.
Вообще, если Зиновий Петрович и проводил совещания, то в форме указаний, и, как правило, не допускал обмена мнениями и каких‑либо обсуждений. В отличие от своего одноклассника по Морскому училищу, погибшего адмирала В. К. Виттефта, он не терпел коллегиальных решений. Конечно, Вильгельм Карлович Виттефт был далек от идеала военного вождя, но Зиновий Петрович явно впадал в другую крайность.
По мнению командующего, наибольшую ценность в его штабе представлял присланный Н. Л. Скрыдловым капитан 2–го ранга Н. Л. Кладо, с которым В. И. Семенов враждовал как очно, так и заочно (в печати). Но Кладо следовало отправить обратно во Владивосток, а его беседы с Зиновием Петровичем велись наедине и остались в тайне. Известно лишь, что Кладо информировал адмирала о минных заграждениях и о том, что адмирал Н. Л. Скрыдлов не вышлет навстречу эскадре два уцелевших крейсера Владивостокского отряда – «Россию» и «Громовой».
28–29 сентября 1904 г. эскадра перешла из Ревеля в Либаву, последнюю «родную» базу перед уходом из России в дальний путь на Восток. Здесь корабли спешно принимали недостающие запасы и готовились к океанскому плаванию. Письменных инструкций Зиновий Петрович так и не получил. На секретном совещании в Петергофе, где решился вопрос о походе, целью эскадры определили достижение Порт–Артура для совместных действий с 1–й Тихоокеанской эскадрой, которые должны были привести к овладению морем [107] 107
См. Русско–японская война Действия флота Документы, отд. IV. Кн. 3. Вып. 5, Петр., 1914, С. 302.
[Закрыть].