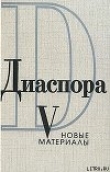Текст книги "Русский Египет"
Автор книги: Владимир Беляков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Глава 16
Татьяна, русская душою

Я подружился с супругами Дебоно. Регулярно приезжал в их уютный домик в Гелиополисе. Тем для разговоров оказалось предостаточно. Старики живо интересовались нашей страной, выслушивали рассказы о русских в Египте, добавляя в них неизвестные мне детали. Иногда я заставал у них и других гостей – обычно, как и они, иностранцев, выросших в Каире. И тогда разговоры особенно затягивались.
В марте 1991 года я познакомился в доме у Дебоно с доктором Роем Шедиаком. Известный хирург и большой любитель истории, доктор Рой, наполовину итальянец, наполовину сириец, горячо одобрил мою идею написать книгу о русских в Египте. А потом сказал:
– Между прочим, я знаю одну русскую женщину. Ее родители были эмигрантами. Она замужем за итальянцем и живет в Александрии. Зовут ее Татьяна Монти. Хотите с ней встретиться?
Я ответил, что, конечно, хочу. Ведь за все годы поисков мне так и не удалось найти ни одного из соотечественников, если не считать доктора Бромберга, для которых Египет стал родной страной. Доктор Рой обещал позвонить и дать телефон мадам Монти. Но уже на следующее утро в корпункте раздался междугородний телефонный звонок.
– Можно поговорить с мистером Беляковым? – спросил женский голос по-русски.
– Да, я слушаю.
– Это Татьяна Монти. Вы интересовались мною?
Да, конечно, я очень интересовался, и мы тут же договариваемся встретиться завтра в Александрии, в холле гостиницы «Сесиль» в центре города.
В гостиницу я вхожу минут за восемь до назначенного времени. Оглядываю холл. В углу у окна сидит за столиком немолодая красивая блондинка. Помедлив мгновение, я направляюсь к ней.
– Мадам Монти?
– Да, как это вы сразу меня узнали! Видно, есть что-то в нас, русских, особенное.
Присаживаюсь за столик, заказываю подошедшему официанту две чашки кофе.
– Простите, как ваше отчество?
– Татьяна Николаевна. А ваше?
– Владимир Владимирович.
– Ну что ж, Владимир Владимирович, задавайте вопросы. Я готова на них ответить.
– Расскажите, пожалуйста, сначала о вашей семье, о том, как она попала в Египет.
– Я из семьи военных, – отвечает Татьяна Николаевна. – И папа, и дедушка были офицерами и помещиками. Папа, Николай Михайлович Сериков, он родом из Киева, был одним из первых в России военных летчиков. У меня сохранились его кожаный летный шлем, его меховые перчатки. Вот, посмотрите. – Мадам Монти достает из пакета семейный альбом, раскрывает его. – Папа в самолете.
Снимок мелкий, лицо пилота не разглядеть, а вот одномоторная фанерная «этажерка» вышла хорошо.
– Мама – урожденная Андриевская, – продолжает рассказ Татьяна Николаевна. – Отец ее был генералом, семья переезжала из одного гарнизона в другой. Родилась мама в Тифлисе. В Египет попала со своими родителями, ей было тогда лет восемнадцать.
С маленькой фотографии на меня смотрит удивительно красивая девушка с копной темных волос и большими темными же глазами. Такой была Ольга Андриевская семьдесят лет назад.
– Маминым родителям Египет сразу не понравился, как только они подплыли к нему на пароходе. Низкий песчаный берег, зелени никакой… Они привыкли к другому пейзажу. Но делать нечего, поселили их в лагере, в Телль аль-Кебире. Там мама и познакомилась с папой. Он был лет на семь ее старше.
Мадам Монти показывает небольшую картину – масло на картоне. На переднем плане – два ряда армейских палаток, разбитых у железнодорожного полотна, а за ними – южная зелень. Внизу надпись по-французски: «Сувенир из Телль аль-Кебира. Женская часть русского лагеря. 20.06.1920. Ф. Рерберг».
– Вот так выглядел лагерь, – поясняет она. – Когда мамина семья выбралась оттуда, бабушка с дедушкой уехали во Францию. А мама осталась. Работала гувернанткой в арабской семье. Папа же устроился шофером к какому-то вельможе. Вскоре они поженились.
– Когда я была маленькой, – продолжает свой рассказ Татьяна Николаевна, – в Александрии жили почти две тысячи русских эмигрантов. Детство мое было просто каким-то волшебным. Сказки, игрушки, традиции, праздники… Вместе с группой других русских родители сняли виллу с большим садом. Жили там человек десять, причем никто из них не был нам родственником. Я звала соседей «тетя Таня», «дядя Петя», и даже «бабушка» и «дедушка», ведь мои бабушка с дедушкой были во Франции. Жили бедно. Из России выехали в основном офицеры да помещики, они не были знакомы с физическим трудом, да и вообще ничего толком не умели делать. Потому-то и решили жить одной большой семьей – так было легче. Но, несмотря на бедность, жили дружно и весело. Все обитатели виллы были культурными людьми. С ними охотно встречались иностранцы. Они частенько приглашали и моих родителей – поговорить, поиграть в теннис или бридж.

Татьяна Николаевна Монти. 2000 г.
Так продолжалось много лет, пока не появился президент Насер. Вы знаете, в 1952 году он совершил революцию и прогнал короля Фарука. Русские эмигранты не на шутку перепугались. Они уже пострадали от одной революции, в России, и боялись, что и от этой хорошего ждать нечего. Люди стали уезжать кто куда – в Канаду, в Австралию, в Америку. Большинство из старшего поколения эмигрантов покинуло Египет. А мое поколение в это время получало образование за границей, ведь мы учились в иностранных школах. После окончания университета почти никто не вернулся. С этого времени мы стали жить одиноко.
– Сколько сейчас русских в Александрии?
– После смерти мадемуазель Кутузовой я осталась одна.
– Татьяна Николаевна, я привез с собой один журнал, вот посмотрите.
Я достаю из сумки «Перезвоны» за декабрь 1927 года – литературно-художественный журнал, который издавался русскими эмигрантами в столице буржуазной Латвии – Риге. В нем сотрудничали такие известные деятели культуры, как писатели Иван Бунин, Алексей Ремизов, Михаил Арцыбашев, поэты Марина Цветаева, Константин Бальмонт, Саша Черный, профессор-философ Николай Бердяев. Два номера журнала я купил в Каире, в антикварной лавке под названием «Ностальгия». Были там, кстати, и кое-какие безделицы, принадлежавшие когда-то, по словам хозяина, Олегу Волкову. На одном из журналов оказался штамп по-французски: «Русский книжный магазин. Бульвар Рамле, 24. Александрия, Египет».
Мадам Монти роется в сумочке, достает очки. Листает журнал и потом говорит:
– Магазин, наверно, был в доме, где и церковь.
– Но церковь находится на бульваре Саада Заглюля.
– Это одно и то же. Раньше он назывался бульваром Рамле. Церковь там существует с давних времен, потому что в этом доме было русское консульство. Последним консулом был Александр Михайлович Петров. Но и после его смерти там оформлялись все наши бумаги – кто рождался, кто умирал, кто выходил замуж. На верхнем этаже жила мадам Петухова. Это была крупная деятельная женщина, напоминавшая мне чем-то императрицу Екатерину. Мадам Петухова занималась распределением благотворительных фондов.
– А откуда брались эти фонды?
– Местная публика создала специальный комитет помощи русским беженцам. Среди эмигрантов было немало старых, больных, немощных людей. Им жилось труднее всех. Их жалели. По сути дела, мы были первыми беженцами. Это сейчас их – полмира! Палестинцы, курды, афганцы, суданцы… В фонд регулярно жертвовали деньги королевская семья, местная знать, иностранцы. Раз в году мы устраивали большой благотворительный бал. Здесь, в «Сесили», или в ресторане гостиницы «Виндзор». Все полученные средства шли на помощь престарелым, больным, детям.
– Была ли в Александрии русская школа?
– Да, но только летом. Учились все в иностранных школах. Я, например, окончила французский лицей. Там я и занималась русским языком – вместо арабского. Тогда учить арабский для иностранца считалось необязательным. Некоторые мои подруги учили его, а я в это время брала уроки русского. Учительницу звали Елена Александровна Горбенко. Дома мы говорили по-русски, я выучила азбуку, а с учительницей уже осваивала язык по-настоящему. Летом же всех русских детей собирали в особую школу. Преподавали там не только язык, но и географию, историю, литературу. Правда, детей было немного.
– Стало быть, арабского вы так и не выучили?
– Разговаривать умею, а читать и писать – нет.
– Татьяна Николаевна, а в повседневной жизни каким языком вы обычно пользуетесь?
– Чаще всего французским, иногда английским. К сожалению, после того как три года назад умерла мама, мой русский кончился. По-русски я теперь говорю только со своей собакой. Но зато говорю очень много. Мне приятно просто говорить по-русски. Знаете, моя лучшая подруга детства, Зоя Бобылева, она вышла замуж за русского по фамилии Иванов и уехала с ним в Париж, написала мне как-то такую, очень правильную, по-моему, вещь: «Таня, мы должны держаться друг друга, мы ведь подруги, однолетки, мы друг другу – корни». Никто из моих друзей-иностранцев не понимает меня так, как Зоя. Может, у нас, русских, душа какая-то другая? Так вот, теперь единственный, кто знает обо мне все, – это моя собака. И я ее обожаю.
– А какой она породы?
– Обычная дворняжка. Я подобрала ее на улице двенадцать лет назад. Отняла у мальчишек-арабчат, которые ее гоняли. Вы ведь знаете, египтяне не любят собак. Шел дождь, она была вся в грязи, такая несчастная. Я взяла ее домой, отмыла. И, знаете, получилась даже очень симпатичная собачка. С белыми лохмушками, как у пуделя.
– Словом, она – ваш лучший друг?
– Да. Я никогда не хотела иметь детей. В нашем мире, в нашем положении эмигрантов не было никакой уверенности в том, что мои дети вырастут счастливыми. А без этого рожать их не имело смысла. Мои мужья это понимали. Первый был грек, нынешний – итальянец. Гражданство я приняла итальянское.
– Нет ли у вас, Татьяна Николаевна, каких-либо родственников на родине?
– Была тетя, ее тоже звали Татьяна. О, это целая история. Во время Гражданской войны семья мамы жила в небольшом городке. Однажды ее сестра пошла в гости к подруге. В это время в город ворвались красные. Мама с родителями бежала, а тетя осталась. Сначала они переписывались, а в 1922 году сестра попросила маму больше не писать, потому что это может ей навредить. И целых полвека мы не знали, где она и что с ней. А потом она нашла нас сама через Международный Красный Крест. В то время тетя Таня жила в Одессе, одна. Она хотела приехать к нам в гости, но ей не разрешили. Сказали, раз одинокая и никто не может поручиться за то, что она вернется, нельзя. Я ходила к консулу, в посольство – ничего не вышло.
– Да уж, глупостей мы в свое время наделали немало, вроде этого правила с выездом!
Татьяна Николаевна не реагирует на невольно вырвавшуюся у меня горькую реплику.
– Потом хотели поехать в Одессу мама с папой. Им разрешили, но при условии, что они вернутся в Союз насовсем. Но они не хотели возвращаться насовсем. Они хотели только съездить в гости. Мама мечтала встретиться с сестрой спустя столько лет! Но они так и не увиделись.
– Да-а…
– Все, что удалось нам сделать для тети Тани, – так это посылать изредка подарки, теплые вещи. Но и это было трудно. Тетя Таня прожила очень несчастливую жизнь. Она похоронила четырех мужей… Детей у нее не было. Под старость осталась одна с пенсией в 40 рублей… Она тоже, как и мама, уже умерла.
Помолчали.
– Владимир Владимирович, вы хорошо знаете Ленинград? – спрашивает вдруг мадам Монти.
– Примерно как Александрию – больше по центру. А что такое?
– У меня есть одна фотография, – Татьяна Николаевна листает альбом, – там на обороте маминой рукой написано, что справа – дом, где одно время жила ее семья.
Увидев дореволюционный снимок, я облегченно вздыхаю. На нем – Дворцовая площадь. Дом справа – бывшее здание Генерального штаба.
– Да это же главная площадь города! Ее всякий знает. Слева – Эрмитаж, бывший Зимний дворец.
– Значит, если я соберусь в Ленинград, то смогу увидеть этот дом?
– Конечно, он цел и невредим!
Мне кажется, что серо-зеленые глаза мадам Монти сверкнули радостью. Я снова перехватываю у нее инициативу разговора.
– Татьяна Николаевна, а часто вы бываете в Каире?
– Сейчас совсем не езжу, а в юности ездила часто. Некоторые обитатели нашей виллы со временем перебрались в Каир, и я очень любила у них гостить.
– Не знали ли кого из тамошних русских эмигрантов? Например, Олега Волкова?
– Олега Волкова, последнего председателя русского землячества в Каире, я хорошо знала. Он нередко бывал у нас дома. Волков занимался тем, что помогал русским в Каире. А моя мама делала то же самое в Александрии.
– А семью профессора Лукьянова знали? Он был видный историк!
– Нет, с ним я не встречалась.
– Тогда, может быть, были знакомы с профессором Викентьевым?
– С его сыном, Жоржем, я училась в школе. Мы дружили втроем: Саша Федяев, Жорж Викентьев и я. Жили мы у моря и после школы часто ходили купаться вместе, а потом мама кормила нас всех обедом. Жорж был какой-то не такой, как другие мальчики. Он уехал учиться в Париж, и потом я потеряла его из виду.
– Татьяна Николаевна, а где похоронены наши соотечественники?
– На греческом православном кладбище, в Шетби. Хотите съездить туда?
– Конечно!
Шетби – целый комплекс кладбищ разных христианских конфессий недалеко от центра города. На нескольких из них я уже бывал. На английском военном кладбище увидел двенадцать русских могил, все 1920 года. Наверное, там похоронены обитатели лагеря в Сиди Бишре. Еще несколько могил, уже гражданских, нашел на двух греческих кладбищах. Но на том, куда привезла меня мадам Монти, бывать не приходилось.
В левом углу кладбища сооружен склеп. Над ним – часовня. Дальняя ее стена занята тремя белыми мраморными досками. На них выбиты более ста имен. Здесь и Василий Голенищев-Кутузов – отец Долли, и Дмитрий Фламбуриани, автор книжки о русских эмигрантах в Египте, и мадам Петухова… «На чужбине усопшим – вечная память» – гласит надпись на часовне.
– В склепе хоронили тех, чья семья не могла себе позволить сделать им отдельную могилу, – поясняет Татьяна Николаевна.
Мы идем дальше по кладбищу.
– А вот здесь лежат люди побогаче, – говорит она, показывая на надгробья с русскими именами. – Смотрите, их не так уж и много, человек двадцать.
Все точно так, как на греческом православном кладбище в Старом Каире. Там тоже есть «русский склеп», где похоронены около 170 наших соотечественников, часовня над ним, да еще десятка три отдельных могил.
– Вот и папа с мамой.
Мы останавливаемся возле могилы супругов Сериковых.
– Эх, надо было цветов принести! – с сожалением в голосе бросаю я, сетуя в душе на свою недогадливость.
Татьяна Николаевна резко оборачивается.
– Нет, я никогда не привожу на кладбище цветы, – отвечает она, и в голосе ее мне чудится какой-то жесткий оттенок. – Не надо обрекать на преждевременную гибель хотя бы растения.
На пути к выходу мы снова минуем часовню-склеп.
– Смотрите, – восклицает вдруг мадам Монти, – я только что заметила: ведь часовня покрашена! И могилы все расчищены! Кто тут наводил порядок? – спрашивает она уже по-арабски подошедшего хранителя кладбища.
– Да кто-то из советских приезжал! – отвечает он.
– Из советских! – повторяет Татьяна Николаевна, и голос ее теплеет. – Ну, слава богу, вспомнили…
Мы выходим из ворот кладбища.
– Знаете, о чем я очень жалею? – спрашивает меня в машине мадам Монти и сама же отвечает: – Что мои родители чуть-чуть не дожили до сегодняшних дней. Вот бы они порадовались тому, что нас, русских эмигрантов, на родине вновь считают своими…
Я высаживаю Татьяну Николаевну возле конторы ее мужа. Уроженку Египта с итальянским паспортом и русской душой.

Глава 17
Из Каира – с любовью

Детом 1991 года, приехав в Москву в очередной отпуск, я зашел в Советский фонд культуры, к заместителю председателя правления Борису Владимировичу Егорову. Познакомились мы с ним примерно за год до этого, в Египте. Егоров и его жена, художница Наталья Маркова, совершали вместе с большой группой советских деятелей культуры и искусства «круиз мира» на теплоходе по Средиземному морю. Три дня стоял теплоход в Александрии. Случилось так, что за несколько дней до начала круиза в «Правде» был опубликован мой материал об иконах Билибина. Они-то и интересовали Бориса Владимировича в первую очередь. Я привез супругов в Каир, в греческую госпитальную церковь в квартале Аббасия. Гости восхитились творениями мастера. Затем Егоров провел предварительные переговоры с владельцами икон, правлением греческой общины Каира, насчет возможности выкупить их или каким-то другим образом сделать достоянием советского народа. Дальнейшие контакты с греками Советский фонд культуры поручил вести от его имени мне, так что сейчас предстояло рассказать Егорову о ходе довольно сложных переговоров и обсудить с ним, что делать дальше.
После обстоятельной беседы Борис Владимирович спросил:
– А вы никогда не бывали в нашем архиве? – и, загадочно улыбнувшись, добавил: – Там вы сможете найти для себя любопытные вещи!
В старинном особняке на Гоголевском бульваре, где разместилось правление Советского фонда культуры, я вообще был впервые, а об архиве даже не подозревал. Егоров повел меня на третий этаж, в небольшую комнату, заставленную стеллажами с книгами и журналами. Представил заведующему архивом, Виктору Владимировичу Леонидову, а потом попросил его достать для меня из сейфа одну коробочку…
Когда я читал надпись на крышке картонной коробки, то испытывал, вероятно, такое же чувство, какое испытывает охотничья собака, которая, давно потеряв след, вдруг сталкивается нос к носу с желанным зверем. «Советскому фонду культуры в подарок от Л. Е. Чириковой. Послан в 1991 году. Письма художника И. Я. Билибина к Л. Е. Чириковой с 1920 года по 1923 год. Египет, Каир».
– Значит, Чирикова еще жива? – стараясь подавить волнение, спросил я Леонидова.
– Да, – ответил он, – и живет в Соединенных Штатах, во Флориде. Возраста, как вы сами понимаете, весьма преклонного.
В тот день у меня не было возможности сразу же засесть за разбор писем великого художника. Но я сделал это так скоро, как только смог, отодвинув на «потом» другие дела. Написанные то чернилами, а то и просто карандашом, слегка пожелтевшие от времени, очень обстоятельные, эти послания содержали массу интересного. Размышления о любви и искусстве, рассказ о своей жизни и работе в Каире, о русской колонии в Египте, о путешествиях по этой стране… Тщательно изучив письма и сделав оттуда немало выписок, я задумался: как же построить из них главу? Может, поместить рядом выдержки на одну и ту же тему? Поразмыслив, решил: нет, лучше цитировать письма в хронологическом порядке, так, как они и были в свое время написаны. Это будет и естественнее, и интереснее. Но, прежде чем предложить выдержки из писем читателю, хотел бы сказать несколько слов об их предыстории.
Людмила Евгеньевна Чирикова – дочь друга Билибина, известного в свое время русского писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932). Иван Яковлевич знал ее еще в Петербурге девочкой. Судьба вновь свела Билибина и Чирикову после революции 1917 года в крымском поселке Батилиман. Там Людмила Евгеньевна брала у Ивана Яковлевича уроки живописи. Симпатичная, способная, неленивая девушка пленила одинокого, разведенного маэстро, которому уже перевалило за сорок. Но объясниться с ней он решился не сразу, да к тому же письмом. Уехав в октябре 1918 года на выставку в Ялту, где демонстрировались и его картины, и работы его ученицы, Билибин писал оттуда Чириковой в Батилиман: «Из ложного стыда перед всякими возможностями я уже долго боялся сказать Вам это слово из пяти букв, слово с двумя буквами «ю», милое, волнующее слово… Если б Вы знали, какое я переживаю хорошее время! Не выставка (это вздор), а нечто совершенно иное превратило все мои нервы в струны какого-то инструмента, и на душе у меня сплошная музыка. Возраста нет. Я молод, как мальчишка…
Теперь я буду рисовать Вас. Я вложу в эту работу всю мою жизнь и все мое умение, а так как я Вас очень люблю, то это будет хорошо сделано».
Портрет Чириковой Билибин действительно написал и долго возил его повсюду с собой. Стоял этот портрет и в мастерской художника на улице Антикхана в Каире. Впрочем, и сама Людмилица, как нередко называл свою возлюбленную Иван Яковлевич, следовала некоторое время вместе с ним по жизни. Вместе они приплыли в Александрию на пароходе «Саратов», вместе были отправлены оттуда в лагерь русских беженцев в Телль аль-Кебире. Из лагеря, где жили отдельно мужчины, женщины и семейные, Билибин выбрался раньше своей возлюбленной, а затем позаботился и о ней. Но в Каире Чирикова прожила лишь до апреля 1922 года, а затем уехала в Европу. Туда-то и адресованы в основном письма Ивана Яковлевича, переданные Чириковой в Москву в картонной коробке.
Итак, читатель, спешу познакомить тебя с отрывками из писем влюбленного маэстро. Обещаю вставлять свои комментарии только там, где это действительно необходимо.
«6 августа 1920 года.
Перечитывал Ваше милое, глубоко оскорбленное, огорченное и бесконечно доброе письмо. Но знаете, моя добрая подруга, что Вы все-таки не все там продумали до конца. Вы говорите, что Вы меня любите, но что ни Вы моей женой, ни я Вашим мужем быть не можем; Вы говорите, что тем не менее, если у Вас будет муж, а у меня жена, то наши отношения (нечто большее, чем дружба) все же останутся прежними.
Вот тут-то Вы и попадаете на Вами самою невыясненные для себя же места, на слова «не от жизни», а от «поэзии и литературы», словом, на то, на чем главным образом люди и ошибаются, веря в вымышленное, а не существующее.
Давайте для начала говорить не о себе, а вообще о людях, о людских чувствах. Еще Толстой говорил, и, по-моему, совершенно правильно, что слово «дружба» между женщиной и мужчиной (если, конечно, они не старцы) – обман. Жаль расстаться с таким красивым, старинным, поэтическим словом, но это так.
Могут быть легкие приятельские отношения и любовь. Любовь может быть выявленная, получившая полный расцвет, и любовь заглушенная, не выявленная по тем или иным причинам. Конечно, я говорю про настоящую любовь, духовную и культурную, а не о грубом тяготении одного пола к другому. Несомненно, что чисто абстрактной любви недостаточно, но только одно другое слишком низменно и звероподобно.
Зверь в каждом человеке есть, и иногда хочется быть зверем, но на зверя же у человека есть узда и плеть, и зверя можно заставить замолчать. Я допускаю, что мужчина может сидеть в тюрьме, пламенно любить, а женщина, любя его так же, будет ждать его; и – наоборот.
Если Вы кому-нибудь говорите, что Вы никуда не уйдете из жизни этого человека, то что же это такое? Это есть то высокое влечение друг к другу, несмотря ни на что. Как это называется? «Дружба»? Полноте, это – больше.
Вы говорите, при наличии этого, о каком-то возможном муже. Что же за существо такое, этот «муж»? Тоже «друг»? Я не вижу его духовной роли. Или это просто отец детей, какой-то охранитель? Если же муж будет, по Вашей терминологии, «другом», высшим «другом», то тогда естественно увянет первая дружба, ибо, по моей терминологии, «муж» (если это в высшем смысле) есть любовь осуществленная, а то первое – любовь неосуществленная, а я не верю в двоелюбие. Любовь одна.
Значит, два возможных выхода.
Первый: Вы любите высшей любовью Вашего мужа и тогда память о том старом «друге» развеется, как детское увлечение.
Второй: Вы и действительно любите Вашего друга, не хотите «уйти из его жизни», тогда, рано или поздно, «муж» этот будет Вашей гирей, Вашими кандалами. Жизнь с ним станет для Вас невыносимой, и Вы будете глубоко несчастны.
Вот, по-моему, спокойное и здравое рассуждение, а не прятанье страусом своей головы под крыло, чтобы сейчас не видеть. А как мучительно все-таки увидеть, но когда уже поздно.
Любовь – вещь крепкая и сильная. Восклицание же «ах, дружба!» – малиновая вода или сентиментальное стихотворение, но не жизнь».
Да, читатель, тут есть над чем поразмыслить…
«1920 год (число не указано. – В. Б.). Воскресенье. 7 часов утра.
Дивное утро. Встал и открыл окна (ночью из-за комаров приходится закрывать). В мою хоромину (Ноев ковчег такой) ворвалось чириканье птиц, косой лучик солнца на подоконнике, а за окнами показались пальмы.
Сейчас, лежа еще в кровати, раздумывал, где что развешу. Сейчас мой араб мне что-то принесет для утреннего подкрепления. Я стараюсь думать только о предстоящей работе, а то я утомился и измучился от постоянно мучающих дум; но вот опять-таки сны. Они врываются в вас, непрошеные, и насильно рисуют вам то, на что, бодрствуя, вы всячески закрываете глаза; и я видел этой ночью сон, очаровательный сон, после которого я проснулся и сперва долго улыбался, а потом понял, что это – лишь сон, и впал в мрачное состояние; но после снова заснул; снов не видел, а когда увидел солнце и зелень, и они этим утром какие-то особенно радостные, то я даже непроизвольно что-то засвистал; я же давно не пел про себя и не свистал.
А сон был такой; буду краток.
В Африке, в пустыне, в одном лагере, обнесенном колючей проволокой (Билибин определенно имеет в виду Телль аль-Кебир, где все еще находилась Чирикова. – В. Б.),я вхожу в палатку. Во входе в нее врываются яркие лучи солнца. В ней много народа, потому что палатка большая. Стоят ряды кроватей, и на одной из них я вижу одну милую девушку, а вид у нее какой-то особенно просветленный. Рядом с ней лежит грудка каких-то небольших белых цветов, очень хорошо пахнущих, связанных пучками. Она улыбается и протягивает мне один пучок, сказавши: «Вденьте себе в петлицу». Тогда окружающие говорят: «Куда же так много? Ведь в петлицу и одного достаточно!» Она же еще раз улыбается, берет всю груду обеими руками и отдает мне все цветы и говорит: «Пускай берет все; ведь это мой жених». Вот и все…»
«Понедельник, 9 августа 1921 года.
Сейчас утро; чайник закипает; боаба (привратника. – В. Б.)еще не было. Встал, умылся, оделся. Кажется, мой старый корабль хотя и с поломкой снастей, но продолжает нести свой флаг по волнам житейского моря. Итак, пока что плывем. То, что я сейчас напишу (до рисования), можете не читать. Это, если хотите, тоже отчасти философия, но, чтобы Вы знали, в чем дело, напишу заголовок этой главе.
Рассуждение о счастье
Дерево стремится к свету, ребенок – к матери, человек – к счастью. Это он делает для себя, и потому счастье есть высший эгоизм. Но человек грубый, французский буржуа, стремится очень грубо и примитивно. Он думает только об очень быстром удовлетворении своих стремлений, ошибается в расчете и, в конце концов, получает несчастную, мелкую жизнь или же вовсе тупеет и тогда ничего уже не чувствует. Счастье – взаимная встреча двух эгоизмов, но встреча гармоничная. Как грубое слово – расчет, так и поэтичное – гармония, в сущности, родственны, ибо оба основаны на счете, на математике. Любовь к счету или ритму заложена, как естественный закон, в нашу природу, но только расчет есть счет явный (напр., бухгалтерия), а ритм и гармония – счет скрытый (тонкость духа и, конечно, всякого рода искусство).
В глубине же все то же и то же: «Я хочу для себя!» Месье Гарнье или Дюпон (это фамилии этих почтенных буржуа) делает на свою же голову плохой расчет. Он говорит: «Я хочу для себя» и начинает всякие хитрости. Оставаясь грубым животным, он притворяется утонченным, нежным, мечтательным, пламенно-бескорыстным и пр. и пр., словом, как охотник, «заманивает», и, наконец, это ему удается. Но он даже не поинтересовался проанализировать, хотят ли по-настоящему его с другой стороны, и вот через некоторое время и получает то житейское буржуазное несчастье, о котором я и сказал выше.
Но есть эгоизм другой, эгоизм тонкого человека. Этот человек тоже ищет встречи, но иначе, чем Гарнье или Дюпон. Иногда и он ошибается. Вдруг он встретит мадемуазель Гарнье или Дюпон. Но ему покажется, что это кто-то иной, та же ласково прикинется, и тогда опять-таки в результате выйдет еще нечто более трагичное, чем только что отмеченная буржуазная трагедия. Но вот человек этот действительно встретил. Он все увидел и понял, но с той стороны, несмотря на полное присутствие духовного ритма и гармонии, масса перегородок, построенных на почве неправильной и априорной веры в разные несуществующие и нежизненные понятия. Там верят в то, что прочитано, что наговорено (такими же людьми с перегородками), что намечтано (простите за несуществующее слово) и что порой наплакано. И человек этот должен будить другого; будить, а не заманивать. Он должен кричать ему: «Не гляди же как-то сбоку, а смотри прямо и просто, просто. Да есть да, а нет есть нет. Что искать, когда уже найдено?! Ведь надо только долго посмотреть друг другу в глаза, и ты поймешь, что встреча есть».
Тогда, если все же ты не понимаешь или не решаешься согласиться, подумай о дикарях. Дикарь, любящий дикарь, не пошл. Пошл Гарнье. Когда этот любящий дикарь срывает последний плод с дерева и, гогоча, передает его своей подруге, то в этом поступке столько же эгоистичной любви отдать любимому существу все самое лучшее и самое дорогое, как когда какой-нибудь хороший художник вдруг не удержался и решил подарить тоже любимому существу свое лучшее художественное произведение. Так же можно подарить жизнь, охотно и радостно, в порыве восторга, и все это будет эгоизм, а не альтруизм (словцо, которое не мешало бы тоже проверить и проанализировать).
И если оттуда, с другой стороны, был бы такой же порыв отдать последний плод с дерева, то до какой головокружительной вершины счастья можно было бы подняться!»
«24 августа 1921 года.
Когда пишите этюды, не думайте о том, выходят они плохо или хорошо. Правьте основными красками и отношениями, как тройкой лошадей: смотрите на пристяжных, но не упускайте из вида коренника.
Повторю еще и еще раз: если и существует воспетое поэтами вдохновение, то только тогда оно превратится во что-то ценное, когда оно пройдет через горнило большого труда. Голое вдохновение – ноль, дилетантство».
«28 августа 1921 года.
Милая Людмилица.
Воскресенье прошло, как и прочие дни: нудно и нудно. Жарища сегодня была особенная, парная и какая-то безнадежная. Тем не менее работаем, насколько можем. Архангелы (и большие, и акварельные) неустанно подвигаются вперед. Будут, кажется мне, очень красивыми».
Архангелы, Михаил и Гавриил, – иконы для греческой госпитальной церкви в Аббасии, они упоминаются в главе о жизни Билибина в Египте.
«2 сентября (1921 года. – В. Б.).
Лукьяновы Вам очень кланяются; я снял его у его стелы, а он смотрел мечтательно куда-то вверх».
Знакомая фамилия! Это те самые профессор-египтолог Григорий Лукьянов и его жена Елизавета, о которых рассказывал мне месье Дебоно, персонажи главы «Шпага Кутузова». С Лукьяновыми Билибин встречался регулярно, о чем говорит их многократное упоминание в письмах. Иван Яковлевич иной раз даже называет профессора по-дружески просто «Лукьяша». Хорошо был знаком художник и с Голенищевым. В одном из писем он рассказывает, как обсуждал с Владимиром Семеновичем свои творческие планы за мороженым в популярной кондитерской «Гроппи».