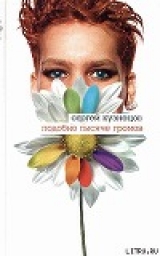
Текст книги "Девяностые: сказка"
Автор книги: Владимир Коркош
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Леня ставит кассету, oldie goldie, говорит про new wave и про диско. Он кончал музыкальную школу и про музыку всё понимает. Я сквозь сон разбираю слова: Do you remember a guy that's been / In such an early song. Ничего я не помню, говорю магнитоле. Спит Москва, спит метро, алкаши на снегу, бизнесмены в роскошных квартирах. Лишь в палатке ночной по ноль-пять и ноль-семь, только кучки старух у закрытых дверей продают колбасу, сахар, хлеб, получают купюры и прячут в карман, а потом часть отвалят ментам. Мужская рука на моем бедре чуть выше резинки чулка. Тихий голос поет: Ashes to ashes, funk to funky / We know Major Tom's a junkie, я не просыпаюсь. Алкогольные волны, машина "вольво", рука на бедре.
Что значит – жить? Значит – верить в чудо, в семь лепестков, в исполненье желаний, верить в любовь и от жизни не ждать ничего. Все обещанья сбываются, я уже знаю. Едем к Леньке домой, я сниму туфли в прихожей, пойду прямо в спальню, лягу на спину, скажу ну же – и так изменю в первый раз. Постараюсь себя убедить, что просто по пьяни.
Что значит – влюбиться в старого друга? Избегать его взгляда на людях, встречаться тайком, ждать телефонных звонков, торопливых свиданий, беглых касаний, ждать, пока Ромка уедет в Нижневартовск или Хабаровск, заказывать водку и "маргариту", бейлис, "кровавую мэри", наливать до краев, выпивать залпом, нетвердо стоять на ногах, идти, чуть шатаясь, ложиться на спину, шептать иди же ко мне, двигать бедрами, ловить ритм, засыпать, обнявшись.
А вот еще был случай. Однажды Никите принесли амстердамской травы. Он забил косяк "на двоих", мы дунули – и тут меня срубило. Почти мгновенно. Никогда не было так плохо, честно. Состояние high было где-то между третьей и четвертой затяжкой – и тут же сменилось тошнотой и ощущением полного бессилия. Несколько часов я сидел на полу и слабо мычал. Наверно, если обычный человек выпьет залпом бутылку спирта, будет то же самое: опьянение сменяется отравлением так быстро, что не успеваешь получить удовольствие.
Помню, в какой-то момент я рассматривал портрет Боба Марли – уж не знаю, почему он висел у Никиты на кухне. И вот я сижу на полу, меня тошнит, Марли на меня смотрит, а я думаю: Боб Марли был антихрист. Потому что призывал всех курить траву, если кто не понял. Я сижу на полу, меня тошнит, понятно, что нормальный человек добровольно не будет такого с собой делать. Значит – колдовское наваждение, можно сказать – сатанинское. Смешно: я напрочь забыл, что никто не заставлял меня курить. Нет, сейчас-то я помню: я сам уговаривал Никиту забить покрепче и не скупиться. А тогда самое ужасное было, что я никак не мог выйти из этого состояния.
Поезд едет вдоль знакомой кирпичной стены. Разноцветные пятна граффити. Антон сидит у окна, думает: самое ужасное – я никак не могу отсюда выйти. Куда уж выйти, поезд едет, усадьба Сидора все ближе, наша история движется к развязке. Может, надо было раньше спохватиться? Может быть. А пока остается только сидеть, смотреть в окно, думать…
А вот еще был случай. Несколько лет назад решил я раскурить одну свою приятельницу. В первый раз. Она не курила никогда. Говорят, в первый раз плохо вставляет – ну, я и забил "с запасом". Наверное, опять не рассчитал – она затянулась два раза, села на пол и сказала: Я хочу выйти из этого самолета.
Знакомая стена, заклинания футбольных команд. Антон тоже хотел бы выйти из этого самолета. От поездки на дачу к Белову он не ждал ничего хорошего. Думал сказаться больным, но решил: это будет малодушно. Как сказал бы Кастанеда: это не путь воина. Ну, или как-то так – том про путь воина еще не перевели, Антон знал его только в пересказе Горского. Но всю дорогу повторял: хорошо бы выйти из этого самолета.
Шлепая под осенним дождем, Антон повторял себе под нос, точно мантру: мне ничего не грозит, мне ничего не грозит. Смысл мантры, как известно, заключен не в словах, а в их звучании, но слово и звучание совпадают только в сакральных языках. Сакрален ли русский язык? И если нет, то каков подлинный смысл этой мантры? И есть ли он вообще? Сработают ли слова как заклинание – а если да, то как именно? Может, на языке, внятном Неведомым Божествам, мне ничего не грозит значит сегодня я умру. Впрочем, может, так оно и есть на самом деле: что тебе может грозить, если знаешь, что умрешь сегодня?
Резкий гудок за спиной. Блестящие под дождем черные бока иномарки – сразу видно роскошной. Впрочем, Антон не разбирался в машинах и считал любую иномарку роскошной. Возможно, подумал он, на этой машине уже много лет неприлично ездить. Надо Костю спросить, пусть объяснит, что к чему.
За рулем сидел Леня Онтипенко. Подбросить? спросил он.
Антон кинул мокрый рюкзак в багажник и сел на переднее сиденье. Из динамиков Борис Гребенщиков пел что-то про кокаин.
– А вы еще слушаете БГ? – спросил Онтипенко.
– Ну, редко, – ответил Антон. – Лет пять назад слушали.
– Да, – кивнул Онтипенко, – сейчас Гребень уже не тот.
– Я хаус сейчас слушаю, – сознался Антон.
– Хаос? – переспросил Онтипенко.
– Ну, электронную такую музыку, – сказал Антон. – Знаешь, техно, транс… всякое такое.
Онтипенко кивнул. Откуда-то из-под темной воды по-прежнему доносился голос Гребенщикова.
– Ты не знаешь, – спросил Онтипенко, – зачем нас Сидор собирает?
– Ну, кажется, хочет довести до конца расследование. – И, поколебавшись, Антон прибавил: – Его как-то смерть Зубова взволновала.
– А чего Зубов? Передознулся?
– Нет, застрелили.
– Наверное, какие-то драгдилерские дела, – сказал Онтипенко после паузы.
– Может быть, – промямлил Антон. – А ты откуда с ним знаком?
– Не помню уже, – ответил Леня и поправил очки. – В каком-то клубе встретились, кажется. Я хотел у него чего-нибудь взять… ну, для писателей.
– Для каких писателей? – удивился Антон.
– Понимаешь, – сказал Онтипенко, – я когда-то писал стихи, а сейчас разучился. И я вспомнил, что многие поэты – Бодлер, Эдгар По, разные другие – ну, типа, находили вдохновение благодаря наркотикам. Вот я и подумал: может, если я уколюсь или таблетку приму – то у меня все получится?
– Я как-то сомневаюсь, – честно сказал Антон. – Вещества – они, конечно, открывают всякие врата восприятия, но чтобы стихи писать – это же талант нужен. То есть писать под травой – милое дело. Только сплошная фигня получается.
– А какое дело Сидору до Зубова? – спросил Онтипенко.
– Ну, есть подозрение, что как раз Димка и продал эту марку… ну, которую Женя приняла.
Сказав это, Антон понял: на самом деле подозрение ни на чем не основано. Точнее – основано только на убеждении Антона во внутренней связи смертей Жени и Милы.
– А откуда вообще взялась идея, что это – убийство? – спросил Онтипенко.
– Известно, что от кислоты никто еще не умирал, – сказал Антон.
– Ну-уу, – протянул Онтипенко, – я в этом не так уверен. Это ты, что ли, Сидору сказал? И он тебе поверил?
– Не только я, – ответил Антон. – Вот Альперович тоже говорил.
– Альперович тоже говорил? – удивился Онтипенко.
– Ну да. Он же первый пришел к Владимиру и…
Их беседа в самом деле напоминала Антону допрос. Только почему-то подозреваемый допрашивал его. Антон решил перехватить инициативу:
– А правда, что вы с Женей были любовниками?
– Мы любили друг друга, – сказал Онтипенко. – Вот это – правда.
Вдалеке показались ворота усадьбы. Перед лицом Антона дворник машины рисовал полукруг на ветровом стекле, и дом вписывался в этот полукруг, точно в раму.
– А почему она не развелась с Ромой?
– Ты думаешь – из-за денег? Ничего подобного. Деньги у нее были. У нее не хватало сил. Развод – это всегда страшно трудно. Ты Поручика спроси. Ей нужно было откуда-то взять энергию, найти в себе силы, опереться на что-то…
– Сдвинуть точку сборки, – подсказал Антон.
Кажется, Онтипенко не услышал.
– Снова почувствовать себя молодой, – продолжал он. – Тогда бы – да, тогда бы она развелась.
Ворота мягко открылись, и "вольво" въехала во двор. Увидев припаркованный во дворе "мерседес", Онтипенко удивился:
– А кого мы сегодня поздравим с обновкой?
– Альперовича, – раздался голос Романа.
Антон поднял голову. Сидор и Роман стояли на крыльце. Оба немного смущены – Сидор водил по телу приятеля какой-то палкой, напоминающей милицейский демократизатор.
– Это что у тебя? – спросил Онтипенко. – Металлоискатель?
Сидор серьезно кивнул.
– Да. Я решил всех проверить на тему оружия. Слишком много трупов уже.
– Да ты сдурел – проверять. Сказал бы – мы бы сами не брали. – К изумлению Антона, Онтипенко сунул руку под пиджак и отстегнул кобуру. – И что дальше делать?
– Дальше, – ответил Сидор, – мы пойдем в дом, запремся и будем разбираться, что к чему. А потом сядем по машинам, пристегнем пистолеты и поедем по домам. А до этого никто из дома не выйдет.
– Ты сошел с ума, – сказал Онтипенко. Это был не вопрос – утверждение. Типа "ага, я понял, что тут происходит". Чувство было Антону знакомо: по крайней мере один раз ему взаправду показалось, что его собеседник сошел с ума. Год назад, когда Паша под грибами появился ночью в его квартире, озираясь и говоря, что за ним следит "мафия мертвецов".
– Мне тоже провериться? – спросил Антон.
– Конечно, – кивнул Сидор, и Антон посмотрел ему в глаза. Ни грана безумия не было в них – глаза как глаза.
А вот еще был случай, Сережа рассказывал. Пришел он как-то в гости, а ему в Питер надо было, через час поезд, через пятнадцать минут выходить. Ну, а там, куда он пришел, все забивают и ему тоже предлагают дунуть. Ага, решает он, я дуну, забуду про поезд и никуда не поеду. Не буду курить!
Но дунуть-то хочется! И что Сережа сделал? Он взял бумажку и написал на ней: Сережа! Тебе пора отсюда уходить! Сообразил: вот я дуну, а потом увижу бумажку и сразу вспомню: пора уходить. Ну, понятно, Сережа курит, его круто вставляет, он сидит всем довольный и вдруг – что такое? – видит листок. На нем написано: Сережа! Тебе пора отсюда уходить! Ну, он переворачивает листок и пишет на чистой стороне: И отсюда тоже.
Антон! Тебе пора отсюда уходить! Выйти из этого самолета! И отсюда тоже!
Следом за Онтипенко Антон входит в усадьбу.
Я прочел когда-то: место любви тем и отличается от места преступления, что туда нельзя вернуться. Через месяц я опять стою в холле загородного дома Сидора. Мы все кинули вещи в те же комнаты, где останавливались в прошлый раз. В Женькиной комнате никого, но я боюсь заходить туда, на опустевшее место любви.
Когда-то я писал стихи, немножко переводил, чуть-чуть играл на гитаре. С тех пор я заработал очень много денег, но забыл, как складывать слова в строчки. После смерти мы с Ромкой могли бы поделить Женю по справедливости: он поставит ей надгробный памятник, а я напишу стихотворение. Когда-то я верил, что фотография на могильной плите не выдержит соперничества с ямбом или хореем, что слова могут описать запах женских волос, нежную бархатистость кожи, трепет плоти. Я в это верю до сих пор: жаль только, я забыл, как складывать слова в строчки.
Все нервничают, Альперович барабанит пальцами по столу, говорит зимой поедем в Давос, кататься на горных лыжах. Рома сидит мрачный, кажется, уже немного пьяный, говорит:
– До зимы еще дожить надо. Вот позовет сейчас Сидор братков и положат нас прямо тут, безоружных. Мест в бизнесе освободится!
– Ну, – говорит Поручик, – сказал тоже. Мы ведь не бандиты все-таки.
– А кто? – спрашивает Рома.
– Мы – друзья.
Если бы я мог говорить откровенно, я бы сказал: мы очень странные друзья, Поручик. Мне трудно считать себя Ромкиным другом. Я имею в виду – последний год. Нельзя дружить с человеком и спать с его женой. Можно ее любить, но спать – нельзя.
– Да какие вы друзья, мальчики, – говорит Лера. – Вы же вечные конкуренты, всю жизнь хуями меряетесь.
– В детском саду последний раз мерился, – говорит Поручик. – В школе уже взрослый был. Я и так знаю: главное не размер, а умение. И к тому же у меня все равно длинней. Если бы я с ними мерился, они бы огорчились и дружить со мной не стали.
Я могу утешать себя тем, что никогда не дружил с Ромкой. Мы учились в одном классе, теперь вместе в бизнесе – но другом я его никогда не считал. Я могу себя утешать, но соврать себе не могу: будь Женька женой Альперовича, я бы не удержался. Наверное, потому, что я верю в любовь.
– Идиот, – говорит Лера Поручику, – я имела в виду в переносном смысле. Кто круче.
– Выше нас только небо, круче нас только яйца, – привычно откликается Поручик.
– I mean, для мужчины очень важен количественный критерий. У кого длиннее член, кто быстрее написал контрольную, кто больше женщин трахнул, кто больше денег заработал, у кого машина круче…
Если так – то я тоже никогда ни с кем не мерялся. Например, с пятого класса я признал: Альперович меня умнее. Ну и хорошо. Приятно дружить с умным человеком. А деньги? Деньги я начал зарабатывать позже всех и наверняка заработал куда меньше, чем Ромка или Сидор.
– А разве у женщин не так? – пожимает плечами Роман. – Можно подумать, Женька не различала, когда денег много, а когда – мало.
– Это совсем другое, – говорит Лера. – Для женщины деньги – это конкретные вещи, которые можно купить. А для мужчины деньги – это форма абстрактной идеи.
Никогда не думал, что значат для Жени деньги. Мы никогда не говорили о деньгах: мы говорили о любви. Если бы я не разучился писать стихи, я бы вспомнил наши разговоры, описал бесконечные рестораны, горящие свечи, танцующие пары, наши руки встречаются под столом, губы сближаются для поцелуя. Жаль, я разучился складывать слова в строчки.
Мы рассаживаемся вокруг стола. Я стараюсь не думать: месяц назад на нем лежала уже мертвая Женя. Опустевшее место любви, место преступления.
– И зачем, Сидор, ты нас здесь собрал? – говорит Альперович.
Сидор встает, нависает над столом, опираясь на него. Так он и стоял на комсомольских собраниях в классе – и глядя на него, я снова чувствую себя членом небольшой ячейки.
– Пора уже кончать эту историю, – говорит он. – У меня появились новые данные – и сегодня я готов назвать убийцу Жени.
– И, конечно, это один из нас, – говорит Альперович.
– Да.
– Прекрасно. – И Альперович откидывается на спинку кресла, будто говоря: ну, расскажи, а я послушаю.
Вот и все, думаю я. Сейчас все закончится. Не понимаю, зачем Альперович пришел к Сидору и сказал, что это убийство? Ведь он-то с самого начала знал, откуда у Жени этот последний лепесток.
– Мы все знаем, – начинает Сидор, – Женя умерла не от отравления ЛСД, а от аллергического шока. Пенициллином была пропитана так называемая "марка". Мы все знаем про аллергию, любой из нас может изготовить такую марку. Но убийца поступил хитрее. Он купил настоящую марку, пропитал раствором пенициллина и подсунул Жене. Любая экспертиза нашла бы следы ЛСД в организме.
– Любой эксперт знает, что от ЛСД нельзя умереть, – говорит Лера. – Это же была отправная точка всего расследования.
Я слушаю их, и мне кажется – они сошли с ума. Мне кажется: мы живем в разных мирах, и эти миры пересекаются только случайно. Сидор верит в заговор, в убийство, в происки врагов, в борьбу, в победу – а я верю только в любовь, в запах рыжих волос, нежную бархатистость кожи, трепет плоти. Конечно, куда приятнее верить во врагов, заговор, победу – что бы ни случилось, заговор вечен, враги бесчисленны, победа близка. А любовь – любовь умирает навсегда, и ты даже не можешь воздвигнуть ей памятник, превыше пирамид и крепче меди, потому что давно забыл, как слова складываются в строчки.
– Антон нашел торговца наркотиками, который продал марку убийце, – говорит Сидор. – Я этого торговца допросил, и он назвал имя своего клиента.
Вот и все, думаю я. Сейчас все закончится. Не следует возвращаться на место любви. Но как быть, если место любви – это место твоего преступления?
– Антон нашел торговца наркотиками, который продал марку убийце, – сказал Сидор. – Я этого торговца допросил, и он назвал имя своего клиента.
Когда он успел? подумал Антон. Я ведь рассказал ему про Зубова только два дня назад, Зубов уже был мертв. Или он узнал от кого-то еще? Или сам знал Зубова? И в этот момент Поручик вскочил и заорал:
– Перестань нас разводить! Что значит "Антон нашел торговца, и торговец сказал"? А если это с самого начала подстроено? Антон привел своего приятеля, тот назвал какое-то имя. Сколько надо заплатить наркоману, чтобы он назвал мое имя? Или Ромкино? Да чье угодно!
– Мне никто не платил, – крикнул Антон. – Меня попросили найти дилера, я нашел, все!
В этот момент он верил: он действительно нашел Зубова и доказал, что тот продал марку убийце.
– И кто же был тот дилер? – крикнул Альперович, в то время как Поручик орал Сидору: не держи нас за лохов!
– Его звали Дима Зубов, – сказал Антон, вставая.
– А откуда мы знаем, что этот Зубов говорит правду? – подал голос Роман.
– Мне он ничего не говорил, – сказал Антон. – Он с Владимиром разговаривал. Но я знаю, кто покупал у него кислоту.
Взглянув на Сидора, Антон увидел: что-то дернулось в его лице. И понял, что Сидор блефовал. Никогда не встречался с Зубовым, никогда с ним не беседовал, просто поверил в связь убийства дилера и смерти Жени и разыграл спектакль, надеясь спровоцировать убийцу.
– Его знание, – сказал Роман, – никому не нужно. Я и так вам скажу, как было дело.
Слава богу, подумал Антон, не придется никого закладывать.
Роман встал.
– Лерка приехала сюда из Англии, сразу положила на меня глаз. Провернула это дельце с маркой, освободила себе место, а потом снюхалась с Антоном, и он, как дурак, помог ей замести следы.
– Что значит "снюхалась"? – спросил Поручик.
– "Снюхалась" в наше время означает "еблась", – ответил Роман. – Хотя вообще-то я им свечку не держал. Но я тоже не мальчик – видел, как они друг на друга смотрели, когда я их встретил у Петлюры.
– Стрелки переводишь? – спросил Альперович Рому, но Антона уже охватила паника. Случилось то, чего он с самого начала боялся. Версия Ромы была настолько убедительна, что Антон сам готов был в нее поверить. Круг замкнулся, Лерка, первая подозреваемая, все-таки оказалась убийцей. А он невольно стал орудием в ее руках, а сейчас его принесут в жертву на алтарь дружбы: Лерку-то они смогут простить, его – никогда. Он не выйдет из этого дома.
– Во-первых, у Петлюры мы встретились случайно. Это Роман был с Лерой, а не я, – попытался оправдаться Антон.
– А во-вторых? – спросил Сидор.
– А во-вторых, – раздался голос Лени Онтипенко, – марку принес я.
Он тоже встал, свесив живот над столом. Теперь только Лера и Альперович продолжали сидеть.
– Я привез сюда марку – продолжил Леня, – и передал Жене. Я спрятал марку тут, в доме, и написал ей записку, объяснил, как найти.
– Это была та самая записка… – сказал Антон.
– … да, со стихами про цветик-семицветик и алхимическим знаком. Антон видел ее в день Женькиной смерти, но я забрал у него и выкинул. Думаю, она и сейчас где-нибудь в комнате валяется.
– Но разве… – начал Антон.
– Но я не хотел убивать Женю! – внезапно закричал Леня, – я не хотел этого. Я ее любил! Мы любили друг друга! Я думал, это поможет ей уйти от Ромки. Даст ей силы! Энергию!
– Ну вот, – сказал Роман, садясь, – двумя тайнами меньше. Теперь мы знаем, кто был ее любовником и кто ее убил.
– Что я был ее любовником, знала каждая собака! – закричал Леня. – Только ты мог думать, что она тебе верна!
Роман снова вскочил.
– Я думал, она мне верна? Я думал, она спит со всеми по очереди! Потому что она была последней блядью всю свою жизнь…
– Не смей о ней так!… – крикнул Леня и, развернувшись, бросился прочь. Антону показалось: он слышит рыдания.
– Действительно, – сказал Альперович, взяв Рому за руку, – не надо о ней так. Она умерла, а мы все ее любили.
– Это я уже заметил, – буркнул Рома и сел.
– И что мы теперь будем делать? – спросил Альперович, обращаясь ко всем, но прежде всего – к Сидору.
– Сидор позвонит в колокольчик, поднимутся братки со стволами и свершится правый суд, – сказал Поручик, и Антон почему-то подумал о чекистских подвалах и призраках мертвых особистов, по звонку встающих из-под земли, держа наготове свои маузеры.
– Я помню, мы говорили, виновный должен уйти… – сказала Лера.
– Когда я говорил "должен уйти", я думал, это несчастный случай, – сказал Сидор.
– Но он же сам сознался, – сказала Лера.
– Когда его к стенке приперли.
– Если уж на то пошло, к стенке приперли не его, а Лерку, – сказал Поручик.
– Меня? – крикнула та. – Fuck youЯ тут вообще ни при чем. Это все ваши мужские игры во власть. Дать женщине наркотик, чтобы подчинить ее своей воле! Можно ли придумать лучшую метафору…
Грохот выстрела прервал ее.








