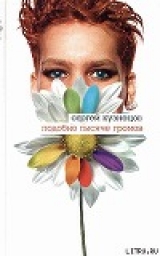
Текст книги "Девяностые: сказка"
Автор книги: Владимир Коркош
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Сергей Кузнецов
Девяностые: сказка
В один день погибают две девушки. Женя Королева – предположительно отравлена. Мила Аксаланц – предположительно доведена до самоубийства. «Гуру по жизни» Юлик Горский и Антон, его Арчи Гудвин, расследуют эти две смерти, такие разные и тем не менее таинственно связанные.
"Подобно тысяче громов" – роман из Москвы образца 1994 года. Рейв-культура, бизнес по-русски. Сказка и реальность, история любви, история дружбы. Первая часть трилогии Сергея Кузнецова "Девяностые: сказка".

ПОДОБНО ТЫСЯЧЕ ГРОМОВ
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.
Валентин Катаев. Цветик-Семицветик
Из глубины этого сияния раздастся естественный звук Истины, подобный тысяче громов. Гремящими раскатами прогрохочет он, и среди них ты услышишь крики «Бей! Убивай!» – и мантры, внушающие страх. Не бойся; не беги; не ужасайся; знай, что эти звуки – умственное содержание твоего собственного внутреннего света.
Седьмой день Чёнид Бардо
Тибетская книга мертвых (Бардо Тёдол).
Первую версию этого романа я писал два года и, когда закончил, был так счастлив, что не смог даже как следует его перечитать. Это была моя первая книжка, первый роман трилогии «Девяностые: сказка», затем последовали «Гроб хрустальный» и «Серенький волчок». Закончив третью книгу, я присмотрелся и понял, что трилогии не получилось: слишком велик стилистический разрыв между завершающим романом и первыми двумя. «Семь лепестков» и «Гроб хрустальный» – довольно слабые романы, даже в сравнении с «Сереньким волчком». Именно поэтому я решил переписать первые две книги. Недавно вышел «Гроб хрустальный: версия 2.0», теперь пришла очередь романа, открывающего цикл.
Я надеялся, что потребуется только косметический ремонт, но пришлось сделать полную перепланировку. Образовался совершенно новый роман – новый эмоционально, стилистически и идеологически. Даже финал другой. В последний момент изменилось даже название.
Критики очень хотели видеть в "Семи лепестках" роман с прототипами. Пользуясь случаем, хочу заявить, что прототипы есть разве что у журнала "Летюч" и его главного редактора. Я не назвал их настоящими именами, только чтобы не очернить реальных людей, делавших "Птюч": в отличие от персонажей романа сотрудники Игоря Шулинского никогда не были вовлечены ни в какие уголовные дела. Другое дело, что истории, которые вспоминают герои, в самом деле могли происходить со мной или другими людьми, знакомыми и незнакомыми. Короче, все как всегда – сходство или совпадение имен, фамилий и фактов биографий случайно.
Неслучайно только совпадение со временем: потому что, как не крути, это книга про первую половину девяностых годов. Было бы несправедливо назвать роман "Подобно тысяче громов" апологией этого тяжелого периода в истории нашей страны. Напротив, это роман-обличение, живописующий картины нравственного распада людей, снедаемых всеми пороками своего времени: алчностью, сладострастием, себялюбием. Читатель встретит здесь персонажей, характерных для описываемой эпохи: коммерсантов, наживающихся на несчастиях русского народа, женщин, пожертвовавших своим целомудрием ради иллюзорных благ материального мира, наркоманов, погубивших свою жизнь и свой мозг употреблением так называемых легких наркотиков. Нынешняя редакция романа не оставит у читателя сомнения в злокозненности и порочности образа жизни, избранного для себя персонажами книги. Их счастье кратковременно и быстротечно; оно подобно молнии, обманчивый свет которой лишь на миг украшает небо, чтобы вернее низвергнуть в пучину смерти несчастных людей, ослепленных этим блеском.
Обличая в романе те или иные человеческие пороки, невольно приходится их живописать, предоставляя слово людям, чьи взгляды не может разделить ни автор, ни читатели. Я верю, что те или иные рассуждения, встречающиеся на страницах романа вследствие определенного характера некоторых действующих лиц, не смогут кому-либо повредить – независимо от того, касаются ли они экономики, морали или действия психоактивных веществ. Читателю следует только помнить, что в силу специфики художественной литературы, не все, высказанное на страницах романа отвечает взглядам автора. В реальной жизни же следует руководствоваться не сомнительными рассуждениями вымышленных лиц, а нравственным чувством и Законом Российской Федерации. И тогда, закрыв эту книгу, читатель с легким сердцем сможет повторить слова классика: "Как сильно изображенный в романе порок заставляет любить добродетель!"
Я считаю своим радостным долгом поблагодарить Екатерину Кадиеву – мою жену, первого читателя и редактора. Без нее эта книга никогда не была бы написана. Также я рад выразить свою благодарность Настику Грызуновой за блестящую редактуру, которая сделала этот текст намного лучше.
My special thanks Артуру Ладусансу, Гоше Мхеидзе и клубу Mix: во многом благодаря им состоялась вторая версия этого романа.
Я рад выразить свою благодарность Ксении Рождественской, редактору первой версии, а также Мите Волчеку, Александру Гаврилову, Алене Голяковской, Линор Горалик, Льву Данилкину, Владимиру (Диме) Ермилову, Демьяну Кудрявцеву, Максиму Кузнецову, Татьяне Макаровой, Александру Милованову, Юле Миндер, Вадиму Назарову, Сергею Немалевичу, Маше Нестеровой, Антону Носику, Кате Панченко, Станиславу Ф. Ростоцкому, Соне Соколовой, Сергею Соколовскому, Максу Фраю, Максиму Чайко, Вадиму Эпштейну, Леониду Юзефовичу, а также всем тем, кто поддерживал меня в девяностые и другие годы.
В заключении я хочу выразить особую благодарность Елене Дмитриевне Соколовой, без которой вторая версия этой книги никогда не была бы написана. Ее профессиональные консультации были для меня также чрезвычайно важны при написании первой версии.
Эта книга посвящается ее светлой памяти.
***
Комната кажется почти пустой. Несколько стульев, диван, низенький столик. Два чемодана у двери. На полу аудиоцентр – его завтра заберет Никита. Комната пуста, как тело, которое вот-вот покинет душа.
Юлик Горский нажимает кнопку электрического моторчика. С легким жужжанием инвалидное кресло катится к темному окну. За окном падают во тьме снежинки, светятся ночные огни домов, трассируют автомобильные фары далекого проспекта. Горский привык смотреть на Москву с четырнадцатого этажа – завтра он увидит город с высоты птичьего полета.
Приятного путешествия, одними губами говорит Горский, have a good trip[1]. Сколько трипов здесь было, сколько раз стены расцветали неведомыми цветами, колыхались, дышали, вибрировали в одном ритме с Космосом. Сейчас они неподвижны: серые невзрачные обои, стершийся рисунок. Только напротив дивана – приколотая булавками цветная картинка. Копия тибетской тангхи: разноцветная мандала, пары тибетских божеств четырех цветов танцуют по краям, а в радужном центре лотосовый владыка танца обнимает свою красную дакини.
Горский любил рассматривать тангху: иногда, покурив, он медитировал, и ему казалось: колышутся лепестки лотосов, изгибаются руки танцующих богов, а кровь вот-вот перельется через край чаши. Иногда он пытался медитировать без всякой травы – ему казалось, получалось не ахти как, только однажды померещилось: он вот-вот уйдет внутрь рисунка, как герои детских книжек, находившие двери в иные миры в самых необычных местах. За свою психоделическую жизнь Горский открыл не одну такую дверь – но сейчас он думает о закрытых дверях, о створках, что навсегда сомкнутся завтра.
Закрытые двери скрывают прошлое, прошлое – всегда тайна, даже если это прошлое – твое собственное. Будущее сулит исполнение желаний, будущее всегда открыто, хотя и не выполняет обещаний. Неподвижно сидя в кресле, Горский думал об этом одиннадцать месяцев – думал, тоскливо глядя на огни автомобилей, на мерцающую мозаику светлых оконных прямоугольников в доме напротив, на снежинки, тополиный пух, осенние листья, танцующие внизу, бессильные взлететь к окну. Листья не могут подняться выше третьего или четвертого этажа, думал Горский, я не могу подняться с кресла и, когда подойдет мой срок, тоже лягу на землю в ожидании белого покрова.
Иногда Горскому казалось, что осталось совсем недолго – даже если годы и годы, все равно – недолго. Жизнь вообще коротка – и наперед ясно, что от нее останется: кресло, окно, тангха на стене, музыка, по последней лондонской моде; трава, грибы, кислота, кетамин. В такие моменты Горский снова и снова повторял себе, что будущее – открыто. Даже здесь, заточенный в комнате на четырнадцатом этаже, он един с миром, един со всей вселенной, един с Богом, кем бы ни был этот Бог, чем бы Он ни был.
Одиннадцать месяцев Горский говорил себе, что случившееся с ним – это шанс. Шанс открыть внутренний космос, шанс обрести глубинную неподвижность, научиться принимать судьбу. Друзья говорили: ты прекрасно держишься. Они не знали – раз в неделю, даже чаще, Горский просыпался в слезах: ему снилось, что он танцует посреди dance floor, плавает в Лисьей бухте, спускается в метро, занимается любовью с Ириной, Машей, Катей… со всеми женщинами, которые были у него. Наяву он старался об этом не думать, наяву повторял: будущее – открыто, будущее всегда – чистая потенциальность, склад возможностей, магический цветок, исполняющий желания.
Горский смотрит в окно. Огни в доме напротив гаснут, снежинки кружатся, Москва засыпает. Закрытые двери прошлого хранят свои тайны. Словно шкатулки. Словно чемоданчик драгдилера. Словно нераспечатанный CD. Где-то за этими дверями – первая затяжка, непривычный сладковатый запах, трое подростков передают друг другу косяк, The Doors или Pink Floyd, дальше – Крымское солнце, московский снег, осенние листья в лесах под Ленинградом, крошатся в руках грибы, оживают предметы, мы едины с космосом, понимаешь? Потом – "Гагарин-Пати", эсид хаус, амбиент, техно, гул музыки, шум танков, идущих на Белый дом, далекий грохот орудий, щелчки выстрелов, стук подошв по осенней мостовой, резкая боль в спине. Койка в больнице, доктор, а чем вы делаете наркоз? Первый легальный трип, отходняк в палате, мы больше ничем не можем вам помочь, инвалидное кресло, четырнадцатый этаж.
Прошлое – закрытые двери в длинный коридор. То, что случилось за ними, случилось не с тобой. Тебя не было там, где сплеталась сеть, где падали в землю семена, там, где сокрыт исток твоего сегодня. Ты можешь только вообразить… только попытаться вообразить.
Почему комната почти пуста? Почему – собранные чемоданы, упакованные книги, только одна картинка на стене? Почему в бумажнике лежит билет на утренний рейс? Где начало, где исток, за какой закрытой дверью?
Только вообразить, только попытаться. Горский закрывает глаза, видит Антона. Тот стоит на балюстраде, опоясывающей большой холл. Дым косяка уже растаял, в ушах играет музыка, на поясе, как всегда – плейер. Что слушает Антон? Наверное, "Shamen", да, точно, "Shamen", он же говорил. Итак, Антон слушает "Shamen" и смотрит вниз, перегнувшись через перила. Там, в холле возле круглого стола – семь человек: пятеро мужчин и две женщины…
Значит, пятеро мужчин и две женщины. После травы стали четче не только звуки, но и очертания предметов – словно кто-то подкрутил ручку настройки в телевизоре или протер влажной тряпкой тусклое стекло. Фигуры в колодце холла двигаются, словно танцуя в каком-то безмолвном балете.
Пятеро мужчин и две женщины. Несколько бутылок водки на столе. Все уже изрядно пьяны, всем – за тридцать, как любит говорить Антон – старые алкоголики. Но музыка в наушниках, тетрагидроканнабиол в крови, конопляный дым в воздухе… даже такие люди кажутся красивыми, понимающими, интересными. Позитивными.
Сидор, Владимир Сидоров, улыбается сдержанно, руки заложил за спину. Высокий, широкоплечий, похожий на героя всех американских боевиков сразу. Двигается по холлу, стараясь никого не упускать из виду – не то хочет быть радушным хозяином, не то слишком привык все держать под контролем, не может расслабиться даже теперь, когда кругом свои, знакомы едва ли ни с первого класса. Он разговаривает с Поручиком, Борисом Нордманом, но то и дело окидывает взглядом гостиную.
Поручик размахивает руками, теребит черную бородку. Не то пьян, не то счастлив, не то возбужден. Почти одного роста с Сидором, но кажется ниже – все время двигается, вьюнком оплетает собеседника, размахивает руками, вжимает голову в плечи, переминается с ноги на ногу, танцует какой-то ему одному известный танец.
Рядом с ними – рыжеволосая стройная Женя. Вечернее платье, открытые плечи. Свет искрится на пальцах, на алмазных гранях колец. Золото и бриллианты, думает Антон, все-таки красиво, в самом деле. Даже без травы красиво, а сейчас – просто полный отпад. Он не сводит глаз с переливающихся Жениных пальцев. Кто бы мог подумать, что в дорогих вещах скрыт такой психоделический потенциал, думает он.
Все остальные сидят. Леня Онтипенко, голубоглазый толстяк, большие очки, золотая оправа. Улыбаясь, слушает Женю. Если бы тела отражали взгляды, как зеркало, он бы встретился глазами с Антоном, заторчавшим от бриллиантового блеска. Впрочем, Онтипенко смотрит не на пальцы, а на плечи, матовые, теплые, пахнущие духами и жарким потом… Он счастливо улыбается и не сводит с Жени глаз.
Дальше – Женин муж, плотный, коротконогий Роман Григорьев. Единственный из мужчин – в костюме. Сидит неподвижно, полуприкрыв глаза. Кажется, будто дремлет – и только изредка тянется к бутылке, наполняет рюмку и выпивает, чокаясь с Андреем Альперовичем. Альперович, худощавый брюнет, стоит, едва улыбаясь, то и дело барабанит пальцами по столу, смотрит то на Женю, то на Рому, а то – поднимает голову, на секунду встречаясь взглядом с Антоном. На Поручике, Альперовиче и Онтипенко – джинсы и футболки, Сидор – в черных брюках и белой рубашке, Женя в вечернем платье, Роман, как мы уже знаем, в костюме. Если бы здесь был мой брат, думает Антон, он разъяснил бы, что такие джинсы и майки стоят не дешевле вечернего платья или костюма. Жалко, что я в этом ничего не понимаю. Впрочем, почему жалко? Слава богу, я ничего в этом не понимаю, думает он.
Вот такой, значит, расклад. Трое стоят, четверо сидят, и Антон не слышит, о чем они разговаривают. Зато слышит, как Теренс Маккена вещает в наушниках: рейв-культура заново открыла магию звука и пророчит скорое достижение точки омега.
Четверо сидят, ах да, кто же четвертый? Конечно, Лера – полная брюнетка, черные ботинки, шерстяные носки, платье, скрывающее необъятную фигуру. Под платьем у нее корсет, крючки на спине, расстегивается удивительно легко, падает на пол, в одну кучу с черным платьем, черными трусами, черными ботинками, которые Лера сразу сняла, войдя в Антонову комнату. Антону кажется: Лерино тело все еще продолжает колыхаться, как сегодня ночью: это, наверное, эффект травы.
Амбиентное техно Колина Ангуса тянет за собой на пыльные тропинки внутреннего космоса. Антон поворачивает колесико громкости – но вместо того, чтобы прибавить звук, случайно сбивает до минимума. Слышен низкий глубокий голос Леры:…а тот ему: "Нет, моя очередь, ты уже за кофе сегодня платил", смех Сидора и Поручика. Роман, почти не поднимая век, пожимает плечами, Леня смеется, поправляя очки и не сводя глаз с Жени, а та едва улыбается. Андрей говорит:
– Смешно, но на самом деле – брехня. Мне такие не попадались.
– Да ну, старик, – вступает Поручик, – ты же мне рассказывал: тебе Круглов "Rolex" подарил. На ровном месте.
– Так это же был не подарок, – отвечает Андрей. – Это было вложение. Инвестиция. Я взял часы и я ему должен. Не надо было брать, к слову.
Антон делает музыку громче. Он чувствует себя ди-джеем: вместо одной из вертушек – живые люди. Можно выключить или сделать чуть тише – всего один поворот колесика. Видеоклип, думает он, наблюдая, как Поручик разливает "Абсолют" по рюмкам, единственный в мире видеоклип из жизни русских коммерсантов под Re: Evolution. Очень круто. Снять и продать на MTV. Это в самом деле красиво.
Семь фигур в колодце холла, безмолвный балет, тайная красота, скрытый смысл. Может, только новое звено в цепи иллюзий, результат третьего подряд косяка. Но понимание столь властно, столь могущественно, что Антону не хочется от него отказываться. Все приобретает смысл, все события последнего месяца стягиваются к сегодняшнему вечеру…
Еще три недели назад Антон работал барменом в ресторане "Санта-Фе" – на верхнем этаже модного клуба "Гиппопотам". Это была хорошая работа – через два дня на третий – начальство ценило Антона: он не пил на работе. Это было нетрудно: Антон и вне работы абсолютно равнодушен к алкоголю. В его жизни хватает веществ поинтереснее – собственно, благодаря этому интересу он с работы и вылетел.
В дымно-пьяный июльский вечер Антон, как всегда слегка подкуренный, разговорился с клиентом, типичным героем анекдота о "новых русских" – малиновый пиджак, золотая цепь в палец толщиной. Ему бы зваться Вованом, а он представился Юриком.
– А вот ты, сколько можешь выпить? – спросил он Антона, и тот не сдержался:
– А зачем мне пить? Ни ума, ни смелости. Вот калипсол!
– Чего? – переспросил Юрик.
– Кетамин. Знаешь, в ампулах. У первой аптеки продают.
– А его что, пить?
– Зачем пить? В мышцу колоть.
Потрясенный Юрик ушел. Небось к первой аптеке двинул, подумал Антон.
Идею заменять алкоголь калипсолом подкинул Антону Никита: однажды отец пристал к нему – мол, я знаю, вы с друзьями наркотики употребляете, мне тоже хочется попробовать. Никита вкатил отцу два куба гидео-рихтеровского калипсола, отправил в жесткий полуторачасовой трип, а сам с интересом естествоиспытателя сел ждать последствий. Очнувшись, отец некоторое время лежал молча, а потом произнес:
– Это очень хорошая вещь. Правильная.
С тех пор венгерский пузырек с зеленой крышечкой всегда стоял у Никитиного отца в баре – между то и дело меняющимися поллитровками водки и неизменной бутылкой виски Black Label.
Впрочем, может, все это брехня: что взять с Никиты? Калипсол – вещь на любителя, нормальные люди такого трипа себе не пожелают.
Так или иначе, Юрик оказался не столь open-minded[2]. Через пять минут выяснилось: ушел он вовсе не к аптеке, а к владельцам ресторана – жаловаться на бармена который хотел толкнуть ему героин. Антон пытался объясниться – да у меня же ничего с собой нет, хоть обыщите! да героин вообще говно! – но даже неопровержимый, как ему казалось, довод – сами подумайте, героин же по вене колют, а я что говорил? Я говорил «в мышцу»! – не произвел никакого впечатления: с работы он вылетел. Хорошо еще накануне выдали зарплату: сто долларов Антон заплатил хозяйке квартиры, а на остаток купил у Валеры травы – чтобы не было проблем со всем остальным.
Правильное решение, в очередной раз говорит себе Антон. Правильно три недели ездить по гостям, курить, слушать новые треки Orbital, Moby или The Foundation K, читать по вечерам Кастанеду. Правильно не париться насчет работы – рано или поздно работа сама тебя найдет, найдет и заговорит в трубке голосом бывшего коллеги, официанта из того же "Санта-Фе": мол, cтарый клиент ищет на выходные официанта для частной вечеринки у себя на даче. Правильно – согласиться, не объясняя, что, мол, бармен и официант – это разные вещи; правильно – спросить цену и кивнуть удовлетворенно: одни выходные решают все проблемы на месяц вперед.
Антон захватил с собой остатки травы и через два дня вошел в большой двор загородной усадьбы, напомнивший кадр из американского фильма – столько там стояло иномарок. И вот теперь Антон смотрит вниз с галереи да крутит колесико громкости – то потише, то погромче. Когда "Shamen" затихает, слышна музыка снизу. Антон не знает песни, но узнает столетней давности диско. Он смотрит вниз: Поручик танцует с раскрасневшейся от водки Лерой, Женя молча сидит на стуле с высокой спинкой, в разрезе платья видны длинные ноги. Леня Онтипенко смотрит на нее и счастливо улыбается. Сидор, перекрикивая музыку, рассказывает, как по наводке Альперовича купил усадьбу. Роман, приоткрыв глаза, спрашивает Альперовича:
– А почему сам не взял?
– У меня нет гигантомании – отвечает Альперович. – Мне бы чего поменьше.
– Восемнадцатый век, не хрен собачий! Красота! – кричит Сидор. – Главное – подоконники широкие.
Антону нет дела до подоконников, но дом понравился ему с первого взгляда. Интересно, думает он, Костя потянул бы такой? Странно, когда у родного брата столько денег, что уже не видишь разницы между ним и настоящим миллионером – Костя говорит, миллиона у него нет. Если, конечно, считать только наличные и деньги на счетах. А если не только наличные и на счетах – значит, есть? Не отвечает, отшучивается. Надо его спросить, думает Антон, потянул бы он старый помещичий дом, снаружи – усадьба, изнутри – лабиринт? Первый хозяин был, вероятно, масоном, располагал комнаты в согласии с тайным, символически-осмысленным планом. Поклонник Иоанна Арндта и Роберта Фладда, вольный каменщик, руководил крепостными строителями, по мере сил воссоздавая разрушенный Храм. Мог ли он знать, споря с друзьями о Французской революции и якобинском терроре, что через сто с небольшим лет его усадьбу начнут обживать самозванные наследники Сен-Жюста и Робеспьера? Они снесли арки, заменили мозаичный пол обычной плиткой, перестроили оба крыла в стиле заурядных советских учреждений: коридоры и кабинеты с двух сторон. Возможно, думает Антон, в этом тоже скрыта эзотерика – но сегодня она забыта основательнее, чем масонство. Нетронутой осталась только центральная зала и семь комнат, выходящих в нее. Зачем владелец-масон разместил у входа в каждую странные знаки? Для чего планировались резные секретеры, такие огромные, что даже в советские времена их не стали передвигать? Что сказали бы прежние жильцы, увидев, как в комнатах собирают итальянские золоченые кровати? Похоже, Сидор этими вопросами не задавался: он сделал из комнат спальни, а залу превратил в гостиную. Антону досталась комната на втором этаже, ну и хорошо.
И вот со своего наблюдательного пункта Антон пытается почувствовать скрытую гармонию семи комнат – безо всякого, впрочем, успеха. Почему так? думает он. Одни вещи легко сцепляются друг с дружкой, словно части паззла, а другие, как ни бейся, не складываются в единый рисунок. Что бы, интересно, сказал об этом дон Хуан?
Плейер замолчал, и, переворачивая кассету, Антон слышит, как Поручик кричит, по обыкновению подпрыгивая и размахивая руками:
– Ромка, помнишь новогоднюю дискотеку?
– Дискотеки – это не по моей части, – отвечает из своего кресла Роман.
– Ну да, – говорит Андрей, – ты тогда был комсомольским боссом.
– Я тоже, – пожимает плечами Сидор, – ну и что?
Теперь Сидор танцует вместе со всеми, напевает, перекрикивая музыку Синий, синий иней лег на провода, но, даже танцуя, то и дело бросает взгляд вокруг, проверяет – все ли в порядке? Шесть человек гостей, семь дверей в комнаты, выход во двор, парень на галерее сверху… все нормально, все хорошо.
– А помните, мы анекдот сочинили и Кларе Петровне хотели рассказать? – спрашивает Поручик. – Как выходит Леонид Ильич, достает текст речи и читает, – Поручик на секунду замирает, корчит рожу: – "Дорогие товарыщи, вас никогда не били мокрым веслом по голой пиз… простите, я случайно надел пиджак поручика Ржевского". Идеальный анекдот, точно.
Антон снова включает плейер. Ради одного этого стоило сюда ехать, думает он. Тупой анекдот, сочиненный пьяными восьмиклассниками неведомо когда, открывает правду об изначальном мире, где живут герои анекдотов, выходя то в одну, то в другую шутку, будто раскрывая двери в комнаты, окружающие большую залу. Антон вспоминает, как Горский рассказывал ему про универсальный мир идей ("сокращенно он должен называться универмир, наподобие универсама", – пошутил тогда Никита). Видимо, даже Поручик чувствует, что этот мир существует, думает Антон и смотрит на беззвучный танец в аквариуме гостиной. Женя встала, говорит что-то, все смотрят на нее, Поручик и Лера перестают танцевать, Сидор подходит ближе, Альперович поворачивается к ней, даже Роман открывает глаза.
Антон выключает плейер и смотрит вниз. Женя стоит, подняв руку, свет играет на бриллиантах.
– Это мой последний лепесток, – говорит она, подносит руку к лицу, кладет что-то в рот… Антон не видит сверху – что.
– А с ума ты сейчас не сойдешь? – спрашивает Сидор.
– Здоровым людям, – отвечает Лера, – это только полезно. Да и доза небольшая.
Ух ты, думает Антон. Доза небольшая. Что же это такое? Табл экстази? Марка кислоты? Сюрприз, иначе не скажешь. Надо бы дунуть еще разок, думает он и лезет в карман. Чужой трип особо хорош, когда сам немного high. Но закурить Антон не успевает: Женя вскрикивает и, хватая ртом воздух, падает на ковер. Лицо ее краснеет, она задыхается.
Вот тебе и трип, думает Антон, и в этот момент Роман вскакивает с кресла, бросается к Жене, которую уже поднимает Сидор. Да она умирает! кричит Роман, и они несут Женю мимо побелевшего Онтипенко, мимо замершей Леры, мимо оторопевшего Поручика. Она умирает, эхом повторяет Альперович, и Антон хочет объяснить, что они сели на измену, ничего страшного, умирают только от героина, а так – чуть-чуть подождать и все пройдет, да, они сели на измену, просто перекурили – и тут Антон понимает: курил он один, и, значит, это не приступ паранойи, все по-настоящему: судорожно глотая воздух, в окружении шести одноклассников, на руках у мужа и друга Женя Королева отправляет свою душу в последнее путешествие.
Значит, семеро. Пятеро мужчин и две женщины. И круглый стол между ними. Короны украшали их головы. Безмолвие упало, словно приговор. Они не простили измены. Теперь ничто не могло спасти Имельду.
Много раз за последние месяцы Горский пытался представить себе жизнь Милы Аксаланц. Теперь, последней московской ночью, он глядит на снежинки за окном и снова спрашивает – на что это было похоже? Бесконечный трип или просто – тяжелый, вязкий бред, от которого нет спасенья? Когда все началось? В школе? В первом классе? В детском саду? Еще раньше? Когда Мила впервые увидела эти лица? Когда впервые произнесла неведомые имена? Как нашла себе подругу, как стала Имельдой, как превратила Алену в Элеонор? Кто первый произнес слово Семитронье?
Две девочки, играющие в принцесс. Дни напролет в вымышленном мире акварельных рисунков, кукол в самодельных платьях, замков из немецкого конструктора. Бубнеж телевизора из соседней комнаты, стихи Сергея Михалкова на уроках, красные ленты ежесезонных лозунгов. Вымысел оброс плотью, герои обрели имена. Одноклассницы листали журнал "Burda", учились сплетничать о мальчиках и курить болгарский "Опал", а Мила с Аленой все дальше уходили в причудливый мир Семитронья. Их звали Имельдой и Элеонор, пять королей сражались за их руки и сердца. Они не могли сделать выбор, они знали – только всемером они могут возродить древний Стаунстоун, лежащий в руинах, где семь гигантских необтесанных камней напоминают о временах великого царства.
Если школьная жизнь была реальностью, то Семитронье – больше, чем реальность. Подлинная реальность, скрытый мир, придающий смысл повседневному существованию. Наверное, она думала так, говорит сам себе Горский и смотрит в окно на танец снежинок. Во всяком случае, только это я могу себе представить.
Все началось весной. Зазвонил телефон, Мила спросонья взяла трубку, услышала мужской голос – Солнце восходит над Стаунстоуном, – и тут же гудки, словно кто-то ошибся номером. Наверное, она подумала: я все еще сплю. Недоумевающе посмотрела на трубку. Конечно, сплю. Как же иначе? И только днем, уже на третьей паре, она вспомнила голос – и узнала его. Дингард, один из королей Семитронья. Это был он.
Потом были и другие сигналы. Телефонные звонки, рисунки на лестничной клетке, контуры облаков в окне. Мила никому не могла об этом рассказать. Конечно, ей было одиноко. Она с тоской вспоминала времена, когда они были вместе – Мила и Алена, Имельда и Элеонор. Но Алена предала ее – нет, не только ее, все Семитронье! – она была изгнана, лишена имени. Элеонор все еще жила в своем замке, но за последний год Мила и Алена не заговорили друг с другом ни разу.
Да, с самого начала Мила знала: Семитронье не вымысел, не детская сказка. Это правда – иная правда, сокрытая от всех, кроме нее и Алены. А теперь, после Алениной измены – от всех, кроме нее, Милы. Где-то в иных пространствах, в иных временах ждет воссоздания замок с семью башнями, возвышаются семь огромных необтесанных камней, на которых грубо вырезаны символы планет; дышит, ворочается, вздрагивает иной мир, подлинная реальность. Мила одна знала туда дорогу – и вот теперь, словно в благодарность за многолетнее терпение, двери приоткрылись, вздох Семитронья прошелестел над весенней Москвой.
Госэкзамены Мила сдала словно в тумане; казалось, кто-то чуть слышно подсказывает ей ответы, воскрешая в памяти слова, не услышанные на лекциях. Тайные сигналы проступали меловыми каракулями на институтских досках, тенями на полу аудиторий, дуновением ветра сквозь распахнутое окно. Иногда – голосом в телефонной трубке.
Они не разговаривали – просто иногда, по утрам, когда родители уже уходили и Мила просыпалась, Дингард напоминал о себе – фразой, несколькими словами, именами, которых никто не знал, только Мила. Она вешала трубку – это все еще сон? – и шла умываться, сомнамбулически переставляя босые ноги по липкому паркету. Временами какой-то смутный образ мелькал на краю сетчатки, словно мираж в пустыне – но она не могла ухватить его. Дингард не оставлял следов – даже надписи на следующее утро исчезали со стен. Только память хранила слова телефонных приветствий.
И тогда Мила стала просить о встрече. Редко ей удавалось сказать больше одной фразы – гудки прерывали ее, – но день за днем она молила Дингарда прийти, воплотиться, дать прикоснуться к нему, посланцу Семитронья, выходцу из иного мира.
В начале августа родители взяли в пятницу отгул и уехали на дачу. Мила отказалась – хотела побыть одна, вызвать Дингарда, приманить его, притянуть к себе, вцепившись в тонкие астральные нити телефонных разговоров. Три дня одиночества. Никто не помешает сидеть в кресле почти не двигаясь, пить крепко заваренный чай из бабушкиной чашки, покрывать завитушками чистый лист бумаги, ждать звонка, мечтать о встрече.
Было ли это правильное решение? Горский боялся ответа на этот вопрос, но знал: мольбы Милы были услышаны. В первый же день она получила письмо.
Она сделала все, как просил Дингард. Вечером в субботу потушила свет в квартире, зашторила окна, прикрыла – но не заперла – дверь, разделась и легла в постель, положив письмо у изголовья. Дингард просил завязать глаза шелковым шарфом, но Мила нашла только вязаный мохеровый, в котором ходила еще в детский сад. Плотным кольцом он обхватывал голову, ворсинки щекотали нос, Мила вспоминала, как бабушка одевала ее каждое утро, эти мысли показались ей неуместными. Думай только о нем, приказала она себе, думай, не позволяй ни одной мысли тебя отвлекать. Бабушка, мама, папа, Алена – выброси это из головы.








