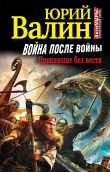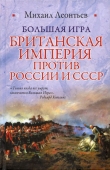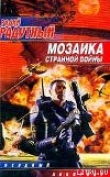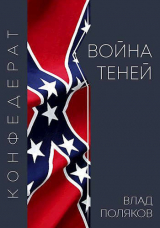
Текст книги "Война теней (СИ)"
Автор книги: Владимир Поляков
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Доверия к подобному уничижению со стороны азиатов, конечно, не было и быть не могло. Что сам военный губернатор, что его приближённые в большинстве своём знали повадки Востока. Кто-то воевал на Кавказе, кто-то здесь ещё до Чимкента, иные и вовсе умудрились побывать как там, так и здесь. Оттого знали, что верить азиатам нельзя в принципе, особенно таким вот, готовым сегодня целовать сапоги победителя, а завтра, усыпив бдительность, вонзить в спину отравленный кинжал или подсыпать яду в стакан… особенно уповая на то, что «Аллах велик и всё делается во славу Всевышнего».
Однако подобные «депутаты», представители народа, выражающие полную покорность – как раз то, что требовалось Черняеву. И пусть носиться с ними, аки дурак с писаной торбой, он не намеревался, но вот отправить их в уже очищенную часть города до окончания активной части штурма – это было можно и нужно. Разумеется, не просто так, а под «нежный и ласковый» присмотр части своих войск. Тот присмотр, при котором в сторону наблюдаемых всегда готовы развернуть штыки или просто пристрелить при малейшей попытке взбрыкнуть.
И ещё… Та самая ситуация с русскими пленниками и теми, кто изображал из себя их хозяев. Об этом тоже спросили, напомнив, что если кто соврёт – того за недоносительство в лучшем случае выпорют кнутом и конфискуют большую часть имущества. Ну а собственно «хозяев» по любому ждёт если не петля, то пуля в глупую голову.
Любят в краях восточных друг на друга доносить. Только вот насчёт правдивости следовало проверять и перепроверять. Поэтому Черняев и не отдавал приказ вешать сразу, понимая необходимость сперва подтвердить правдивость сказанного. Единственное исключение – это если обвинение прямиком от бывших пленников звучало, что тут на рабском положении находились. Нескольких таких несчастных уже нашли, в живом или почти живом состоянии. И их рассказы… ну, для прошедших кавказское чистилище ничего нового в этих рассказах не было, а вот кое-кого из менее опытных затронуло до глубины души. Но что одни, что другие были единодушны в том, что спускать такое не следует. А христианское милосердие и прощение… Не здесь, не сейчас и уж точно не этим. Вот и повисли на верёвках пара десятков тех, чья вина была доказана сразу и без возможностей обжалования тем либо иным манером. Слова русских людей военный губернатор Туркестана ценил куда выше, нежели льстивые заверения местных. Потому и задергали ногами в петлях разные и всякие, считающие, кто могут держать у себя как говорящую скотину подданных государя-императора. Новая политика империи, тесно связанная с союзом с империей другой, заокеанской, уже работала, принося свои плоды. И многим она нравилась куда больше той, прежней, излишне мягкой.
Страх перед завоевателем. Ужас от неотвратимости наказания тех, кого эти завоеватели считали своими врагами. Осознание того, что если не вообще, то уж в ближайшее время к пришедшими сюда «неверными» не договориться, не подкупить и не убедить. В общем, изъявившие свою покорность притихли по настоящему, опасаясь даже излишне громкими словами разозлить новых хозяев Ташкента. Именно хозяев, поскольку мало у кого имелись сомнения, что совсем скоро весь город, включая и цитадель, станет подвластен пришельцам из далёкой России.
Ночь, она прошла совсем не спокойно. Сконцентрировавшиеся на базарной площади и в цитадели войска бурлили, то и дело пытались то атаковать русских, то прорваться за пределы города, но все бестолку. Все ворота уже контролировались войсками Черняева, орудия и пулемёты держали под обстрелом возможные сектора прорывов. Ну а освещение… Местами подожженные дома, большие костры, горящие баррикады, ранее возведённые защитниками – всё это давало достаточно света, чтобы отражать попытки прорыва и невразумительные атаки разрозненного, деморализованного, потерявшего общее командование противника. Ах да, ещё по базарной площади ударили остатками ракет. Ну так, чтобы добавить огоньку и паники.
Утро двадцать седьмого июля оказалось траурным для одних и значимым для других. Запертые в центре города остатки войск противника окончательно осознали своё печальное положение. Осознав, стали сдаваться. Не все, не сразу, но бросающих оружие было достаточно для понимания – Ташкент захвачен, ну а пока не подконтрольная Черняеву цитадель – это так, вражеская агония и не более того.
Агония и страх. Оказалось, что более прочего остававшихся на базаре и даже в цитадели испугали именно виселицы, на которых так и остались висеть те, кто владел русскими рабами. Очень не желая оказаться рядом, представители ташкентской знати при поддержке немалой части гарнизона цитадели схватили как самого Алимкула Хасанбий-угли, так и наиболее важных персон вроде Сиддык-Тура, Арслан-Тура, Мохаммеда Салих-бека и ещё нескольких столь же значимых.
Чего они просили? Всего лишь дать возможность убраться из Ташкента целыми и невредимыми, с семьями и имуществом.
Помня о том послании бухарскому эмиру, Черняев, пусть и скрипя зубами, решил согласиться, получив пускай не всё, но большую часть. Особенно столь важную птицу как самого правителя Коканда, который был нужен не столько ему, сколько самому императору. Точнее сказать, императорам, Российскому и Американскому, отцу и сыну Романовым. Зачем? Уж точно не по образу и подобию того, что случилось с имамом Шамилем. Тот то жил в полном комфорте, пусть и под хорошей охраной, что вызывало у немалой части воевавшего на Кавказе офицерства в лучшем случае глубокое непонимание, а в худшем абсолютное неприятие случившегося. Но то было тогда. теперь же… Был такой город под названием Нью-Йорк, а в нем не так давно случилось действо под названием заседание Международного трибунала по Гаити. Ну а в депешах от графа Игнатьева недвусмысленно звучало, что если удастся захватить действительно важных пленников, то обращаться с ними с предельным тщанием, дабы отвезти по ту сторону Атлантики. Причина? Показать, что не одна Американская империя заботится о том, чтобы разного рода дикари даже помыслить не смели о том, чтобы поднимать руку на тех, кто им ни в каком месте не ровня.
Как бы то ни было, а Ташкент был взят. Со взятием этого города Кокандское ханство становилось гораздо слабее и несомненно стало бы искать защиты у Бухары, а то и Хивы. Нужно ли это было Российской империи? Разумеется, нет. Ей требовался покорный Туркестан и ничто иное. Поэтому конец июля 1864 года являлся для военного губернатора Туркестана генерала Черняева не концом этой миссии, даже не серединой, а всего лишь завершением первых, пускай и чрезвычайно важных, шагов. Да и вообще, у него было намерение стать не просто губернатором края, а полноценным наместником тех земель, которые он завоевал для империи. И теперь, когда удалось доказать, что Алие-Ата и Чимкент не были случайными улыбками фортуны, его положение становилось необычайно прочным. А коли так, то следовало ожидать и новых пополнений, и увеличившегося влияния и, разумеется, новых наград. Как для себя, так и для своих людей, которые после случившегося готовы были идти за своим генералов что в огонь, что в воду. что в самое сердце здешних песков. Причём последнее от них потребуется уже в самом скором времени. Ведь останавливаться на таком пути, значило стрелять себе в ногу.
* * *
Вспоминая произошедшее в году минувшем, находящийся сейчас именно в Ташкенте военный губернатор Туркестана аж прищурился от удовольствия. 1864 год стал для него ступенькой, что вознесла на иную, доселе не ожидаемую даже высоту. Стать военным губернатором нового края, к тому же с перспективой скорого становления наместником… не будучи при этом по крови связанным не то что с домом Романовых, но и просто с высшей аристократией империи – это сильно. Исключительно собственные достижения, отрицать которые не получалось даже у большинства завистников и откровенных врагов. Всего то и понадобилось, что свобода действий, полностью развязанные руки и отсутствие помех при получении подкреплений из метрополии.
Да, именно метрополии. Черняев не был наивен, потому понимал, что у Российской империи колоний по факту немногим меньше, нежели у той же Британии, Нидерландов, Франции и иных стран. Просто у тех они отделены от метрополии морями, а у России словно прилепились к изначальным землям. Та же Сибирь, Камчатка, Кавказ, теперь вот и Туркестан. Похожие дикари-аборигены, периодически возникающие проблемы с ними, которые приходилось решать мерами разной жесткости. И сам термин инородец, применяемый к местным жителям, он о многом говорил. Ведь не являлись инородцами жители Польши, Лифляндии, Финляндии. Никому и в голову бы не пришло так отзываться о финнах с поляками и прочими латышами с эстонцами и прочими. Не-ет, каждому своё наименование, отражающее суть.
Взглянув на висевшую на одной из стен его кабинета подробнейшую карту Туркестана и прилегающих земель, Черняев поневоле улыбнулся, расслабившись в своем кресле. Карта была не просто так, а особенная, показывающая пошаговое расширение Туркестана за последнее время. Вот первый бросок, во время которого были захвачены Алие-Ата и Чимкент. Рывок уже летний, когда пал Ташкент, в котором он сейчас находится, равно как и немалое число мелких и относительно мелких поселений, тогда ещё принадлежащих Кокандскому ханству.
И рывок третий, уже осенний, во время которого он даже рискнул разделить силы, устроив походы на Джизак и Ходжент, пользуясь сумятицей в Коканде и особенно тем, что номинальный правитель, Сеид-хан, в попаданием в русский плен правителя настоящего, аталыка Алимкула Хасанбий-угли, не смог удержаться на троне, уступив его одному из прежних владельцев, Худояр-хану. Любой переворот, особенно тут, в азиатских землях, сопровождается сумятицей и снижением готовности воевать. Есть куда более важные дела, а именно необходимость закрепиться на только что взятом троне. Потому Джизак и Ходжент и не могли рассчитывать на поддержку из столицы. Быструю так уж точно. Да и не ожидал никто, что Черняев совершит ещё один бросок, не успел даже в полной мере укрепиться в спешно восстанавливаемом Ташкенте.
Просчитались! Они, а вовсе не военный губернатор Туркестана. Черняев как раз всё верно сделал, пользуясь удобным случаем, не давая противнику опомниться. И про фактор деморализации помнил. Только фактор фактором, а во главе высылаемых на взятие Ходжента и Джизака отрядов должны были стоять люди определённых талантов. Хорошо, что они с недавних пор имелись.
Присланный в августе в помощь генерал-майор Дмитрий Ильич Романовский – не сам по себе, а с ещё двумя тысячами солдат, дополнительными орудиями, пулемётами и боеприпасами в большом числе – был опытным офицером. Кавказ, затем противостояние туркам во время Крымской войны. Теперь вот прислали сюда, понимая востребованность именно таких людей с особенным опытом. Где-то с полгода и тем более с год тому назад Черняев мог бы воспринять прибытие Романовского как угрозу собственному положению и отнестись соответственно. Но к концу лета 1864 года ситуация настолько изменилась, что сковырнуть его с места военного губернатора Туркестана могли, пожалуй, лишь фигуры уровня графа Игнатьева и сыновей императора. Уж точно не давний соперник и недоброжелатель вроде Оренбургского губернатора, генерала Крыжановского. Тот и рад был бы ограничить, прервать взлёт соперника, но уже не имел к тому возможностей.
Романовский был присланным, а вот Александр Абрамов находился среди офицеров Черняева с самого начала проникновения в Туркестан. Показавший себя при взятии Алие-Ата и произведённый за это в штабс-капитаны и награждённый. Затем Чимкент, принесший тому очередной орден и капитанский чин. Ташкент и очередное повышение, теперь до майора. Жёсткость, решительность, готовность к продуманному риску и в то же время осторожность там, где она была необходима. Черняев обоснованно видел в этом талантливом офицере большое будущее. Более того, ценил личную преданность, благо Абрамов видел, что его командир прикладывает немалые усилия для продвижения подчинённого.
Именно поэтому отряд под командованием Романовского отправился брать Ходжент, а майор Абрамов двинулся в направлении Джизака. И уж точно не мог забыть о словах, что: «Возьмёшь город – погоны подполковника на плечи упадут, да и новое представление на орден образуется. Пост коменданта Джизака тоже лишним для карьеры не окажется».
Здоровый карьеризм и жажда славы – вот то, что всегда подгоняет честолюбивых офицеров, готовых оказаться даже в песках Туркестана, лишь бы заявить о себе во весь голос. Вот и заявили что Романовский, что Абрамов, своими действиями принося пользу ещё и генералу Черняеву как военному губернатору всего это края.
Казавшийся неприступным Ходжент пал во второй половине сентября. Полная деморализованность защитников. опасения, что начнутся казни тех, кто имел русских рабов. Понимание превосходства русских войск как в силе оружия, так и в умении им пользоваться. В общем, из Ходжента многие удрали, лишь услышав весть, что по направлению к городу движутся войска Российской империи. При таких изначальных преимуществах задача штурма города для Романовского стала не слишком сложной. Хоть сам он и не мог похвастаться подобным опытом, но среди офицеров выделенного ему отряда имелись участвовавшие во взятии Чимкента и Ташкента. Отсюда и результат. Обстрел, ракеты, использование штурмовых лестниц и… И даже полноценных боев внутри крепостной стены не случилось. Оставшиеся в Ходженте защитники словно сами ждали повода сдаться на милость победителей. Генералу, несколько обескураженному незначительностью сопротивления, только и оставалось, что принять ключи от города, разоружить местных, да начать составлять депешу в Ташкент.
Касаемо же Джизака, так он пал в начале октября, после непродолжительной, но очень интенсивной осады. Майор Абрамов, помня, как хорошо подействовало сочетание ракет и артиллерии, да и имея сведения о сильных и слабых местах городских укреплений, выбрал пару уязвимых мест, в которые и начал бить. Пролом, прорыв, концентрация огня на кажущихся опасными направлениях. Вкупе со схожим предъявленному в Ташкенте ультиматумом это не добавило защитникам уверенности в собственном будущем. Зато вновь подтвердило, что местные ханы с баями, получив прямые доказательства силы пришедшего на их земли войска, вовсе не склонны стоять до последнего. А уж если оставить им тропинку для бегства, непременно ей воспользуются. Не все, но наиболее осторожная их часть, а заодно те, кто в силу хоть какого-то разума понимали, что выбор у них с приходом русской армии окажется лишь между пулей и верёвкой.
Как бы там ни было, а с падением Ходжента и Джизака Кокандское ханство критически ослабело, став совсем уж лакомой добычей для всех своих соседей. Каких именно? Первым делом Бухарского эмирата, конечно, поскольку Хивинское ханствонаходилось не в очень удобном положении для атаки на то, что осталось от Коканда. Другое дело, что у эмира Бухары с хивинским ханом хватило сообразительности, чтобы понять очевидное – если они сейчас кинутся разрывать на части оставшееся от соседа – в будущем году им непременно скажет большое спасибо генерал Черняев, после чего… Ну, дальнейшее являлось очевидным.
Что они вообще могли сделать? Напрашивалась попытка решения проблемы дипломатическими средствами с опорой, понятное дело, на Британию, поскольку именно британские советники давно и прочно сидели в этих государствах. Однако… Протесты владык Бухары. Хивы и изрядно урезанного Коканда, направленные «куда-то в Европу» могли дать результат лишь при иной обстановке, если бы в Санкт-Петербурге прислушивались к тому, в адрес чего ворчат их геополитические противники и не столь давние враги. Кто? Британия с Францией, понятное дело. И будь на месте канцлера и главы внешней политики империи Горчаков – подобное могло бы получиться. Партия же графа Игнатьева, ориентированная на идеологию панславизма в частности и доминирования Европы во всём остальном мире расценивала взвизгивания из азиатской глубинки как ничего не значащий шум. Вроде вьющихся вокруг комаров. Более того, все права на дипломатические переговоры в Средней Азии были поручены… военному губернатору Туркестана как человеку, наиболее остальных разбирающемуся в ситуации, а к тому же показавшему себя как верный слуга государев.
Получалось, что в итоге все эти жалобы из Коканда, Хивы и Бухары, сделав круг, возвращались аккурат сюда, в Ташкент, на стол к Черняеву, которого ситуация откровенно забавляла. Только не забавами едиными, поскольку в текстах жалоб можно было найти среди словесного мусора и нечто более ценное.
Правитель Коканда Худояр-хан. Бухарский эмир Сеид Музаффаруддин Бахадур. Хан Хивы Мухаммад Рахим-хан. Вот та троица правителей, само существование которых было для Черняева одной из главных проблем в его нелёгкой деятельности главы Туркестанского края. Иными словами, земли этих трёх правителей он рассматривал как будущие части своего Туркестана, наместником которого его недвусмысленно обещали сделать, если за ближайшие несколько лет он сумеет привести хотя бы половину этих земель под власть Российской империи.
Предпосылки для успешного развития событий имелись. Начать следовало с того, что взятие Джизака и Ходжента по сути отрезало остатки Кокандского ханства от их естественных союзников, Хивы и Бухары. Не полностью, конечно, но наиболее удобные для перемещения войск пути перекрывались. А не очень удобные и совсем не удобные… Черняев знал, что такое двигать армию или даже относительно большие отряды по слабо пригодным для таких перемещений путям В общем, Коканд до поры можно было оставить «вариться в собственном соку», поскольку свара за трон могла закончиться быстро, но новый-старый хан Худояр мог и не усидеть на вновь занятом троне. И тогда… А ещё можно было тихо и незаметно помочь его соперникам. Небольшой толикой золота поддерживая в тех желание и возможности мутить и без того не кристально чистую кокандскую воду.
И всё равно, связь Худояр-хана и эмира Сеида Музаффаруддина Бахадура была довольно прочной. Правитель Бухары понимал, что Худояр-хану нужна поддержка, потому слал понемногу воинов, советников, оружие. Сам же начал получать поддержку не только от британцев, но и со стороны Османской империи. Единоверцы то были бухарцам куда ближе каких-то там совершенно чужих и непонятных англичан.
Что до Хивы, так Мухаммад Рахим-хан продолжал пребывать в полной, практически абсолютной уверенности в неприступности своего ханства. Не из-за какой-либо особой защиты крепостей. Не вследствие высокой боеспособности войска и многочисленной новейшей артиллерии. Вовсе нет! Исключительно географическое положение Хивы, подступы к которой для действительно мощного войска были предельно затруднены. Вот и смотрел свысока на остальных, считая, что до него точно не доберутся.
Черняев понимал, что со взятием после Ташкента Джизака и Ходжента, требуется в очередной раз остановиться. Укрепление недавно захваченного, очередные просьбы прислать не только солдат и боеприпасы, но и специалистов, и гражданскую администрацию. Давать хоть тень власти местным – на такое он идти не собирался. Видел, как это происходило. Пусти наряду с завоевателями местных, пусть даже на вторичные, вспомогательные должности – они совсем скоро будут пытаться пролезть и на другие места, для них совершенно не предназначенные. Навидался там ещё, на Кавказе. Только в том месте и в то время от него мало что зависело. Но здесь, сейчас…
Остаток осени и зиму – хотя тут, в Туркестане, она была совсем иной, нежели в родных краях – заняли дела мирные. И подготовка к новой военной кампании, теперь нацеленной на остатки Коканда и Бухару. В том, что она, кампания, неминуема, никто не сомневался, особенно сами властелины Коканда с Бухарой. Поняв ещё осенью, что на их возмущённые крики в Санкт-Петербурге плевать хотели, попробовали было иной подход – мирный. Отправили в Ташкент к губернатору Туркестана посольство, с целью договориться о мире на вроде как выгодных для России условиях. Торговые договора, признание уже изменившихся границ, обещание прекратить набеги на русские земли. Однако…
То самое слово «однако», без него никак нельзя было обойтись. Черняев, пользуясь своей предельной самостоятельностью в туркестанских делах, выставил властелинам Коканда и Бухары такие встречные условия, что те от них откровенно ошалели. Полный возврат всех захваченных пленников – не только русских, но и возможных случайно оказавшихся иных европейцев. Выплата каждому из них компенсаций в зависимости от времени, проведённого в плену. Да таких, что они стали бы откровенно разорительными для державших их на положении рабов. Контрибуция – с Коканда большая, с Бухары тоже совсем не маленькая – сильно ударяющая по финансовой стабильности обоих государств. Допуск русских делегаций с целью доскональной проверки ханства и эмирата на предмет, не скрывают ли они оставшихся пленников и не прирезали ли их по тихому, чтобы не платить те самые откупные. Ну и относительно торговли – на неё также планировалось наложить существенные ограничения, поставить под почти полный контроль из столицы Туркестанского края.
Принять подобное было для Худояр-хана и Сеида Музаффаруддин Бахадура равносильно тому, чтобы самим спровоцировать полноценный бунт. Особенно хану Коканда, едва-едва удерживающему свою власть. Потому что один, что другой виляли, слали велеречивые послания, просили предоставить достаточное количество времени для обдумывания предложений… и получали – теперь больше со стороны Османской империи – советников, золото, обещания скорой поддержки оружием и войсками.
Тянули время они, дожидался подходящего момента для нового наступления и Черняев. И почти дождался. Не зря именно сегодня вызвал к себе генерала Романовского и полковника Абрамова. Да, теперь уже полковника, поскольку в этот чин его личным указом произвёл сам император, впечатлённый докладной запиской Черняева. Александр II счёл, что такое показательное усердие и боевой пыл стоит поощрить должным образом. Впрочем, генералу Романовскому тоже было грех обижаться. Ордена, значительная сумма денег, слава… и намёк, что как только Туркестанские дела закончатся, для него, как показавшего себя талантливым военачальником, найдётся новое высокое назначение. Император не то сам понял, не то ему умные советники подсказали, что держать долгое время рядом двух столь честолюбивых людей как Черняев и Романовский вряд ли стоит. Пока хватает наград и славы – конфликта не случится. Зато едва придёт время заканчивать действия военные и сосредотачиваться на обустройстве края – вот тут могут начаться неприятности.
Но это всё равно дело будущего. В настоящем же в кабинет губернатора зашёл сперва Романовский, а за ним, спустя несколько минут, и полковник Абрамов пожаловал в своей неизменной кожаной шапочке, прикрывающей голову вояки после полученной несколько лет назад тяжелейшей контузии. Все трое успели и как следует познакомиться, и сработаться, и к обсуждениям планов на будущее было не привыкать. Так что крепкий кофе с местными сладостями, расстеленная на столе карта, набор разноцветных карандашей для необходимых отметок и бурлящие в головах мысли, которые вот-вот должны облечься в слова.
– Что будем делать сегодня, Михаил Григорьевич, – поинтересовался у Черняева Абрамов, как младший по званию из собравшихся. – Вроде бы вчера успели обсудить, что через месяц или полтора опять двумя ударами супостатов «радовать» станем, основным и отвлекающим.
– Только кого отвлекать, а кого действительно громить, так и не решили, – проворчал покусывающий карандаш Романовский. – Напрашивается нанести основной удар по Коканду. Но бухарский эмир хитёр и людишки его по Ташкенту шастают, как тараканы за печкой. В важные места им доступа нет, но вот кабаки, базар… дома публичные опять же. Узнают от тех солдат и может даже разговорчивых сверх меры офицеров, чего знать не надобно.
– И встретит того, кто будет наносить отвлекающий удар, огромное войско бухарцев. Не хочется такого, вы правы, Дмитрий Ильич. Но и планировать атаковать только в одном направлении – замедлять темп продвижения. Хотелось бы избежать. Потому подумаем как следует, господа!
Думать собравшееся трио умело. Хорошо думать, правильно, находя варианты из числа не лежащих на поверхности. Было очевидно, что ожидать от Бухары с Кокандом попыток отбить завоёванное не стоило – они и защитить то свои города не сумели. Что уж говорить о том, чтобы попробовать штурмовать укреплённые места с многочисленной артиллерией, сильными и умеющими воевать гарнизонами и без возможности поднять внутри Ташкента и иных городов восстание. Восстание, оно реально, лишь когда есть кому его поднимать и поднимать не толпу с дрекольем, а вооружённых и умеющих обращаться с этим самым оружием. А как раз нормального оружия и возможности его получить у находящихся в Ташкенте. Ходженте и иных городах инородцев не имелось. Коменданты внимательно следили, не допуская и призрачной возможности местных вооружиться и тем самым стать потенциальной угрозой новой власти.
– Мы успели прикормить тех, кто хочет занять троны Коканда и Бухары, но не имеет для этого достаточно сил, – напомнил Абрамов. – Пусть начнут. Когда рядом опасность, посылать войска в другое место не хочется. Своя рубашка ближе к телу.
– И тогда даже отвлекающий удар может показаться другим. Поддержкой, достаточной для того, чтобы трон захватил наш как бы ставленник, – расплылся в улыбке Черняев. – Порадовали меня. Александр Константинович!
– Отвлекающий удар может действительно стать смертельным, – добавил Романовский. На это не стоит рассчитывать, но нельзя и исключать.
Губернатор лишь кивнул, смотря на карту, после чего, взяв карандаш в руки, набросал направления ударов на собственно Коканд, столицу одноименного ханства. А также на Самарканд. Последний принадлежал уже бухарскому эмир, но не взяв этот город, говорить о походе на саму Бухару не имело и тени смысла.
Здравая оценка ситуации – вот от чего Черняев старался не отходить. Сейчас было очевидным, что с учётом поступающих подкреплений, войск достаточно для продолжения завоеваний. А уж два направления либо одно – это как получится. Коканд и Бухара. При всех намечающихся проблемах в их завоевании, нельзя было назвать действительно труднодоступными целями. Сокрушить к исходу этого, 1865 года Кокандское ханство, стереть его с политической карты представлялось возможным и не слишком трудным. Бухарский эмират? Самарканд, может ещё какие-то из городов-крепостей. С самой столицей эмирата стоило обождать. Шаг за шагом, проявляя разумную осторожность – именно так следовало продвигаться в туркестанских песках.
И тогда останется самое сложное и опасное – Хива. Затаившийся в самом сердце пустыни гадальщик. Привыкший исподтишка бросаться на жертву, а потом утаскивать добычу в своё песчаное логово, действительно почти неприступное. Почти. Военный губернатор Туркестана, опираясь на опыт предшественников, знал точно, чего делать нельзя. Догадывался о том, что делать необходимо. Главное же обладал терпением и возможность накопить нужные силы, средства, да вдобавок организовать поход на Хиву именно тогда. когда придёт его время. А оно должно наступить лишь после того, как падут Коканд и Бухара… тем или иным образом. Это Черняев и собирался донести до своих помощников в сём нелегком, но достойном и сулящим большие выгоды деле.