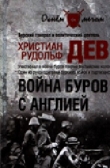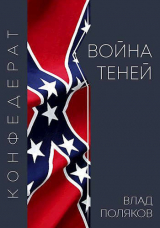
Текст книги "Война теней (СИ)"
Автор книги: Владимир Поляков
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Интерлюдия
Интерлюдия
Апрель 1865 г, Российская империя, Туркестан
Самую малость меньше года прошло с того момента, как генерал Черняев успешно взял штурмом казалось бы неприступный Чимкент, тем самым дав Российской империи мощный опорный пункт. Опорный для какой цели? За ради дальнейшего расширения Туркестана – края, в котором, несмотря на омерзительную жару и преобладание безжизненных и полубезжизненных пространств, находилось и много чего ценного. Например. возможность выращивания хлопка, этого по сути стратегического сырья, которое доселе империи приходилось закупать. Да, с недавнего времени у союзногогосударства. Но всегда лучше иметь своё и не зависеть от других. Генерал, осыпанный наградами и ставший к тому же военным губернатором Туркестана, это хорошо понимал, да и советников при себе держал умных, а не льстивых.
Именно поэтому не собирался почивать на лаврах, рассматривая взятый им город лишь как базу, опору на пути к новым завоеваниям. Как возможность дать отдых уже имеющимся войскам, сформировать гарнизоны как в самом Чимкенте, так и в нескольких других взятых городах. Затем же, подтянув подкрепления и как следует оснастив новые и старые войска, двинуться дальше. В каком направлении? Прежде всего, на Ташкент.
Ташкент, да. Город с более чем стотысячным населением, к тому моменту имевший в гарнизоне около пятнадцати тысяч хорошо вооружённых защитников, с достаточным числом крепостной артиллерии. Не каких-нибудь устаревших «грохоталок» с никчемной дальностью стрельбы, малой скоростью и низкой поражающей способностью снарядов, а вполне современные орудия. Откуда? Британцы постарались, снабжая местных ханов и баев современным оружием и даже посылая своих инструкторов. Причина? Геополитическая, разумеется. По какой-то не до конца понятной причине что нынешняя королева, что предшествующие ей монархи считали. что у России есть давний и однозначный план проникнуть через Среднюю Азию в Индию, чтобы таким образом доставить Британии огромные проблемы. Корни, понятное дело, упирались в сумасбродную затею импульсивного и склонного к не слишком разумным действиям императора Павла I. Ту самую затею, когда он решил отправить на завоевание Индии совместный с французами Наполеона экспедиционный корпус. Шансов у этого самого корпуса не то что устроить бриттам неприятности, но и просто добраться до Индии через огромные враждебные пространства, к тому же без толковой подготовки, были практически нулевыми, однако… Тогда британцы серьёзно занервничали. Чувство сие было во многом нерациональным, но слишком уж в Лондоне беспокоились относительного одной лишь возможности угрозы жемчужине короны и одного из важнейших источников дохода.
Вот теперь на колу мочало, начинай сначала. Никак не желали ни королева Виктория, ни правительство, ни британская аристократия понять, что от Средней Азии до Индии как собственно путь неблизкий, так и не имелось у России особого желания и возможностей лезть туда, где Британия закрепилась вот уже не первый век, а относительно недавно ещё и окончательно разобралась с недовольными. Сипайские восстания, они заметно проредили ряды потенциальных бунтовщиков.
Как бы то ни было. а вооружили англичане среднеазиатских дикарей, что называется, до зубов. Ташкент исключением не являлся. Но что было хорошо для планов Черняева, так это малое расстояние от Чимкента до Ташкента. И полная поддержка как со стороны Игнатьева, так и собственно императора, повелевшего всем. в том числе и военному министру, оказывать военному губернатору Туркестана всяческое содействие. Оружием, амуницией, людьми. И не абы кем, а опытными, обстрелянными солдатами. По существу, Черняеву был дан полный карт-бланш, возможность получить как подкрепления солдат, не просто умеющих воевать, но ещё и желающих это делать.
Откуда? Ветераны ещё той, Крымской войны, побывавшие на Кавказе опять же и не испытывающие никаких иллюзий насчёт того, кто такие азиаты и как именно с ними следует воевать. Разумеется, никаких вспомогательных инородческих частей по причине их весьма малой надёжности и готовности предать в любой момент. Уж в этом Черняев был твёрд, и менять своего мнения не собирался.
Три с половиной тысячи солдат при трёх десятках орудий, примерно стольких же пулемётах и десятке ракетных станков, так хорошо распугивающих азиатскую конницу – вот какими силами Черняев выступил на Ташкент в июле 1864 года. Мало? С одной стороны, да. Но это если рассматривать расстановку сил исключительно с количественной точки зрения, не качественной, В конце концов, тот же Чимкент также был взят в условиях категорического превосходства защитников в силах и вооружении. И ничего, справились, причём потери были незначительными по самым строгим меркам.
Однако, аталык, то есть верховный правитель Кокандского ханства, Алимкул Хасанбий-угли, через оставшихся в Чимкенте своих соплеменников узнал и о том, когда собираются выступать русские войска, и о численности выступивших. Узнав же, сильно воодушевился, понимая, что может собрать куда как больше войск, да и в орудиях будет иметь пусть не самое великое, но превосходство. Вот и собрал с подвластных ему земель под двадцать пять тысяч войска в довесок к пятнадцатитысячному ташкентскому гарнизону. Собрав же, поспешил выдвинуться к Ташкенту, желая, помимо прочего, пощипать отряд Черняева на марше, пользуясь абсолютным преимуществом в кавалерии и знанием местности.
Что тут сказать. Алимкул успел вовремя привести войска в помощь Ташкенту. Более того, выделенная им для наскоков на русские войска конница смогла перехватить на марше сперва высланный на рекогносцировку отряд из пары сотен казаков, а потом напасть и на основную часть войска во главе с самим Черняевым. Да только одно дело найти и напасть и совсем другое – одержать победу.
Начать с того, что для поддержки казаков были выделены ещё и пять пулемётов на специально оборудованных для их установки повозках. Тех самых, которые могли стрелять и находясь неподвижными, и прямо на отходе, по преследующему неприятелю. Вот на отходе пять «адских кофемолок» и показали кокандцам, что конница супротив пусть пока механических, но пулемётов – это всего лишь почти бессильные жертвы, устилающие своими трупами и орошающие кровью землю, песок, вызывающие страх и панику у слабых духом. А уж боевой дух суеверных и пугающихся всего необычного кокандцев… Черняева и его офицеров подобное откровенно порадовало. Слухи разлетаются очень быстро, особенно если их носители, загоняя лошадей, возвращаются к своим, да рассказывают про «нечестивое оружие шайтана», стрекочущее и убивающее правоверных так, как ни ружейным залпам, ни орудийным и не снилось. В землях азиатских испокон века было – если напугал, значит уже наполовину победил.
И точно! Когда кокандская конница навалилась на основную часть войска Черняева, он был не просто готов к отражению атаки, но и правильно разместил все имеющиеся у него пулемёты. А уж из такого оружия, да по коннице, да по азиатской – любо-дорого поглядеть. Стрекотание «адских кофемолок», стригущих врагов, словно цирюльник особо заросшего клиента. Крики, замешательство, месиво на месте первых рядов, взбесившиеся от страха лошади и попытка части кокандцев развернуть коней и умчаться обратно. Последовавшая после всего этого сумятица и… продолжающаяся стрельба. К пулемётам присоединились винтовочные залпы. Залпы опять же из новых винтовок, что выпускались по предоставленной Американской империи лицензии. Пока такого оружия было немного, но в Туркестан монаршею волей отправили всё лучшее, без изъяна. Спорить с государем-императором желающих не было.
К моменту, когда остатки кокандской кавалерии стали разбегаться, куда глаза глядят, генерал отдал приказ казакам пуститься вдогон. Не с целью захватить пленников – этого добра можно и нужно было найти среди раненых и придавленных лошадьми – а просто дабы поубавить число кокандцев и внушить ещё больший ужас тем, кто всё таки сумеет оторваться, тем самым спасаясь от кажущейся неминуемой смерти.
Потери, потери… Пусть без малого три тысячи трупов и несколько сотен пленных казались числом немалым, но при сравнении данного числа с тем, что ещё оставалось у Алимкула Хасанбий-угли, оценка заметно менялась. Хотя почти полное отсутствие потерь среди собственных подчинённых Черняева порадовало. Пяток убитых и полтора десятка раненых – с таким соотношением потерь воевать было не просто можно, но и крайне рекомендовалось.
А ещё требовалось продолжать марш на Ташкент, но не изнуряя солдат, а будучи готовыми к отражению очередного нападения. Хорошо, что боеприпасов к чрезвычайно прожорливым пулемётам – и к новым винтовкам тоже – было припасено в количестве. достаточном для пары десятков таких боёв, как недавний. Военный губернатор Туркестана учился на собственном опыте, хорошо помня, как быстро, словно снег под лучами яркого весеннего солнца, таяли патроны тогда, при штурме Чимкента. Урок был усвоен, а потому в ответ на недоумение или даже попытки иронизировать, Черняев отправлял сомневающихся и шутников… аккурат к тем своим офицерам, которые не просто участвовали во взятии Чимкента, а видели, как споро и с каким огромным аппетитом пожирают патроны «адские кофемолки».
Атака кое-что узнавшего о тебе противника – это в какой-то степени сложнее. На европейских театрах военных действий. Зато тут, в Азии, очень много зависело от морали. Это было в войнах с Турцией, когда наносимый османами первый удар мог быть потрясающе силён – хоть и опирался на тотальное превосходство в числе – но стоило его выдержать, этот таранный напор резко снижался и чуть ли не становился близким к нулю. В противостоянии с Персией… похожая ситуация, только ещё более усиленная верой в судьбу и отсутствием в персидских войсках совсем уж озверелых ор, подобных янычарам и их духовным наследникам. Ну а тут, в песках Средней Азии, оказалось и того легче.
Перепуганные новым оружием «неверных» и понесшие ошеломляющие потери кокандцы быстро разнесли пугающие новости среди той части войска, которае ещё не столкнулась с войсками Черняева. Именно поэтому, когда русский корпус подошёл к Ташкенту, встречающие его на подготовленных позициях войска Алимкула Хасанбий-угли не чувствовали себя очень уж уверенно. Хотя следовало отметить, что позиции оказались подобранными грамотно, на каналах Салар и Дерхан, что протекали неподалёку от границ города и вместе с тем являлись неплохим препятствием для кавалерии. Той самой, которую тут, в Средней Азии, продолжали по инерции считать чуть ли не главным родом войск, На деле же конница стремительно утрачивала свою значимость после появления многозарядных винтовок, ручных бомб и особенно пулемётов. Однако это понимал Черняев и его офицеры, а никак не Алимкул и ему подобные. Вложить осознание стремительно меняющегося мира под толстую лобную кость кокандского аталыка не могли и английские советники, хотя и пытались.
Вместе с тем, военный губернатор Туркестана не желал рисковать в прямом столкновении с на порядок превосходящим его численностью противником. Зато мог, любил и умел использовать разного рода военные хитрости. Взятие Чимкента являлось ярким тому подтверждением. Тут, понятно дело, никуда прокрадываться не требовалось, зато реально оказалось сыграть на знании азиатской психологии.
Обычное по меркам современной военной науки поведение – перед тем, как вступать в решительный бой – проведение рекогносцировки. Тем более ожидаемое, что первая попытка этого со стороны русский войск привела лишь к сражению с кокандской конницей и вытягиванию оной к находящимся на марше войскам, но не к получению нужных сведений. Вот и выходило, что новая попытка рекогносцировки со стороны русских выглядела совершенно естественной, не вызывающей особых подозрений.
Две роты солдат, сотня казаков и три орудия с парой пулемётов – вот тот отряд, который был отправлен на рекогносцировку, эту разведку боем. И приблизившись к каналу Дархан, этот самый небольшой отряд, что естественно, подвергся нападению сильно превосходящего противника. Перестрелка, предельно быстрый огонь из всех трёх орудий, стрекотание пулемётов… Однако майор Ставрогин, командующий этим отрядом, понимал, что выстоять не только нельзя, но и не требуется. Необходимо лишь изобразить упорное сопротивление, после чего отходить, избегая лишних потерь, но вместе с тем показывая упадок боевого духа и чуть ли не бегство. Каким образом? Дать противнику то, что будет соответствовать подобному развитию событий – орудия с остатками зарядных ящиков. Все три орудия. Это могло показаться трусостью, но на деле являлось лишь исполнением приказа командира.
Отступление, немалые потери, оставленные орудия… Алимкул Хасандий-угли попался в расставленную специально на него западню, принял запланированный отход за вынужденный. А брошенные орудия за то, что в сердцах гяуров поселился тот самый страх, который они совсем недавно внушили его войску. Уверившись в этом, правитель Коканда, естественно, не мог не броситься преследовать отступающих русских. Но преследовать не абы как, а полноценно, всем тридцатитысячным войском выдвинуться в направлении русского временного лагеря. И при орудиях, конечно, аж при сорока.
Этого и ждал Черняев. Сперва напугать кокандцев, затем вложить в их голову ложную мысль о том, что они тоже могут внушать страх. Выманить их на живца, дождаться подхода не отдельных отрядов, а большей части войска правителя Кокандского ханства, после чего устроить не сражение, а бойню. Такую, против которой возражали бы в совсем недавнем времени, но не теперь, после того, как усилилось влияние Игнатьева и Великого князя Александра Александровича, а вес либеральствующих вроде того же Горчакова напротив, заметно упал.
Атака кокандцев состоялась не ввечеру, а на рассвете, чуть ли не с первыми лучами восходящего солнца. Туркестанский губернатор был этому скорее рад, поскольку такое развитие событий давало ему большую часть дня на преследование и начало осады Ташкента. А в том, что оно, преследование, будет, он и не думал сомневаться. Уверенность, она плоха лишь когда является ложной. Основанной на раздутом самомнении. Другое дело, когда опирается на факты и опыт – свой и тех, кто тебе советует, помогает. Взятие Алие-Ата и Чимкента, они произошли совсем недавно, несколько месяцев тому назад. Ничтожный срок, если рассматривать с позиции того, что противник за сей промежуток времени точно не успел избавиться от показанных недостатком, да и новые сильные стороны приобрести ему не довелось. Откуда уверенность? Агенты в том же Ташкенте и не только там, получавшие щедрую по любым меркам оплату. Вот, кстати, одна из слабостей конкретного противника – легко покупать многих и многих, а сложности заключаются лишь в том, чтобы купить нужных людей и не слишком при этом переплатить.
Воодушевленные своей как бы победой над отрядом майора Ставрогина, кокандцы атаковали на рассвете так, словно уже успели позабыть то, чем закончилась прошлая их попытка. И ведь тогда они атаковали недавно находящиеся на марше русские войска, а теперь находящиеся пусть во временном, но лагере, то есть заранее подготовленной позиции. Впрочем, аталыку Коканда следовало отдать должное – почти все те, кто уцелел при той атаке, он оставил за стенами Ташкента. Позаботился в меру сил о боевом душе своих воинов. Но то-то и оно, что в меру сил, поскольку полностью вытравить память о жутком оружии гяуров не представлялось возможным.
Попытка окружить лагерь? Черняев в ответ на известие об этом лишь усмехнулся, приказав приготовить к стрельбе ракетные станки. Точность ракет, увы, была так себе, зато воздействие на суеверных кокандцев ожидалось как раз то, что и было необходимо. Залп, за ним ещё один и ещё… И разбегающиеся «воины Аллаха», не способные от ужаса сохранить голову трезвой, а штаны чистыми. После такого требовалось сконцентрировать имеющиеся орудия в нескольких секторах и начать активную стрельбу, приводя противника в полное замешательство, а заодно планомерно уменьшая и его численность.
Что мог противопоставить Алимкул в разы более грамотной и эффективной стрельбе русских орудий, к тому же поддерживаемых ракетными залпами? Только собрать ещё не разбежавшихся воинов и попытаться реализовать свой главный козырь – численность. Иными словами, сближение и переход в рукопашную, в которой соотношение «десять к одному» – уже несколько меньше, но не суть – ещё способно было переломить ситуацию.
Не вышло. Ну то есть до определённого момента правителю Коканда казалось, что он может вырвать победу. Ему удалось собрать большую часть войска, погнать их вперёд, но… В дело пошли те самые пулемёты, вполне мобильные, перемещаемые с места на место без особых усилий, а ещё защищённые стальными щитками. Они вновь показали мощь прогресса, перемалывая очередные сотни кокандцев с такой небрежной деловитостью, что видевшие подобную смерть кокандцы разворачивались и бежали обратно в сторону Ташкента. Аталыку в такой ситуации ничего не оставалось, кроме как самому отступить, тем самым признавая не просто поражение, а разгром. Да, именно разгром, ведь его войска по большей части бежали со всех ног, оставляя орудия, знамёна. Порой бросая даже оружие, чтоб бежалось хоть немного, но быстрее. Надежда оставалась лишь на то, что, затворившись в Ташкенте. Удастся выдержать осаду, в то время как оставшихся у стен Ташкента русских сумеют заставить или убедить уйти восвояси.
Надежды… Порой они оправданы, а порой способны ввергнуть в ещё большее отчаяние, когда рассыпаются прахом. Именно обратить надежды кокандского правителя во прах и намеревался генерал Черняев. Причём планировал сделать это быстро, не затягивая. Потому, не тратя зря времени, лишь по быстрому инвентаризировав собранные на поле битвы богатые трофеи, двинулся к Ташкенту, до которого оставалось совсем немного. Теперь он мог не опасаться очередного классического полевого сражения. Причины? Очередные многотысячные потери кокандцев. Более тридцати орудий, оставленных теми во время бегства, усилившие собственный артиллерийский парк и ослабившие возможности защитников города. Ну и окончательно подорванный боевой дух тех самых защитников, включая и не успевшую побывать в бою часть гарнизона. Не успевшую, зато сподобившуюся увидеть, как в Ташкент вернулись вдребезги разбитые, поджавшие хвосты части во главе с самим Алимкулом Хасанбий-угли.
Некоторые более осторожные из числа офицеров штаба предлагали Черняеву взять Ташкент в жесткую блокаду, отрезать от источников воды и тем более пресечь попытки доставить в город продовольствие. Тактически вроде бы и верное решение, но требующее немалого времени для достижения главного – добровольной сдачи города. Как раз этого военный губернатор Туркестана и намеревался избежать, понимая непреходящую ценность того самого времени.
Купить часть защитников, чтобы те открыли ворота? Увы, но слишком многих пришлось бы покупать, имеющихся в распоряжении генерала средств просто не хватило бы. А соблазнять одну часть ташкентцев против другой, давая им тем самым возможности стать в Российской империи кем-то, отличным от ничтожно малой величины… Нет уж, при возможности это не делать Черняев не собирался торговаться. Да и пример взятого Чимкента показывал остальным кокандцам и прочим, что новая власть с ними церемониться не собирается. Ведь не в последнюю очередь поход в Туркестан был оправдываем на международной арене тем, что азиатские хищники-людокрады вот уже многие десятилетия не просто разоряли русские окраины, но и уводили за собой в полон, а по сути полноценное рабство верноподданных государя-императора. С учётом же не так давно случившегося уничтожения Гаити по схожим, пусть и не идентичным поводам… Грехом было бы не воспользоваться. Вот Игнатьев как глава министерства иностранных дел, вице-канцлер и. если не случится чего-то неожиданного. В скором будущем возможный канцлер империи обещал Черняеву свою полную поддержку. рекомендовав проявлять предельно допустимую жёсткость к местным ханам и прочим баям.
Черняев и проявлял, но проявив оную в Чимкенте, тем самым показал остальным, что мягко стелить не намерен, а договариваться может лишь о покупке осведомителей и об относительно приемлемых условиях капитуляции. Да и то далеко не для всех.
Оттого, подойдя с Ташкенту, генерал отдал приказ не просто блокировать город, но и готовиться к скорому штурму. Хорошо ещё, что планы оного были подготовлены заранее, причём сразу в нескольких вариантах. И один из них показался куда более перспективным, нежели все остальные.
Камеланские ворота города, именно они являлись самым слабым местом, если отбросить в сторону некоторую склонность к типовым решениям. Вроде бы достаточно укреплённые, защищённые крепостными орудиями в пристойном числе, но вместе с тем… Очень уж удобно было стрелять как по ним самим и примыкающим участкам стены, так и по тому. что находилось за ними. Не только обычными снарядами, но и ракетами. Город, он ведь большой, промазать сложно. Опыт адмирала Нельсона, устроившего Копенгагену, датской столице, огненную побудку, Черняев помнил хорошо. Военная история – это не только упражнение для ума, но и возможность использовать «старые песни на новый лад». Вот как сейчас, в песках Средней Азии.
Разумеется, военный губернатор Туркестана не преминул позаботиться и о собственной репутации. Способ был прост – прежде начала штурма передать защитникам города предложение капитулировать, тем самым избежав многочисленных смертей, в том числе и мирного населения. Более того, Черняев соглашался выпустить за стены города то самое мирное население, хоть и с одним конкретным, но обязательным условием. Простое условие – немедленно выпустить из города всех русских пленников. Вне зависимости от того, когда, кем и при каких условиях те были захвачены. Ах да, ещё напоминание о том, что «хозяева» этих самых пребывающих в рабском положении будут непременно повешены, обязательно за шею и к тому же публично, чтобы остальным неповадно было даже думать о том, чтобы творить подобное.
Понимал ли генерал Черняев, что требование невыполнимо если и не принципиально, то в той форме, которое прозвучало особенно касаемо повешения виновников? Естественно, понимал. Именно поэтому оно так и прозвучало. Вселить страх и ужас в души находящихся в Ташкенте. Напомнить о неотвратимости возмездия. Показать многим, что спасти себя и даже часть своего имущества они могут, но лишь решительно и однозначно отмежевавшись от остальной части. Ну а несомненно разгорающиеся хаос, сумятица и взаимное подозрение – как раз то, что и нужно перед штурмом города. Осаждающим, конечно, никак не защитникам.
Двое суток на подготовку к собственно началу штурма. Вроде и совсем немного времени, но и его хватило. На что именно? Собственно подготовку, а также на получение сведений от агентов, выбравшихся из города и мечтающих обменять слова на полновесные золотые империалы. Некоторые обменяли по ожидаемому курсу, а кое-что получил куда больше. Оно и понятно, ведь известие о том. что Алимкул Хасанбий-угли отправил гонцов к эмиру Бухары с мольбой о помощи, дорогого стоило. Дорогого, хотя и было ожидаемым. Оказавшись в ловушке, правитель Коканда более всего мечтал вырваться из неё. Однако этим криком о помощи он окончательно давал понять уже не только Черняеву и поддерживающим его офицерам, но и остальным, из числа сомневающихся, что штурм действительно единственно разумное и верное решение.
И вот утром двадцать шестого июля начался мощный артиллерийский и ракетный обстрел со стороны Камеланских ворот. Снаряды и ракеты даже не пытались экономить, делая ставку на массированную и подавляющую противника стрельбу. Пушки, понятное дело, работали прицельно, а вот ракетные станки… По мишени размером с целый город промазать затруднительно даже ракетами, а совесть и тем более честь у генерала были чисты – он предлагал как капитуляцию, так и выход за стены города мирного населения. Отказались? Получается, что вина если на кого и будет возложена, то точно не на него. А крики от всяких там разных – это легко не просто пережить, но и вообще не обращать внимания.
Шесть часов интенсивного обстрела. После такого и пожары от ракет и зажигательных снарядов начались, и потушить их защитникам было очень сложно, и… Впрочем, остальные «и» особого значения не имели. Штурмовой отряд был готов, время начала штурма известно, оставалось только вовремя броситься к стене и, при поддержке всё той же артиллерии и подтянутых пулемётов, но бьющих уже очень осторожно, преодолеть изрядно повреждённую преграду.
Как планировалось, так и произошло. Складные штурмовые лестницы было легко переносить. Компактные, удобные, не привлекающие к переносящему внимание… Да и то самое внимание, оно от немногих могло последовать – пожары, смерть, продолжающаяся прицельная стрельба – всё это делало работу штурмовиков куда менее опасной, чем она могла бы быть. Оказавшись же внутри, солдаты под началом ротмистра Вульферта большей частью заняли позиции для стрельбы по защитникам, что не собирались давать им закрепиться. Ну а часть меньшая, у них была особая задача. Заваленные землёй, камнями и разным хламом ворота следовало освободить. Но растаскивать всё это вручную… слишком много времени могло занять подобное. Другое дело использовать взрывчатку – тот самый новомодный динамит. Не бывает несокрушимых преград – бывает лишь мало взрывчатки. Неизвестно, кто изрёк эту пришедшую из-за океана фразу, зато она быстро нашла отклик в сердцах сапёров и вообще инженерных войск российской империи. Пробить лопатками подходящие углубления, заложить туда динамит, поджечь фитили и… скрыться за пределами зоны поражения.
Взрыв! Нельзя было сказать, что от ворот вообще ничего не осталось, но мощности правильно заложенной под командованием понимающих во взрывном деле офицеров взрывчатки хватило, чтобы пробить приемлемый проход. Особенно после пары взрывов вспомогательно-дополнительных. И вот, к шоку и полнейшему непониманию защитников города, русские войска не просто хлынули внутрь городских стен, но хлынули грамотно, не спеша, не подставляясь под пули и клинки гарнизона. Сперва накопление сил на уже захваченном участке, установка пулемётов, затем втащенные в пролом орудия и установка их на прямую наводку. И обстрел мест, откуда раздавались выстрелы. Опять же, церемониться с противником никто не собирался, равно как и стремиться показывать себя гуманистами.
Оказаться внутри – уже половина дела. Русские войска, во избежание избыточного риска и лишних потерь предпочитали тратить снаряды и патроны, которых хватало. Активно и в несколько стволов стреляют из глинобитного дома? Несколько снарядов туда, чтобы точно ликвидировать источник угрозы. Отряд защитников пробует перейти в контратаку? Развернуть туда пулемёт, да не забыть про стрельбу из винтовок. И по возможности никакого рукопашного боя к вящей печали некоторых, всё вспоминающих ни разу не верное высказывание «Пуля дура, штык молодец». Кому он нужен, этот самый штык, если в тебя стреляют из винтовки или револьвера. Штыком просто не успеешь ничего сделать. Некоторые же, не желающие этого понимать, обречены были и своих солдат погубить, да и себя вместе с ними с высокой вероятностью. Черняев к апологетам штыкового боя не относился, а потому и офицеров старался подбирать из числа разделяющих подобные убеждения. Сейчас это вновь помогало. Равно как и раньше, в Чимкенте.
Некоторые проблемы доставляли довольно многочисленные барбеты – эти укрепления, представляющие собой насыпные площадки, прикрытые земляным или дерево-земляным бруствером, за которыми таились одно или парочка орудий, да и обычной пехоты хватало. Обычно такие укрепления брались штурмом, когда пехота, теряя своих под стрельбой противника, переходила в ближний бой. доводя дело до той самой рукопашной. Раньше, но не теперь, когда не то чтобы появились, а получили «второе рождение» ручные бомбы. Не те старые и маломощные, использовавшиеся гренадерами более века тому назад, а новые, от которых и урона было много, и взрывались они с малым процентом отказов, и поджигать фитиль не требовалось из-за разработанного терочного запала.
Вот эти бомбы и летели в изрядном числе в обитателей того или иного барбета. И лишь потом, когда часть защитников была выбита, другая контужена, дело доходило до рукопашной. Потери, само собой, при такой ситуации становились заметно меньшими, приводя как самого командующего, так и его офицеров если и не в благостное, то достаточно пристойное настроение.
Очередная неожиданность, которой защитники мало что могли противопоставить. Сперва столь быстро выбитые – подорванные, но не суть – ворота. Затем концентрированных обстрел из орудий и пулемётов всех мест, откуда велась стрельба. Теперь вот штурм одного барбета за другим. Про взятие под контроль стен штурмовые отряды также не забывали, благо орудия защитников изначально были направлены совсем в другую сторону, а быстро переместить и правильно наводить… ну-ну! Не то что хороших, а даже приемлемых специалистов в Ташкенте было чрезвычайно малое количество.
Как бы то ни было, но когда на город надвинулись сумерки, Черняеву удалось захватить стены и разрушить практически все барбеты. Тем самым лишив защитников не только полноценных укреплений – за исключением, увы, цитадели – но и нейтрализовать большую часть вражеских орудий. Ну а сумерки… К счастью, в городе было чему гореть, а солдаты в достаточной мере были обучены и ночному бою. В достаточной, но всё же именно такого развития событий генералу Черняеву хотелось избежать, ограничившись с наступлением темноты исключительно обороной от тех, кто ещё считал для себя возможным оказывать сопротивление.
А оставалось ещё изрядно врагов. По большей части выбитые из-под защиты барбетов и из относительно крепких домов, они стягивались к центру город, ближе к цитадели и большой базарной… назовём это площадью, хотя территория была куда больше всего, что можно было представить связанным с этим понятием. В любом случае, до десятка тысяч плюс минус сколько-то там присутствовало. Точный подсчёт никого не интересовал, да и не было ни возможности, ни собственно желания считать.
Зато уже в сумерках появились посланники. Не от правителя Коканда и не от власти собственно Ташкента, а со стороны местных торговцев и ремесленников. Эти, поняв, что дело не просто запахло жареным, а уже подгорело и источает смрад палёной плоти, в прямом смысле распростерлись ниц перед Черняевым и его офицерами, умоляя о милости и заявляя о полной своей покорности.