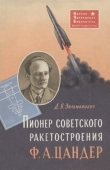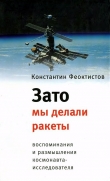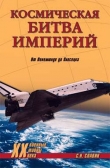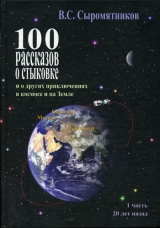
Текст книги "100 рассказов о стыковке. Часть 1"
Автор книги: Владимир Сыромятников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Мы, работники ОКБ-1, все наши коллеги и смежники, очень гордились своей победой. Помню, как 12 апреля я прибежал в обеденное время домой, где меня ждала молодая красивая жена и маленький чудный сын; и не важно, что жили мы в девятиметровке, которую снимали у одного знакомого по фамилии Матюкевич, белорусского партизана, в то время «гастролировавшего» где?то по местам боевой славы и приславшего нам уведомление о приезде с новой молодой женой. Я стал подбрасывать своего девятимесячного пацана, восклицая: «Первый человек в космосе!» Уже через несколько дней мой Антон, еще не умевший говорить, на вопрос, где космос, научился глазами показывать на небо. Полет вверх, доли секунды невесомости, видимо, тоже произвели на него неизгладимое впечатление. Этот «космический трюк» мы еще долго демонстрировали родным и знакомым, до тех пор, пока сын космического века не заговорил нормальным человечьим языком.
Незабываемым стал митинг у нас в Подлипках, в ОКБ-1, на который через два дня после полета приехал Гагарин. Сразу за главной проходной, там, где сейчас стоят памятник Королеву и настоящая ракета с надписью «Восток», собралось огромное число людей, а народ все прибывал и прибывал. Открыли ворота, перестали проверять пропуска. Молодежь, что пошустрее, школьники залезали на крышу соседнего здания отдела кадров.
Ничего подобного больше никогда не повторилось. Нам пришлось участвовать еще во многих митингах на своем космическом веку, но их стали проводить в глубине территории, не доступной для посторонних.
Праздники кончаются быстро. Эйфория прошла, многие получили по заслугам: и награды, и премии. Нам предстояло ковать новые победы.
А что происходило в это же время в Америке?
В наших публикациях об этом почти ничего не сообщалось, а иностранных газет для простого советского человека просто не существовало. В конце 50–х мы получали очень отрывочные сообщения, но все?таки знали, что в США тоже готовились к запуску человека в космос. Руководство нас торопило, им, конечно, было известно намного больше: «узкий круг» получал так называемый белый ТАСС, не секретную, но и не открытую информацию, а с грифом – «для служебного пользования» (специально отобранные переводы из иностранной прессы).
То, что происходило в США на самом деле, стало нам известно только много лет спустя.
Как упоминалось, за океаном подготовка к полету человека в космос началась вскоре после запуска нашего спутника. Специально организованная «оперативная космическая группа» очень активно приступила к изучению и проработке широкого спектра вопросов, связанных с созданием нового летательного аппарата для полета человека в неизведанные условия. Сначала эта группа работала в рамках НАКА в центре Лэнгли, расположенном в штате Вирджиния на берегу Атлантики. Руководитель НАКА X. Драйден интуитивно почувствовал, что за полетами в атмосфере очень скоро последуют полеты за ее пределы, в космос, и предпринял практические шаги в этом направлении. Через год Драйден стал заместителем администратора НАСА. Центр Лэнгли сыграл выдающуюся роль в развитии американской авиации, в нем работали и О. Райт, и Ч. Линдберг. Во время войны там испытывались боевые самолеты и совершенствовались методы пилотирования. Послевоенная гонка вооружений еще более укрепила и расширила возможности Центра для изучения полета на сверхзвуковых скоростях. Начались там и эксперименты с крылатыми и баллистическими ракетами, оставшимися после войны.
После организации НАСА в октябре 1958 года в Лэнгли на некоторое время разместился главный ее центр, а оперативная группа, получившая официальный статус под названием «Группа, озадаченная космосом» («Space Task Group»), стала основной движущей силой нового проекта. Осуществляя первую пилотируемую программу «Меркурий», они базировались в Лэнгли до тех пор, пока в 1962 году эту Группу первых космических специалистов не перевели в Хьюстон. Чтобы развернуть лунную программу, потребовался, похоже, размах техасских степей; не обошлось там, конечно, и без политики. Проект «Меркурий» представляет интерес не только с позиций изучения техники космического полета. С исторической точки зрения привлекает внимание прежде всего то, как складывался тот научно–инженерный костяк будущей американской астронавтики. А ведь уже через пару лет этой Группе специалистов предстояло возглавить подготовку полета на Луну, а позднее заложить основы текущей программы «Спейс Шаттла», то есть фактически создать все то, что требовалось для становления американской астронавтики и чем она живет до сих пор.
В начале 70–х мне привелось познакомиться с ними, с теми, кто вошел в ту легендарную Группу, составив ядро будущего Центра пилотируемых полетов НАСА в Хьюстоне: его директором Робертом Гилрутом и сменившим его Кристофером Крафтом – первым управленцем орбитальных полетов, главным «идеологом» полетов в космос Максом Фаже и главным компоновщиком кораблей Кэдвеллом Джонсоном, уникальным заместителем администратора НАСА Джорджем Лоу и будущим директором проекта «Союз» – «Аполлон» Гленом Ланни, а также с его заместителем Арни Олдриджем. Все они внесли весомый вклад как в проектирование «Меркурия», так и во все последующие космические программы США, включая создание «Спейс Шаттла» и полеты на Луну.
Изначально в Группу вошло всего 36 человек, а ее основу составили сотрудники Р. Гилрута: именно они в Лэнгли экспериментировали с ракетами на сверхзвуковых скоростях. В те далекие годы конца 50–х, когда американская астронавтика только зарождалась, ее будущие корифеи были в самом творческом 30–летнем возрасте. Уже тогда им предстояло совершить гигантский рывок в стремлении догнать нас, более опытных россиян. В отличие от Королева и его соратников у большинства тех американцев не было ни настоящего ракетного, ни спутникового, ни «собачьего» опыта. За удивительно короткий срок, за два–три года им удалось и спроектировать свой «Меркурий», что называется, с нуля, и освоить ракетный полет, и подготовить астронавтов, и самим научиться управлять космическим полетом с помощью ими же созданной глобальной сети наземных станций слежения.
Для запуска первых астронавтов американцы приспособили две боевые ракеты из небогатого тогда американского арсенала: сначала армейский «Редстоун», который дотягивал только до суборбитального «прыжка» в космос, а затем – вэвээсовский «Атлас», который мог выводить на орбиту полезный груз весом лишь в 1,3 т. В отличие от немецкой «Редстоун», «Атлас» был чисто американской ракетой, фактически – их первой МБР, которая по заказу американских ВВС создавалась фирмой «Конвэр» («Convair»), расположенной в Калифорнии, в Сан–Диего. Чтобы довести свои ракеты до пилотируемого статуса, их пришлось упрочнять и дорабатывать в целях повышения надежности бортовых систем.
Я назвал «Редстоун» немецкой ракетой, поскольку она разрабатывалась командой фон Брауна; эти немецкие специалисты работали в Хантсвилле, в южном штате Алабама, который они называли на свой манер: «Пенемюнде-2». В течение всех 20 с лишним лет работы в Америке у фон Брауна были свои грандиозные планы завоевания космического пространства – от строительства орбитальных поселений до полетов на Марс. Однако американцы не могли простить ему профашистского прошлого и обстрела Лондона в 1944 году, поэтому его деятельность ограничивали ракетной техникой, в которой ему не было равных. Это признавали даже те, кто почти открыто выражал свою неприязнь, почти ненависть, этому потомку высокомерных тевтонов, о чем мне привелось прочитать у К. Крафта уже в XXI веке, когда гениального немецкого ракетчика уже давным–давно не было в живых. Отношение корифея американской астронавтики, кстати, тоже немецких кровей, к своему коллеге, пусть «не того» происхождения и с предысторией с большим изъяном, но внесшему не меньший вклад в достижение американцами Луны, меня поразило. С другой стороны, в своей в общем?то интересной книге он столь же страстно клеймил и наши Советы, которые столько раз тайно, почти «исподтишка» сумели «обштопать» их в космосе, и своих нерадивых соотечественников. Не пощадил Крафт даже первого «орбитального» сенатора Джона Гленна, а особенно досталось от него другому астронавту, другу Джона – Скотту Карпентеру, у которого, как выяснилось позднее, не оказалось никакого почти пилотажного опыта. Несмотря на все предупреждения с Земли, в космосе он сумел израсходовать почти всю перекись водорода на второстепенные эксперименты, и этого топлива фактически не хватило на жизненно важную операцию схода с орбиты. В результате, капсула приводнилась на несколько сот километров дальше от расчетной точки посадки и, выбравшись из капсулы на надувной плот, незадачливый астронавт целый час дожидался спасателей. Надо отметить, что в космос этого нерадивого «плотника» (carpenter) больше не пустили, и он переключился на морские экспедиции: океан ему, похоже, понравился больше.
Вообще?то должен сказать, что Крафт произвел на меня впечатление разумного человека, когда в начале 70–х нам пришлось встретиться и даже работать вместе; он умел слушать, а в споре соглашаться с логичными доводами.
Подготовку и запуск обеих ракет – «Редстоун» и «Атлас» – на мысе Канаверал осуществляли американские военные (почти как у нас). НАСА еще предстояло осваивать и ракетную технику, и этот Мыс (так его называли американцы – the Cape), но первый опыт цивильные специалисты приобретали именно тогда, подготавливая свои первые космические капсулы и участвуя в интеграции их с ракетами. По воспоминаниям ветеранов, межведомственные барьеры осложняли подготовку к полету.
Теперь надо вернуться назад и коротко рассказать о том, как создавался первый «Меркурий». Проект был в принципе одобрен в начале октября, через пять дней после образования НАСА. В начале ноября 1958 года по поручению администрации НАСА «Группа, озадаченная космосом» под руководством Гилрута за очень короткий срок сформулировала «Требования к предложениям» (RfP – Request for Proposal) для «частного сектора» – предприятий американской авиационной индустрии. Этот документ типа наших «исходных данных» содержал детальное изложение задачи, а главное – концепцию нового летательного аппарата для полета человека в космос, которую к этому времени сумела разработать Группа. Ровно через месяц почти 40 фирм предоставили свои организационно–технические предложения. Группе тоже хватило четырех недель, чтобы провести оценку полученных многотомных материалов. Из двух лидеров: нью–йоркской фирмы «Грумман» («Grumman Aircraft Engineering Corp.») и «Макдоннелл» («McDonnell Aircraft Corp.») из города Сант–Луис – выбрали последнюю как менее загруженную военными заказами. «Грумману» пришлось дожидаться своего «космического часа» еще несколько лет, пока эта фирма не получила заказ на лунный модуль для программы «Аполлон». Победитель конкурса фирма «Макдоннелл», строившая знаменитые на весь мир «дугласы» (ну, почти, как наши Ил-12), на том начальном этапе развития астронавтики сыграла ключевую роль в качестве основного подрядчика по программе «Меркурий». В те годы еще возглавлял фирму Джеймс Макдоннелл, который за пару лет до начала космической эры предсказывал, что Америка пошлет человека на Луну лишь к концу XX века.
Через несколько лет они же по заказу НАСА создали еще один пилотируемый корабль «Джемини», в который вложили весь свой опыт «Меркурия». Со второй попытки им действительно удалось создать первый настоящий космический корабль, который умел делать на орбите почти все и о котором подробнее – в следующем рассказе. К сожалению, после этого фирма «Макдоннелл» попала на задворки программы «Аполлон». Мне пришлось немного поработать с этой фирмой, но только гораздо позже, 40 лет спустя, когда уже не осталось никого из тех уникальных пионеров астронавтики и уж, конечно, основателя этой знаменитой фирмы. В средине 90–х фирма «Макдоннелл–Дуглас» была уже совсем не той, а еще через пару лет ее, что называется, на корню, со всеми авиационными и космическими потрохами, скупила фирма «Боинг», ставшая к тому времени супермонополией. Однако это уже другая история, хотя и не менее поучительная. Отношение американцев к опыту своих специалистов, порой совершенно уникальному, с моей точки зрения, часто было просто безжалостным, и это – поразительно. К подобным мыслям мне еще придется возвращаться не раз.
Проектирование «Меркурия» велось при чрезвычайно жестких весовых ограничениях, ведь требовалось уложиться всего в 1300 кг, что составляло меньше 30% массы «Востока». В результате аппарат фактически представлял собой небольшой модуль, в который удалось буквально втиснуть одного человека и тот минимальный комплект оборудования, который был необходим для полета в космос и возвращения на Землю. Американцы очень точно назвали его капсулой; по–нашему – это СА, лишь часть корабля, спускаемая на Землю. У капсулы «Меркурий» имелся только один навесной блок пороховых двигателей, необходимых для схода с орбиты.
С тех пор американцы стали называть своих наземных операторов на связи с астронавтами «кап–ком» (capsule?communication). С самого начала эту роль в ЦУПе стали выполнять астронавты, и это стало для них еще одной хорошей школой на Земле.
Форма капсулы, в виде усеченного конуса, выбранная далеко не случайно, тоже хорошо соответствовала этому названию. Ее замыслил тот самый Макс Фаже, который стал главным проектантом всех американских космических кораблей, включая «Спейс Шаттл». Работая в Лэнгли и экспериментируя по специальной программе НАКА с небольшими полезными нагрузками, которые запускались вертикально при помощи одноступенчатой ракеты, он обосновал оптимальную форму, которая стала классической для объектов, возвращаемых в атмосферу со сверхзвуковой скоростью. Капсула «Меркурий», выполненная в виде усеченного конуса, идеально подходила как для полета на ракете при запуске в космос, так и для входа в атмосферу и приземления при возвращении с орбиты. Ее обтекаемая форма естественно вписывалась в головную часть ракеты, а вот возвращаться из космоса и лететь в атмосфере обратной, тупой стороной вперед, казалось поначалу противоестественным. Однако сверхзвуковая аэротермодинамика, теоретическая и экспериментальная, блестяще подтвердила первичную идею. Такая форма значительно упрощала и облегчала теплозащиту капсулы, что является одной из фундаментальных проблем возвращения из любого космического полета. С широкой, тупой стороны капсулу закрывал так называемый лобовой щит, который воспринимал самые большие аэродинамические и тепловые нагрузки. Боковые поверхности капсулы нагревались гораздо меньше, что позволяло сильно экономить на теплозащите. Дополнительно такой корпус, изготовленный из термостойких титанового и никелевого сплавов, выдерживал нагрев при выведении на орбиту на ракете–носителе без дополнительной защиты. В отличие от наших «Востоков» и «Восходов», а позднее и «Союзов», американские корабли (и «Меркурии», и «Джемини», и «Аполлоны») летали на ракетах без головных обтекателей.
Хотя корпус был герметичным, астронавт находился в кабине в скафандре. В верхней части капсулы размещались парашюты, а также бак с перекисью водорода для реактивной системы управления (РСУ). Это однокомпонентное топливо оказалось более эффективным, чем сжатый «холодный» газ, использованный на нашем «Востоке». «Перекисную» систему мы применили позднее, в первых вариантах кораблей «Союз».
Еще одним, надо сказать, очень удачным свойством предложенной концепции и конфигурации стало то, что направление перегрузок, действовавших на человека, помещенного в капсулу, сохранялось на обоих активных участках полета: на ракете и при возвращении с орбиты (при полете в атмосфере и при приземлении). В связи с формой капсулы нельзя также не упомянуть еще об одном ее качестве – о так называемом аэродинамическом. Так условно именуется свойство летательных аппаратов создавать подъемную силу. Путем специальной, несимметричной балансировки – за счет смещения центра тяжести капсулы от оси симметрии – удается создать такую, хоть и небольшую, силу – «малое качество». Еще одним по–настоящему замечательным качеством стала возможность управлять спуском в атмосфере, маневрировать в полете, хотя и в небольших пределах (опять же – малое качество). При этом оказалось возможным, что, пожалуй, самое главное, уменьшать перегрузки при возвращении с орбиты, из невесомости. Блестящей следует считать концепцию управления вектором подъемной силы, то есть ее направлением, для чего достаточно поворачивать капсулу вокруг продольной оси, по крену. Для этого требовались совсем небольшие управляющие моменты, а значит, и маленькие реактивные двигатели. В таком режиме полета капсула сама становится своеобразным усилителем реактивной силы. В полной мере американцы реализовали эту идею позднее, на «Джемини» и «Аполлоне». Надо заметить, что вернуться на Землю с Луны< со второй космической скоростью без подобного управления было бы просто невозможно.
Еще одна жизненно важная проблема, которую потребовалось решить, была связана с тем, что с самого начала после возвращения с орбиты решили приводняться. Такое возвращение давало ряд преимуществ: не требовалось большой точности при спуске, уменьшались некоторые проблемы, связанные с безопасностью и, конечно, имела место дополнительная амортизация при ударе о воду, а также быстрое охлаждение капсулы, сильно нагретой за счет торможения в атмосфере. Фактически, это было вынужденное решение: особого выбора на суше у Америки не было. Да ведь все равно (как и у нас) посадка на воду всегда вполне вероятна, не говоря уже об суборбитальных полетах напрямую в Атлантику. Приводнение потребовало обеспечить так называемую остойчивость: капсула должна устойчиво сохранять вертикальное положение даже при сильном волнении. Это в свою очередь повлияло на конструкцию капсулы, а также на процедуру эвакуации астронавта.
Чтобы смягчить удар при посадке, лобовой щит капсулы, воспринимающий максимальные тепловые нагрузки, отстреливался, но полностью не отделялся от капсулы (как у нас в СА"Союза"), а вытягивал дополнительный амортизатор из специальной прорезиненной ткани на целых 1,2 м. Не только это: выдвинутый таким образом щит обеспечивал повышенную остойчивость. Сильно нагретый при торможении в атмосфере лобовой щит не успевал охладиться при спуске на парашюте и, по словам астронавтов, шипел в воде, как раскаленная сковорода.
Надо сказать, что после приводнения космонавту было совсем не просто добраться до суши, и это был довольно опасный путь.
Следует также отметить, что морская страница космических полетов внесла свои особенности в организацию всей программы. В поиски и эвакуацию астронавтов были вовлечены огромные силы ВМФ США, американские"военные навигаторы"(Navy). Американские военные корабли выходили на дежурство, как в основные районы посадки, так и в резервные, как в Атлантике, так и в"Пасифике"(Pacific [Ocean] – Тихий океан). Дополнительно несколько кораблей было дооборудовано для расширения сети наземных станций слежения.
Забегая вперед, стоит упомянуть, что одна из капсул все?таки затонула. Новая, модифицированная после первого полета крышка с механизмом открытия при помощи пироболтов неожиданно отстрелилась, и капсула стала заполняться водой. Гасу Гриссому, второму астронавту, слетавшему по баллистической траектории, с трудом удалось выбраться из капсулы, успев отцепить шланг своего скафандра, однако в него через незакрытый патрубок стала набираться вода. Вертолетчики тогда тоже оказались не на высоте, лишь в последний момент подхватив утопающего. Однозначно установить причину самопроизвольного отстрела так и не удалось, разные группы экспертов тянули в разные стороны. Даже тогда, когда в 1999 году удалось поднять капсулу с 2000–метровой глубины, картина произошедшего не прояснилась. Это был тяжелый, но хороший урок для всех, инцидент со счастливым на тот момент концом. Гриссом был высокообразованным летчиком–испытателем и прекрасным астронавтом; несмотря на инцидент, ему верили и доверяли. В марте 1964 года в качестве командира он вместе Джоном Янгом успешно слетал на самом первом двухместном корабле"Джемини"под именем"Молли Браун"("непотопляемая леди"), а еще через пару лет его же назначили первым командиром"Аполлона". Однако он действительно оказался фатально невезучим человеком: вместе с Эдвардом Уайтом и Роджером Чаффи он заживо сгорел в чисто кислородной среде капсулы при наземных испытаниях в январе 1967 года. Вероятно, трагедию можно было бы предотвратить, если бы крышка"Аполлона"открывалась быстро, при помощи пироболтов. Как стало ясно позднее, эти жертвы оказались далеко не напрасны. Трагедия стала не только шоком, она заставила американцев по–настоящему мобилизоваться: перестроить и сам корабль, и организацию всех работ, что, как выяснилось, было абсолютно необходимо. Мне еще придется вернуться к этим событиям и делам в рассказе"К Луне и на Луну".
В целом программа"Меркурий"показала, что для полета человека в космос необходима действительно глобальная инфраструктура, создать которую оказалось под силу только супердержавам.
Капсулу"Меркурия"очень удачно скомпоновал мой будущий коллега Кэдвелл Джонсон. В целом конструкция сложилось очень удачно. Однако на этапе детального конструирования разместить все необходимое оборудование внутри капсулы оказалось очень непросто. Там было очень тесно, к тому же у конструкторов"Макдоннелла"не было поначалу нужного опыта. Трубок, шлангов и проводов там было намного больше, чем под капотом современного автомобиля. Ведь только реактивных двигателей РСУ для управления капсулой относительно всех трех осей координат набралось 18, а туда еще втиснули все остальное оборудование: что?то вроде кондиционера, систему радиосвязи, аккумуляторные батареи, приборы автоматики и телеметрии и многое другое. Особенно доставалось специалистам тогда, когда требовалось исправить или заменить какой?то узел или прибор: приходилось порой вытряхивать половину капсулы.
В своих первых космических программах американцы применили чисто кислородную атмосферу; это давало некоторые весовые и другие преимущества, но хлопот и неприятностей в космосе и на Земле прибавилось. Однако на"Меркурии"и"Джемини"Бог их миловал за это отступление от естественных условий.
Часть специалистов"Группы"под руководством К. Крафта, будущие операторы, довольно быстро и хорошо разглядели специфику космического полета, его отличия от авиации, которую они хорошо знали. Вскоре им стало ясно, какие операции мог выполнять астронавт в полете, что надо оставить за автоматом и что требовалось контролировать и чем управлять с Земли. Не ограничиваясь лишь аналитическими выводами, они предложили и затем сами реализовали эту концепцию на практике.
Концепция управления фактически распространялась на все разделы техники полета в космос и возвращения на Землю: на системы корабля, наземный комплекс и даже на ракету. В течение тех же считанных месяцев НАСАвцам удалось заложить основы космических операций и управления полетом, и это, опять же, относилось как к техническим средствам, так и к методам управления.
Прежде всего стало ясно, что для запуска на ракете в космос, для контроля за полетом капсулы необходим глобальный наземный комплекс слежения и управления. Первый ЦУП – Центр управления полетами ("MCC – Mission Control Center, в английской аббревиатуре «М» изначально стояло за «Mercury») стали строить там же, на мысе Канаверал, недалеко от стартовых площадок в то время лишь военных ракет. Еще один ЦУП, запасной, появился под Вашингтоном, в НАСАвском Центре Годдарда. Что касается системы станций слежения за полетом космической капсулы, то здесь американцам удалось проделать огромную организационно–техническую работу и тоже за удивительно короткий срок, создав целую сеть станций, разбросанных вокруг всего земного шара, и оснастив их самой современной по тем временам аппаратурой слежения, приема информации и связи. В том числе они реализовали компьютерную обработку данных с орбиты. Мы смогли прийти к этому только через много лет, когда стали готовиться к стыковке с заокеанской космической техникой.
В конце 50–х создание наземного комического сегмента, как его позднее стали называть, потребовало от американцев и сверхоперативности, и суперрасходов, и даже супердипломатии, ведь часть станций разместили в других странах. У нас такое было практически невозможно, прежде всего из?за глобальной системы секретности.
Как отмечалось, и первые НАСАвцы, и тем более, специалисты фирмы «Макдоннелл», создававшие те самые «дугласы», были авиационными инженерами. Несмотря на это, им пришлось многое поручить автомату, к тому же часть запусков производилась в беспилотном и «обезьяньем» варианте. В результате при проектировании «Меркурия» удалось полностью автоматизировать выполнение основной программы полета. На борту появился и инфракрасный датчик горизонта, очень похожий на нашу «инфракрасную вертикаль», и гирокомпас курсового угла, и командная радиолиния, по–нашему – КРЛ, и радиотелеметрическая аппаратура. Конечно же, бывшие самолетчики дали возможность первым астронавтам «порулить» капсулой, но это – лишь на орбите. Управлять ракетой было практически не нужно, за исключением, пожалуй, САС – в кабине установили кольцо, потянув за которое, астронавт мог включить эту систему аварийного спасения, чтобы оторвать капсулу от такой непредсказуемой и тогда совсем еще не знакомой им ракеты. САС устанавливалась на обеих ракетах: на «Редстоуне» и «Атласе». Американцы отказались от аварийного спасения только в программе «Джемини», почему?то посчитав свой «Титан» очень надежным. Правда, ни он, ни другие носители, включая «Сатурны» фон Брауна, на которых снова вернулись к САС, их ни разу не подвели.
В целом, не сговариваясь, и американцы, и мы стали управлять своими первыми полетами в космос по весьма похожей схеме. При этом с самого начала наметились и существенные различия. Прежде всего, американцы не предусматривали на своих кораблях такого большого количества команд КРЛ и телеметрических параметров, как мы. Да и позже на борту наших кораблей закладывалось также больше автоматических программ и подпрограмм, так что практически все режимы полета могли выполняться без участия пилота. У американцев автоматически выполнялось лишь небольшое число основных операций, а беспилотные полеты были очень упрощены. С усложнением космических программ и задач, решаемых на орбите, эти различия стали гораздо заметнее.
Как уже упоминалось, американцы капитально подошли к созданию Центра управления полетом – ЦУПа и глобальной системы станций слежения и управления, освоив наземные компьютеры, которые обеспечивали автоматическую обработку данных телеизмерений и передачи их в ЦУП. Идеолог управления К. Крафт стал первым директором полета (flight director): он непосредственно руководил полетами и «Меркурия», и «Джемини». Руководитель полета поддерживал непрерывную связь со всеми специалистами, отвечавшими за основные технические системы, за контроль параметров полета и самой капсулы. Его позывным на директивной связи («на циркуляре») был «флайт» (flight – полет). Так, кстати, назвал Крафт свою книгу, которую он написал 40 лет спустя. Первые управленцы заложили также основы субординации при управлении космическими полетами, и пока он оставался за консолью (console – пульт), никто не имел права вмешиваться в его решения, даже президент США, как они любили похвастаться. В то же время руководитель полета координировал подготовку своих астронавтов на Земле и работу управленцев в ЦУПе, когда они стояли за своими «консолями» – пультами управления. На начальном этапе все они принимали участие в проектировании средств управления полетом, а также техники тренировок экипажа и наземного персонала управления. Тренажерная база и методы тренировок – это еще одна задача и еще одна школа, которую им пришлось пройти сполна, от самого начала.
Американцев подгоняло и вдохновляло не только давление сверху, но и разбуженные патриотические чувства. В те годы американский народ, не остывший еще от войны и подогреваемый соревнованием с Советским Союзом, очень бурно реагировал на достижения в космосе. Гонка в космосе (space race) действительно приобрела огромный и всесторонний размах.
Как всегда, на Западе огромную роль играли средства массовой информации. Они сильно нагнетали обстановку, впрочем, как и в нашей стране, правда, у нас – только после полета. В отношении подготовки к полетам их открытость, гласность резко контрастировали с нашей секретностью, что одновременно и давало американцам дополнительные козыри и вызывало трудности: ведь все делалось на виду и скрыть недостатки, тем более провалы, было невозможно. Первые НАСАвцы охотно и умело общались с прессой, а те им платили, в основном, той же монетой.
Несмотря на отчаянные усилия, американцам не удалось нас тогда обогнать. Объективно это было трудно сделать. Королев и его соратники в начале оторвались слишком далеко, хотя в соревнованиях сильных соперников случалось всякое. Как они заявляли позднее, у них был шанс совершить свой суборбитальный прыжок в космос в марте, раньше орбитального полета Гагарина. Ведь первую беспилотную капсулу «Меркурий» запустили в конце 1960 года, а специально тренированная человекообразная обезьяна по имени Хэм (Ham на американском сленге – позер, а иногда… радиолюбитель) слетала в январе 1961–го. Этот полет оказался совсем не обычным. Хэму пришлось испытать несколько серьезных осложнений. Началось с того, что преждевременно выключился основной двигатель ракеты, а это вызвало срабатывание реактивного двигателя аварийной системы САС и, как следствие, дополнительные перегрузки и отклонение от расчетной траектории. Ввиду отказов приборов автоматики произошла разгерметизация кабины из?за срабатывания «дыхательного» клапана в вакууме (надо отметить, что подобный отказ погубил трех наших космонавтов при возвращении с первой станции «Салют» на Землю десять лет спустя, а Хэма спасло то, что он летал в скафандре). В полете обезьяна выполняла специальные задания, основанные на условных рефлексах, приобретенных с помощью метода нашего академика И. П. Павлова; так вот, несмотря на правильные действия, вместо награды в виде банана голодный и несчастный Хэм получал от отказавших приборов удары током в пятку. После приводнения капсула чуть не утонула в долгом ожидании спасателей.