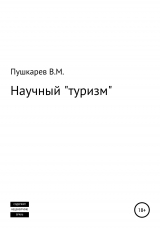
Текст книги "Научный «туризм»"
Автор книги: Владимир Пушкарев
Жанр:
Кулинария
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Первые впечатления
Сам я, извиняюсь, с Кишинева…
Познакомился с сотрудниками. Ямашита отсутствовал по уважительной причине. Руководство лаборатории было представлено лицом сенсея Намбы с симпатичной хвамилией – Хироюка. Остальные – наши. Двое – Галия и Серик из Казахстана, Дима, Надя и Ира из Киева, Таня из Беларуси, Алексей и Володя из России. Причем, Алексей из Смоленска (генетически мои родные места), а Володя из Обнинска, тщательно обгаженного мною в специальном рассказе («Поездка в Обнинск»). Как оказалось позже – Ира родом из Снятина (36 км от Черновцов) и работала одно время у Глебы. Мир тесен…
Вторым сильным впечатлением было качество пива, суши и сашими в этой самой сусисочной. Такое суши я ел впервые. На удивление хорошим оказалось и пиво.
Третьим – сам город – дикое нагромождение современных зданий, старых построек, маленьких деревянных халупок и особняков в японском стиле под немыслимыми углами. Вот что значит священное право частной собственности! Имеешь свой участок земли в городе – делай с ним, что хочешь: можешь гостиницу построить на 20 этажей, можешь сортир на два очка, а хочешь – капусту выращивай. Улицы тоже проложены без всякого плана – вкривь и вкось, по кругу…
Гостиница
Поселили меня в маленькой университетской гостинице. Номерок в полуподвале – небольшой, сырой, уютный. С ванной, электрочайником и холодильником. В коридоре стоит стиральная машина – для общего пользования. В день – около 1500 йен, что очень дешево. До лаборатории минута ходу. Я бы, пожалуй, и остался в ней, но долго жить в гостинице нельзя – мне разрешили пожить только неделю.
Университет
У главного входа по утрам стоит человечек в синей униформе, белых перчатках, фуражке и регулирует движение автомобилей по территории. С пешеходами здоровается с поклоном, с водителями – пионерским салютом. Мелочь, а приятно! Я работаю на медицинском факультете университета. Основной кампус расположен дальше от центра города. Наш факультет – комплекс современных зданий, облицованных белым «кабанчиком», и несколько парадных зданий из красного кирпича. По территории – магнолии, черешни и пальмы (в основном, финиковые – причем, некоторые с плодами), клумбы, фонтаны – очень приятная планировка. Есть два корта (строят третий), бейсбольный стадион, спорткомплекс. Саутин, в свое время, работал в более уютном здании и месте, рядом с мусорником и кортом.
Мое вливание в коллектив произошло не так просто, как мне бы этого хотелось. Должность (visiting professor) оказалась слишком значительной. Пришлось представляться на заседании Ученого Совета университета. Для меня всякое публичное выступление всегда было очень неприятной, почти болезненной процедурой. А тут еще и на английском, при том, что я и по-русски с трудом объясняюсь, если без мата. Но, в чужой монастырь… Поэтому я быстренько сочинил речь и перевел ее на английский. Многоопытный Володя основательно поправил текст, в частности, заменил любимое слово итальянской мафии respected – уважаемые, на distinguished – выдающие. И все прошло хорошо, речь была воспринята тепло, главным образом потому, что, как объяснил мне Володя, японцы ее поняли.
Лаборатория
Кош-кылды-ныздыр22
Добро пожаловать (казах.).
[Закрыть] в Японию…
Завлаб Ямашита приходит в 6–30 и уходит в 23–30. И это никого здесь не удивляет. В соседней лаборатории есть сотрудник, который всегда (когда бы я ни пришел в лабораторию – утром, вечером, в выходные) сидит на своем рабочем месте. За первые две недели я не видел, чтобы это место пустовало. Больше нас работают и генетики на втором этаже. Многие работают по ночам. Такого, чтобы во всем корпусе не было людей в любое время дня и ночи – не помню! Ямашита, возвращаясь из длительных командировок, прямо с самолета всегда едет в лабораторию. В 11 вечера! Так что переплюнуть японцев в плане работоспособности или усидчивости невозможно. Это вам не Америка с Европой, где в 5 уже живой души во всем лабораторном корпусе не встретишь, а в 6 вообще в помещение не войдешь. У меня даже случилось что-то вроде дежа вю по прибытии в Нагасаки. Как будто снова попал в 1978 год в Алма-Ату. Та же жара, те же узкоглазые, тот же режим работы (жизнь в лаборатории), горы вокруг, горные речечки…
Правда, стиль работы, принятый в Японии, имеет и обратную сторону. Так, родные малолетние дети, увидев дома в дневное время Ямашиту – пугались и прятались в щели, а папой ошибочно называли его брата, который, видимо, бывал у них дома чаще. Сам же профессор долгое время путался в именах и возрастах собственных детей и с уверенностью мог назвать лишь одно – их общее количество!
Возле кабинета начальника есть магнитный стенд, на котором расположены разноцветные фишки – по одной на каждого сотрудника. Кроме того, есть схема мест, где дозволено появляться сотруднику в рабочее время. Любое изменение координат сотрудника во временно-пространственном континууме должно быть отражено на этой схеме. Идешь, к примеру, в библиотеку – пересунь фишку, чтобы начальник знал, где в данную секунду находится его подчиненный. И не дай вам бог не оказаться в той библиотеке в случае проверки сверху! В общем, фишки – это серьезно! Я лично был свидетелем эпизода, когда девушка из соседней лаборатории направилась, было, через коридор в туалет (в двух шагах), как вдруг вернулась, переставила фишку и только затем зашла в нужное ей помещение. Дисциплинированная нация, в отличие от нас, расп…ев! Кроме того, стеллаж с тапочками также свидетельствует о наличии персонала на рабочих местах. Увидит, например, профессор, что на Таниной полочке не туфли, а тапочки, и тут же сообразит, что Таня не блоттингом занимается, как ей положено по уставу, а стоит в очереди за модной кастрюлей с тефлоновым покрытием. Такой вот сквозной дроссельный контроль на всех уровнях.
Должен сразу отметить, что некоторые японцы сидят только для того, чтобы начальство видело, как оне сильно стараются. Я однажды наблюдал, как один такой сотрудник по кличке «говорун» (Володя тут употребляет менее цензурный синоним…, вернее совсем нецензурный), ждал Ямашиту до 10 вечера, периодически выбегая в коридор и проверяя наличие тапочек последнего на стеллаже. При этом он даже не пытался создать видимость работы – сидел в комнате, смотрел в пустой экран компьютера с заставкой и терпеливо ждал. Дождавшись, схватил бумажку и потрусил в кабинет начальника. Через 5 минут вышел с чувством выполненного долга и сразу же ушел домой. Это тоже японский стиль. Кстати, в отсутствие начальника вся работоспособность подчиненных мигом улетучивается. За целую неделю отсутствия начальника я видел «говоруна» только раз, и то мельком. Очковтиратели, их мать!
Чтобы не шляться в обеденное время, где попало, сотрудникам выделена большая комната с холодильником, микроволновкой, телевизором, электрочайником и др. приборами. Обеды («бенто») заказывают в специальной фирме, которая за это делает небольшую скидку. Ну, может и без скидки, но с бесплатной доставкой. Бенто – это пластиковая коробочка, в отделениях которой разложены разные продукты. Блюда очень разнообразны. Более того, даже блюдо с одним названием редко повторяется – каждый день вносят что-нибудь новенькое. И чего только в этой пище нет! Мясо – говяжье, свиное и куриное, рыба (и всевозможные изделия из нее), макароны, разные водоросли (иногда совершенно несъедобные), коренья экзотических растений (бамбук, лотос…), кукуруза, проростки фасоли и других трав, морепродукты, имбирь, маринованная капуста, морковка, редька, масса разных, порой очень подозрительных на вид, грибов… Ну и конечно же – рис. Все это поливается различными соусами – под определенные виды продуктов. Очень удобно – поел, выбросил в мусорный ящик, и не надо мыть посуду. Запивают все зеленым чаем. В холодильнике часто бывает пиво, но пить его можно только вечером по специальному сигналу начальника. В соседней (очень богатой) лаборатории в столовой огромный телевизор и, кроме того – бесплатные полдники, примерно часа в четыре, а на столе всегда стоят вазы с печеньем и фруктами. Если погода позволяет – можно выйти в университетскую столовую. Здесь еда уже чуть ближе к Европе, но возникают затруднения с языком – лучше ходить с попутчиками, немного понимающими японский.
Что интересно – встаешь из-за стола с полным желудком, через 15 минут ощущение сытости проходит, а еще через 15 уже мог бы съесть то же самое еще раз. Так что сильно раздобреть на местных харчах затруднительно. Я, кстати, что-то и не припоминаю толстых японцев, как-то не попадались – сумоистов, наверное, на специальных фермах откармливают.
Оборудована лаборатория очень хорошо. По качеству оборудования – можно сравнить с лабораторией в Уолтер Риде, но еще здесь есть хорошая культуральная, изотопная, источник гамма-лучей и виварий. Виварий вообще надо описывать отдельно – у нас операционные комнаты в больницах оборудованы значительно хуже! Пока дойдешь до комнаты с клетками по 2–3 раза переобуваешься и переодеваешься. Вся одежда и обувь для работы в виварии хранится под ультрафиолетом и опрыскивается спиртом. В комнате – работа в стерильных перчатках и в маске, чтоб, не дай бог, чем-то не заразить благородных мышек. Ну, кстати, и стоят эти мышки, как у нас кабанчик средней упитанности.
С реактивами тоже нет проблем. Два-три раза в неделю приходит японский человечек и, непрерывно кланяясь, принимает заказы. Причем, не просто записывает, как попка, а может что-то посоветовать, проконсультировать, а впоследствии и помочь в установке нового оборудования или программы под него.
Посуду и реактивы, кроме специальных, готовит лаборант. Посуда почти вся разовая – из пластика. Ассортимент пластиковой посуды, используемой только в культуральной, доходит до 50 единиц.
Много мелких удобств – педальки, включающие газ, водоструйные насосы в мойках, канистры с готовыми буферами, спиртовыми растворами и красителями, наборы готовых пробирок для уравновешивания центрифуги – что помещение не украшает, но отличает лабораторию функциональную от демонстрационно-показательной.
Основная масса сотрудников наши соотечественники. Они, в основном, и делают науку. Местные к ней не очень способны и работают неаккуратно, чем сильно раздражают наших. Японец, например, может залезть грязной пипеткой в большую банку со свежей средой (да еще и не принадлежащую ему лично) вместо того, чтобы отлить немного в пробирку. После окончания работы всё так и бросают, забывают выключить приборы, газ, свет, общую посуду за собой не моют, ну и так далее. Правда, тех японцев уже в лаборатории с гулькин … (немного осталось), а оставшихся Таня – главный человек в лаборатории – понемногу выдрессировала – реагируют даже на простые жесты. Что интересно, руками работают даже самые видные деятели лаборатории, например доктор Хироюка Намба (Володе больше нравится его называть по имени) – первый зам Ямашиты, хотя, как считают наши – лучше бы они не работали. Конечно же, встречаются исключения и среди японцев. Так, мне показывали довольно молодого человека из соседней лаборатории, у которого уже две статьи в Nature.
Многие лабораторные японцы наделены кличками. Рыба, Хомяк, Ямасик – чтобы можно было говорить о них в их присутствии. А то они как-то нервно реагируют на упоминание своего имени в разговоре по-русски.
Есть еще лаборант Такахаши, которого я в первое время принимал за предмет обстановки – настолько малоподвижным было это существо с сонной физиономией и почти закрытыми глазами. Когда он менял своё местоположение в лаборатории, мне казалось, что он не передвигается, а перетекает, как амеба. Наши мне, впрочем, объяснили, что хлопец он хороший и все делает очень качественно. Впоследствии я в этом убедился сам. Когда Такахашик по какой-то причине отсутствовал даже несколько дней, это сразу же остро ощущали все «экскрементаторы». Особенно когда готовить растворы вместо него брался кто-то из японцев, вроде Рыбы. К тому же, Такахаши разбирается в сложных компьютерных программах и может помочь установить новый научный прибор. Кроме лаборантских функций, он еще заказывает обеды на фирме, а затем собирает йены. Мы с ним сошлись на почве пива, а еще он заполнял за меня (наряду с Таней и Димой) обеденный заказ. Я указывал ему на картинку блюда, которое мне нравилось цветом и содержанием, и он аккуратно вписывал иероглиф в табличку. Должен сказать, что исполнить надпись самому мне не удавалось, даже имея перед глазами образец.
По пятницам семинары. С 16–30 и (часто) до 10–11 вечера. В лаборатории 3 семинарских группы. Одна группа докладывает об своих очередных успехах в раскрываемости важных научных проблем, другая – свежие интересные статьи, близкие по тематике, третья – отдыхает и (в лице Димы) задает каверзные вопросы первым двум. Через неделю – меняются. Основной язык лаборатории – русский, хотя доклады пока еще делают на английском и японском. Причем, есть отдельные русскоязычные особи, которые о своих успехах докладают не на русском, не на родном им белорусском и даже не на английском, а на японском. Такой вот позорный конформизм вместо того, чтобы стимулировать аборигенов к скорейшему овладению нормальным языком.
Сразу после заезда делал доклад и я. Обосновывал выбранную мной тематику исследований. Не могу сказать, что я поразил их своим выступлением. Говорю я вообще плохо, на английском делал доклад впервые и, кроме того регулярно оскорблял японцев. Дело в том, что слово gap, означавшего в моей речи пробел (в знаниях по данной теме), я произносил, как «джеп», что является оскорбительной кличкой аборигенов со стороны хамоватых американских интервентов.
Что мне «понравилось», так это система формирования авторского коллектива научных статей. Ну, в первую очередь, вписывают завлаба – это святое! Затем включают всех начальников поменьше. Затем тех, кто статью правил или даже просто читал. Тех, кто принимал участие в обсуждении. Тех, кто проходил мимо по коридору в тот момент, когда эта статья обсуждалась. Тех, кто мог проходить мимо по коридору в тот момент, когда эта статья обсуждалась, но не смог пройти по уважительной причине. И, наконец, лиц, не принимавших участие в эксперименте, работе над статьей, обсуждении, не проходивших мимо в момент обсуждения, но которым просто очень нужна публикация. Мне рассказывали, как обставляет свои дела с публикациями «говорун». Обычно он приводит к Володе сотрудника другого отдела и представляет их друг другу. В результате Володя проводит эксперимент, коллега из другой лаборатории пишет статью (которую тоже правит, или вернее переписывает заново, Володя), а «говорун» с чистой совестью вносит свою фамилию в авторский коллектив. Такое вот научное сутенерство. Достаточно спросить японца, где лежит нужная вам пипетка, чтобы он оказался в соавторах вашей статьи, ну а если он отлил вам 40 микролитров приготовленного им реактива – есть все основания ставить его в списке авторов на первое место. Это, что касается японцев. В отношении наших действуют другие правила. Человек, который сделал весь эксперимент и написал статью от начала и до конца, может (не обязательно!) оказаться первым в списке 20 соавторов. Ну, в точности по пословице – один с сошкой, семеро (часто – двадцать семеро) с ложкой. Мне рассказывали, как «говорун» при обсуждении Таниной статьи заявил, что это полный бред и что он в ней ничего не понимает (последнее было чистой правдой), а затем оказался в соавторах. Статья была опубликована в одном из самых престижных журналов. Все это многих наших очень раздражает, но, с другой стороны – кто платит, тот и заказывает музыку. Никто нас сюда особенно не звал, и являемся мы здесь людьми того же второго-третьего сорта, несмотря на приличные или даже высокие зарплаты.
Мне выделили кабинет (пополам с Володей Саенко) с секретаршей. Что с ней делать – не знаю, так как русским она владеет значительно лучше, чем английским, но хуже чем я японским. Мы с ней ходили (вернее ездили на такси) в горсовет – на прописку. Кроме того, оформляли аренду квартиры. Она же покупает нам всякую канцелярию и проплачивает (временно) все мои счета.
Рабочий день у меня с 8–8–30 утра и до 11–12 вечера. Иногда заканчиваю раньше, иногда – позже. Смотря по тому, сколько пива имеется в наличии. Это не трудовой подвиг – просто идти особенно некуда, да и не хочется. Летом погодка такая, что через 10 минут «похода» рубашку можно выкручивать, а в лаборатории холодное пиво, закуска и кондиционеры, что можно обобщить одним словом – благодать!
Длиннющая очередь в ГУМ. Мужик подходит, спрашивает – что дают? – Немецкие унитазы – отвечают. Стал в хвост очереди, отстоял, оплатил. Выдали какой-то длинный предмет. Дома развернул – 2 палки. Побежал обратно. Что это – кричит – за немецкий унитаз и что с ним делать?! Во-первых – объясняют ему – не немецкий, а ненецкий. А пользоваться просто – одну палку в снег втыкаешь и за нее держишься, а другой песцов отгоняешь.
(Советский анекдот)
Не могу не отметить и качество туалетов в здании. Унитаз здесь – это сложный, многофункциональный научно-технический прибор с подводкой напряжения, с многочисленными фотоэлементами, которые на что-то реагируют и что-то включают. Я вначале немного пугался – думал, это для того, чтобы бить током тех, кто забывает спустить воду, но потом понял, что ошибся – включаются подогрев сиденья и вентиляция. Разница между нашими «ненецкими» унитазами и японскими, как между «кукурузником» и истребителем «cтелс» последнего поколения. Затем имеется мойка и мощная сушка рук – тоже все на фотоэлементах. Когда она включается, то о факте посещения туалета сотрудником узнают все четыре этажа. Ну, о чистоте туалетов – не говорю, тут никакие сравнения не уместны.
Город
Cherry blossoms on the hill
A bell rang
At the temple
Вишня в цвету на холме
Прозвучал
Колокол храма
(Хайку от К.Танаки, зд. и далее)
Город очень необычный. По японским меркам небольшой – 430 тысяч. Очень уютный и чистый. Сидит в ямке, между гор, что, между прочим, спасло десятки тысяч жизней во время атомной бомбардировки. Горы невысокие, но достаточно крутые и покрыты пышной субтропической зеленью, на фоне которой выделяются светлые пятна бамбуковых рощ. Осенью горы раскрашиваются в золотые и ярко-красные тона, а весной на зеленом фоне возникают белые и розовые «одуванчики» сакур. С гор спускается масса речушек, забранных в бетон, что очень оживляет местность. Начинается город от залива и стелется по щелям между горами вверх. С одной стороны, это плохо – слабая вентиляция, с другой – хорошо – горы надежная защита от всяких ураганов, цунами, тайфунов и прочих зловредных стихий. В городе отличная канализация, что при их ливнях очень важно. Центр города расположен на равнине, вблизи порта. Университет стоит уже на некотором возвышении. Горы покрыты домиками иногда почти до вершин, хотя, как там люди живут и чем питаются – непонятно. Мне кажется, что в некоторые дома без альпинистского снаряжения не попасть. Крутизна лестниц, ведущих к отдельным микрорайонам, поражает. Часто верхний дом просто нависает над нижним. Улицы без названий, кроме некоторых центральных – так, есть что-то вроде Вокзальной улицы и улицы имени Ураками (название речки), которые ведут из центра к нам. Наш корпус университета расположен на улице «Мединститутской». Улицы, кроме магистральных, узкие, в основном без тротуаров – так, белой линией очерчена узкая полоска по краям дороги, на которой позволено находиться пешеходу. Город разбит на районы – мачи. Я живу в Хейва-мачи, Володя – рядом, в Хирано-мачи. Чуть ниже начинается злачный район – Хамагучи-мачи с массой ресторанчиков, забегаловок, бордельчиков. Многие дома имеют названия, как и в Уэльсе. Мой дом называется «Aim» плюс еще пару иероглифов, что они значат – не знаю. Свой адрес я еще не выучил. Попасть в чужом городе по нужному адресу невозможно. В путеводителях приезжим советуют сразу обращаться в полицию – там помогут.
Японцы очень бережно относятся к своим жилищам. Хозяйка углового домика на моей улице регулярно мыла щеткой сточную канаву, опоясывающую ее дом. Редко какой дом не украшен снаружи. Иногда такие дворики – просто произведения искусства, но даже в бедных районах рядом с домиком всегда высажены кустики рододендрона, карликовые деревья, цветы, на худой конец – просто выставлен вазон с вечнозеленым алоэ. Солидные учреждения украшают пальмами, сакурой, тем же рододендроном, цветущим всю зиму.
В качестве недостатков могу отметить, что электрические и прочие кабели не уложены в землю, а протянуты поверху, как в наших селах – на столбах, увешанных «гирляндами» проводов, креплений… Все это город не украшает. Ну, архитектура здесь очень своеобразная. Можно сказать, нет никакой архитектуры. Хотя, есть с десяток зданий большого объема, имеющих лицо. В первую очередь, это гостиницы, расположенные на «правом» берегу, за речкой и гаванью. Кроме того, церкви и здания европейского вида в центре и в районе Голландского спуска. Ну, и, конечно же – храмы.
Самый симпатичный район города – центр. Здесь можно погулять вдоль речки, спускающейся с гор с многочисленными дугообразными каменными мостиками, под старину. Многие мосты были очень древними, чуть ли не с пятнадцатого века, но мощные наводнения (последнее было в 1982 году) их регулярно сносили. В живых остался один мост 1676 года (самый симпатичный, кажется, он называется «Моритани»), который, правда, сильно пострадал от стихий, но уцелел. Потом мосты отстроили в точности, но впечатление уже не то. Самый известный мост – «очковый» (spectacular). Назван он так потому, что его две арки в тихую погоду зеркально отражаются в воде, создавая видимость очков. В речке плавают огромные разноцветные рыбы из карпообразных и небольшие черепахи. На камнях стоят стеснительные цапли – серые и, реже, белые. В общем, место очень уютное. Сейчас там, к сожалению, что-то строят, дорогу прокладывают вдоль речки – в общем, козлов и среди японских градоначальников хватает. Затем – район порта. Здесь один из центров вечерней и ночной жизни. Множество ресторанчиков с видом на гавань, променадные дорожки, большой и относительно дешевый универмаг – «Место мечты» с широчайшим ассортиментом продуктов, местных и европейских, но последние уже по дурным ценам. По выходным в порту часто устраиваются ярмарки с распродажей продуктов (в т.ч. и экзотических), сувениров. Мне очень понравились печеные устрицы. Очень вкусные, в соленом бульоне, который образуется в ракушке при нагревании – даже лимон не нужен. Сейчас строится очень симпатичный парк («…тут стоит культурный парк по-над речкою…») – с чистенькими, выложенными светлым камнем каналами с бирюзовой водой, мостиками, дорожками, полированными булыжниками и ресторанчиками. Недалеко от порта – Деджима – место поселения голландских торгашей, допускавшихся в Японию. Вначале это был насыпной остров в дельте реки Ураками (см. цв. вклейку), но постепенно море отступало, и сейчас этот «остров» оказался в центре города. Рядом – Чайна-таун – китайский квартал, вернее целый район, украшенный яркими драконами и фонарями с многочисленными китайскими ресторанами, китайскими лавочками. В центре квартала – играет китайская музыка. Рестораны не дешевые и просто дорогие. Так, блюдо из моих любимых креветок стоит порядка 30 долларов. Многие здания и входы в квартал оформлены с китайским колоритом – ворота с драконами и прочими химерами, загнутые коньки крыш. Китайский квартал перетекает в район ночной жизни Нагасаки. Узкие (только мотоциклом проехать), уютные, покрученные улочки с многочисленными клубами, барами, кафешками, ресторанчиками, бордельчиками – на любой карман и вкус. К сожалению, практически по всем этим прогулочным местам разрешено движение транспорта, ну а от мотоциклистов вообще нигде нет спасения.
Вдоль правого берега речки Ураками проложена приятная пешеходная дорожка из какого-то зеленого, резиноподобного материала. По ней я гуляю в центр, налегке. Вдоль дорожки высажены махровые сакуры, есть стадиончик, на котором японские старички пенсионного возраста играют в крикет, теннисные корты фирмы «Мицубиси», основанной еще покойным Сакамото.
Еще есть Храмовая улица – очень уютная узкая улочка вдоль многочисленных храмов и кладбищ, и аналогичная улочка под противоположной горой.
Что касается «монументальной пропаганды», то памятников, как таковых по городу относительно немного. Можно отметить памятник путешественникам в районе порта. Говорят, что 2000 молодых людей со всех закутков Японии перед ее повторным «открытием» в 1859 году посетили единственный открытый миру город, чтобы поучиться, так сказать, вдохнуть глоток воздуха свободы. Затем эта молодежь опять разбрелась по стране и, неся из Нагасаки дух (факел!) свободы, стала фундаментом периода Реставрации (Мейджи). На горе над храмами и кладбищем установлен странный штурвал с сапогами. Мне они оказались не по размеру. Есть еще памятник самураю Сакамото с двумя мечами, огромный монумент Будде из нержавеющего металла (вроде нашей «бабы» рядом с Лаврой) и монумент в честь лягушки по ул. Ураками.








