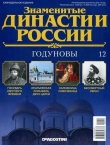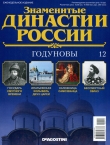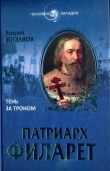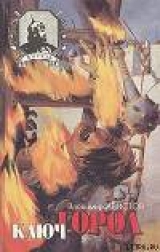
Текст книги "Ключ-город"
Автор книги: Владимир Аристов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
15
Отшумела желтыми ручьями весна. С июня месяца нежданные полили дожди. Изредка блеснет короткий солнечный луч и снова громоздятся над башнями и посадом тяжелые тучи. Сырой ветер гонял по вздувшейся реке курчавые барашки. Вода несла вывороченные с корнем сосны и тесовые кровли. Где-то в верховьи затопило деревни черносошных лесных мужиков. На Федора-колодезника вода хлынула в Городенский конец, едва не дошла до Покровской горы. Подержавшись недели две, вода спала, но дожди не переставали, мелкие, холодные, не по-летнему назойливые. Деловые мужики, бросив землянки, спасались где можно. У Пятницкого конца подмыло недавно выведенную башню и часть стены. Работы пришлось бросить. Глядя на залитые водою рвы, Конь думал о том, что постройку стен и башен к зиме окончить не придется. Стали копать тайники. На каждом шагу натыкались на грунтовую воду. Часто случались обвалы; в тайнике у Крылошевского конца земля обвалилась сразу саженей на десять, двоих мужиков задавило до смерти. Михайло Лисица сказал Федору – придумал, как отвести воду и спасти тайники от обвалов.
Целыми днями Михалка стал пропадать в тайниках. От подземной сырости ломило кости. Дым от лучины ел глаза. Михалка с подручными мужиками Ондрошкой и Белкой ставил под землею подпорки. Согнувшись, пролезал в ход Федор, смотрел на хитроумную Михалкину затею. Удивлялся, что не пришло в голову того же самому. Инженер Буаталонти считал строение подземных ходов сложным искусством. Но он никогда не говорил о том, до чего додумался Михалка Лисица.
Федор с той ночи у башни осунулся и постарел. Явственно блеснула в бородке седина. Лучами растеклись по лицу морщины. Грустью подернулись глаза. Когда шел медленной походкой мимо рвов и прясел, деловые мужики качали головами:
– Напустили на мастера порчу…
– Извели лихие люди.
– Про тех бы лиходеев сведать.
Из Литвы ползли тревожные вести: паны собирались воевать Смоленск. В Смоленске к таким слухам привыкли. Вести о замыслах Литвы приходили каждое лето. Москва тревожилась, гонцы привозили Звенигородскому наказы – не мешкать, стены и башни кончать скорым делом. Бояр Звенигородского и Безобразова деловые люди видели редко. Звенигородский за то время, что жил в Смоленске, ожирел, раздался еще больше, целыми днями спал, вечерами, позевывая, читал поучения дворовым холопам:
«А пошлет хозяин слугу куда в добрые люди, у сеней, как войти, ноги грязные отерти, нос высморкать, выкашляться, молитву сотворить, ждать аминя. Как впустят в горницу, носа перстом не копать, не кашлять, не харкать, не плевать, по сторонам не глядеть».
Иногда появлялся в лягушиного цвета кафтане Безобразов, сидел на коне уверенный, ловкий, проезжал вдоль рвов и прясел. Останавливался, чтобы кивнуть следовавшему по пятам холопу Копыто, когда нужно было проучить плетью зазевавшегося мужика. Провинившихся купцов-целовальников боярин таскал в приказной избе за бороды, от бояринова гнева те откупались подарками.
Булгак Дюкарев принес Звенигородскому клок выдранной бороды, жаловался на бояриново самоуправство. Князь только вздохнул. «Правду люди молвят – лют боярин Семен, не то из купецких бород, из камней деньги добудет». Обещал поостеречь боярина, чтобы впредь целовальникам бород не драл. Но Безобразову сказать о том забыл.
Дожди лили не переставая. Пришлось копать канавы, чтобы спускать изо рвов воду. Стены клали под дождем, оползавшую землю крепили сваями. Прясла перекашивало, сделанное приходилось переделывать по нескольку раз.
Как-то в воскресный день к Федору на попов двор заглянул Ондрей Дедевшин. Дедевшин раздобрел, ходил важно, как прежде, когда ездил с послами. Летний атласный колпак на голове с бобровой оторочкой, сафьяновые, мясного цвета, сапоги с закорюченными носами расшиты цветными шнурами, под новым кафтаном – сине-фиолетовый шелковый зипун.
Дедевшина Федор не видел с самой весны. Дворянин ездил по отписанным на государя заводам и каменным ломням, был среди надсмотрщиков первым, (за то дал боярину Безобразову бочонок полубеременный фряжского вина), присматривал за целовальниками и запасчиками.
Сидел Дедевшин на лавке, поглаживал аккуратную бороду – черную, чуть с серебром, говорил:
– За слякотью в городовом деле большая помеха. Людишки на кирпичных заводах против прежнего кирпича выжигают вполовину. Думаю – и в сем году, а и в будущем башен да стены всей, как ни тянись, не вывести. А стены и башни, что в слякоть выводили, сдается мне, не больно будут крепки.
Пытливо блеснул зеленоватыми глазами:
– Ты, мастер, как думаешь?
Федор молчал. Дедевшин спрашивал о том, что мучило его все эти дни. Город, поставленный мастером Конем, должен стоять века. Федор передернул плечами, ответил неохотно:
– Сам знаешь, город ставлю, чтоб и крепко было и в приход Литвы сидеть безопасно.
Посидели еще, поговорили о разном. Федор вышел на крыльцо проводить гостя. Дедевшин отвязал коня, седло на коне под кованым серебром. Вздел в стремя ногу.
– От Крыштофа Казимировича, если помнишь, купцы поклон привезли, сам собирается на зиму с товаром быть.
Федор смотрел вслед отъезжавшему Дедевшину, думал: от каких доходов взялся у захудалого дворянина дорогой кафтан, зипун шелковый да кованое серебром седло?
16
Все дни Федор проводил у башен и прясел. Работа, суета и перекликиванье мужиков гнали тоскливые мысли об Онтониде. Как-то мастер предложил Лисице учиться грамоте. Михайло от радости сразу не мог выговорить слова. «Давно, Федор Савельич, о том думаю». Стал он каждый день по вечерам приходить к Федору на попов двор.
Михайло оказался на редкость сметливым, литеры заучивал на лету, через полтора месяца бойко читал псалтырь. Поп Прокофий косился на мастера, хрипел в бороду: «Какого ради дела черного мужика псалтыри научаешь? Церковного чина без приходу сколько шатается. Попы безместные у приходских хлеб отбивают, за деньгу молебен с водосвятием правят». Тому, что говорил мастер – грамота нужна Михайле, чтоб научиться чертежному и каменному делу – не верил. Завидев Михайлу, сердито посапывал.
Как-то в ненастный вечер сидели в горнице. Федор читал главу о строении крепостей из любимого трактата Альберти «Десять книг о зодчестве». Михайло, подперев рукой подбородок, жадно слушал. Федор латынь знал хорошо, переводил на русский без запинки.
«…В стене через каждые пятьдесят локтей потребно добавлять в виде контрфорсов башни с выступающими полукругом фасадами, более высокими, чем стена, дабы когда враг осмелится подойти ближе к стенам, обнажил бы снарядам свою незащищенную сторону и был бы уничтожен. Таким образом, и стена башнями, и башня башнею будут защищены».
Поднял от книги глаза, спросил:
– Разумеешь, Михайло, какая в башнях сила?
Читал дальше.
«…По обеим сторонам ворот древние обычно ставили две одинаковые, более крепкие, башни, которые подобно рукам осеняли устье и глубину входа. В башнях не делают сводов, а стелют деревянные настилы, дабы в случае нужды их можно было бы снять или истребить огнем. Полы башен не надо прибивать гвоздями, дабы их можно было разломать при победе врага. Нужно также устроить и кровы и убежища, куда можно отступить и где часовые будут укрываться от зимних метелей и тому подобных невзгод. В башнях пусть будут обращенные книзу отверстия, через которые ты будешь бросать на врага камень и факелы и лить воду, если от чего-либо загорятся ворота. Створки ворот ограждаются от огня, если покрыть их кожею и железом…»
Лисица не спускал с Федора глаз. «Умен мастер: по-чужеземному читает, как по-своему». Вспомнил слова, как-то сказанные Конем: русские люди понятливее иноземцев, в полгода выучиваются тому, чего немчину и в год не одолеть. «Пока стены поставят, немалому у Федора Савельевича научусь».
Мастер читал:
«О КРЕПОСТИ ИЛИ ЖИЛИЩЕ ЦАРЯ И ТИРАНА, ИХ РАЗЛИЧИИ И ЧАСТЯХ
…Достойнее всех те, кому доверяется управление и руководство всем. Их может быть несколько или один. Достойнейшим, конечно, будет тот, кто один повелевает прочими. Величайшая разница заключается в том, какого рода будет сам правитель. Подобен ли он тому, кто свято и благочестиво повелевает послушными и кто не столько печется о своей корысти, сколько о благополучии и пользе своих подданных, или же, напротив, хочет повелевать народом, вопреки его воле. Города не должны быть одинаковы у тех, кого называют тиранами, и у тех, кто блюдет власть, как вверенное ему служение. Ибо город царей укреплен более чем достаточно, если он в состоянии отражать наступающего врага. Тирану же, поскольку свои ему ничуть не менее враги, чем чужие, город потребно укреплять на обе стороны – против чужих и против своих, и так укреплять, чтобы иметь возможность пользоваться поддержкой и чужих и своих против своих же…»
Федор отодвинул книгу, долго говорил о тиранстве бояр, о лихоимстве дьяков и воевод, об угнетениях черных людей.
Михайло Лисица, затаив дыхание, не отрываясь смотрел на мастера. В серых с золотинкой глазах его разгорались огоньки.
17
В починке Подсечье жили невесело. Мужики Онтон Скудодей и Скорина как-то под вечер сидели в Оверьяновой избе. Лето, а сырость в открытое волоковое оконце лезла мозглая, осенняя. Слышно было, как по-мышиному шуршал о крышу дождь и где-то шлепали просочившиеся сквозь тес водяные капли.
Мужики молчали. Думали. Подумать же было о чем. Утром приезжал княжеский приказчик Ивашко Кислов. Крикнул мужиков. Сидел на коне сгорбясь, злой, с отсыревшей бородой, в промокшей насквозь от дождя чуге.[16]16
Чуга – кафтан с короткими рукавами.
[Закрыть] Напомнил: «В четверток на той неделе бояринов ангел. Как исстари заведено, быть вам на ангела на господиновом дворе с поминками – по калачу со двора, да меду по десяти гривенок, да грибов сушеных, на нитку низаных, по саженю, да беличьих пупков, боярину на кафтан – по полуста. А кто более сего принесет, тому быть от боярина в милости. – Погрозил: – Не лукавьте: у кого окажутся худые поминки, быть тому мужику у господина в опале».
Сидели мужики в избе, покряхтывали. От шуршания, от шлепания дождевых капель лезли в голову тоскливые мысли:
– Ох-хо-хо-хо!..
– В эту пору в прежние годы новину ели.
– В слякоть такую не то зерно, солома сгниет.
– С чего бабам на бояринова ангела калачи печь?
Посидели еще, поговорили о слякоти. В корыте запищал ребенок. Укачивая младенца, завозилась, замурлыкала в углу баба Оксинька, Оверьянова невестка. Мужики вышли во двор, зашлепали по лужам к воротам. Оверьян, проводив соседей, стоял на крылечке, смотрел в опускавшиеся дождевые сумерки. Над черной окраиной бора низко тащились набухшие водой тучи. В небе ни просвета. Третий месяц лили дожди. На Илью-пророка привозили в починок облакопрогонщика Меркушку Казанца, гривастого, дикого на вид мужика. Меркушка сказал: «Дождь напустила Литва беззаконная».
Вырезал батожок, примолвливал что-то, бегал взад-вперед, махал батожком, гнал облака прочь. Кликал лесным голосом: «Облака гремучие, молоньи горючие, идите от нас стороной, на Литву поганую дождем пролейтесь, пеплом развейтесь за лесами дремучими, за горами высокими, за реками широкими».
Толку от облакопрогонниковых примолвлений не получилось, дожди лили по-прежнему изо дня в день.
С крыльца Оверьян увидел бредущих ко двору сыновей Ортюшку и Панкрашку. Ортюшка нес берестяное лукошко. Сыновья ходили в лес – промыслить в бортях. Издали видно, что возвращаются с пустыми руками. Взяток меда был совсем плохой. В бортях вместо меда находили рои мертвых пчел.
Ортюшка бросил лукошко, стал выжимать промокший озям. Оверьян заглянул в лукошко. Поковырял пальцем бурые соты с застывшими в ячеях заплесневелыми пчелами, покачал головой: «Откуда меду добыть, боярину на ангела снести?»
На успение ударил небывало ранний мороз. Оверьян, выбравшись ранним утром из избы, ахнул. Иней покрывал все вокруг. Под босыми ногами хрустнул тонкий ледок. Небо холодное, голубое, без единого облачка. Стоял Оверьян босой, не чувствовал пробиравшегося под рубаху холода. В голове одна мысль: «И овес вконец сгинул».
Вышли на двор соседи Скорина со Скудодеем. Собрались вместе починковские мужики, качали головами:
– Думали хоть с овса зерно выбрать.
– Куда пойдешь…
– Доведется боярину челом бить…
– Добро, если боярин подмогу даст.
Перед днем бояринова ангела бабы выскребли последние горсти муки, что еще остались в кадях, спекли по калачу. Утром, запрягши в волочугу Оверьянового конька, поволоклись починковские мужики в Морткино.
Тащились через болота и лес по узкой просеке. За лесом начинались поля морткинских мужиков. На полях оловянно поблескивала вода. В воде бурыми островками – полегшая рожь. Мужики вздыхали, думали одинаковое: «Господи, чем зиму людям кормиться? К мякине да еловой коре мужицкое брюхо привыкло. А тут пришло – и мякины взять не с чего».
На бояриновом дворе, у холопьей избы, толклись мужики. В руках у мужиков коробейки. В коробейках поминки. Тихо переговариваясь, ждали бояринова выхода:
– Муку на калач боярину баба с прошлого года берегла.
– Господину и дождь не лихо – житницы от хлеба ломятся.
– Не даст боярин жита на прокорм – кину двор.
– Кидай. Один мужик от боярина сбежит, а двое новых порядятся.
– Был бы хлеб, а мыши будут.
– А хлеб у кого? У бояр да черноризцев.
Из холопьей избы вышел приземистый холоп; послушав мужичьи разговоры, озорно подмигнул:
– Подаст бог на братию голу. – Со злостью: – А не подаст – кистенями добудем.
Кто-то шикнул на холопа:
– Смотри, за такие слова…
Оверьян про себя вздохнул: «Кистенями добудем. Не приведи господи в лихие идти…»
Босоногий горничный отрок вынес на крыльцо стулец, поставил рядом скамью для поминков. Махнул рукой: боярин бредет. Мужики притихли, пододвинулись к крыльцу, скинув колпаки, ждали.
Князь Василий Морткин вышел на крыльцо. Одет он был по-праздничному: на плечах крапивного цвета кафтан, на голове шитая тафья, жидкая борода для важности пущена в стороны. За бояриновой спиной – ангелом Ивашко Кислов.
Мужики метнули в землю головами:
– Здрав будь, князь-боярин, на многие лета…
Морткин опустился на стулец, вытянул жилистую шею, пересчитывал мужиков:
– Пошто все не прибрели?
Из-за спины высунулся Ивашко и скороговоркой:
– В нетях Сенька Лукьянов, Автономка Калентьев да бобыли Васька с Петрушкой, боярин-государь. А потому в нетях, что речка полноводна – не перебраться. – Тихо: – Тем мужикам и нести твоей милости, князь-боярин, нечего: не то хлебного или другого чего нет, мыши в избах с голоду подохли.
Мужики поднимались на крыльцо, кланялись, лобызали бояринову руку, клали на скамью поминки: калачи, куски полотна, связки грибов, ставили крынки с медом и маслом. Князь Морткин корил крестьян за худое приношение, Оверьяну ткнул калачом в лицо. Калач был спечен из остатков невеяны, черный.
– Заворовался, рваные уши!
Покорил и мед, похвалил только беличьи пупки, что Оверьян запас еще с прошлого года. Вина мужикам налили по малой чарке. В прежние годы давали по большой.
18
Мычали коровы. Перекликались звонкоголосые стрельчихи. Почесываясь и ежась от утренней прохлады, воротники[17]17
Воротники – сторожа у городских ворот.
[Закрыть] у новых ворот, гремя решетками, пропускали стадо. Солнце вывалилось из-за бора большое и багровое. На зубцах городских стен и неоконченных пряслах розово заиграл иней. На Днепровской башне колюче сверкнул медный шпиль. Над рассекавшими город яругами курился туман. Со всех сторон тянулись к пряслам деловые мужики, шмыгали лаптями, переговаривались:
– Хлеб – рубль четь.
– Втрое против того, что весной.
– От вскупов житья не стало.
– Что ни неделя, цену в гору гонят.
К башне с Молоховской стороны, выведенной до нижних бойниц, пришел Михайло Лисица, потыкал шестом в яму. В яме загашенная вчера известь. За ночь яму затянуло ледком. Лисица покрутил головой, вздохнул: «Не поспеть до морозов башню вывести, хоть Федор Савельич торопит – Литва-де воевать собирается».
Подошел подмастер Огап Копейка, взял у Михайлы шест, ткнул в яму, хрипло сказал:
– Известь худо растворена. Как тесто густа. Колькраты тебе говорено – растворять редко.
Михайло, прищурясь, смотрел на подмастера, в глазах усмешечка.
– Прости, Огап Омельяныч, по старинному обычаю известь на Руси жидко растваривали, оттого крепости в кладке не было. Флорензец Ольбертов велит известь учинять колько можно гуще, чтоб вязко было.
У Копейки борода сникла, лицо потемнело. «Флорензец Ольбертов, – вот оно, Федьки Коня научение. Сегодня перечит мужичишка, а завтра, гляди, в подмастерах первых ходить станет». Зачесалась рука поучить Михайлу суковатым костылем, как, случалось, учил иногда деловых мужиков. Однако воздержался – слышал о бешеном Михайловом нраве. Вспомнил, как Лисица стащил с коня владычьего сына боярского. Заступился тогда за Михайлу мастер, а через неделю все же взяли охальника на архиепископов двор, били нещадно плетьми и на цепи в смиренной палате держали три дня. Сказал:
– Коротка память, что большим перечишь, после владыкиного научения кожа скоро поджила… – Хотел прибавить что-нибудь обидное о мастере – не посмел.
Михайло не сморгнул глазом:
– Что прошло, то быльем поросло, не чванься, горох, перед бобами, будешь и сам под ногами. Об извести речь идет. Растворена, как мастер Федор Савельич научает.
Копейка досадливо отмахнулся:
– Недосуг мне с людишками препираться, сказано есть: «Не мечите бисера перед свиньями». – Отошел, поглаживая бороду. – «Дай время сыскать прицепу. Доведу боярину Безобразову – закусишь батожьем».
Сходились деловые мужики, становились к делу, кто – класть башни, кто – таскать страднические одры. В разных местах мужики, став цепью, подавали из рук в руки кирпичи на прясла. В подавальщики Федор ставил тех, кто не знал другого дела; таких каждый день сходилось к Смоленску порядочное число. Приходили – у иного на костях одна кожа, только горят запавшие глаза, у другого лицо в опухоли, глаза как щелки, ноги раздулись колодой. Валились ниц перед целовальниками и присмотрщиками, вопили – погибают голодной смертью, просили поставить к делу. Подавать кирпич на прясла из рук Конь придумал, чтобы занять чем-нибудь голодных мужиков. Мужики тяжко двигались на распухших ногах, роняли кирпич, иногда, поев хлеба, падали в корчах. Мертвецов каждый день десятками стаскивали на скудельный двор.
Солнце слизало иней. Уполз в овраги туман. Тянутся высоко в небо увенчанные шпилями оконченные уже башни, а выше их – медные главы мономахова храма Богородицы на Соборном холме.
Федор смотрел на город из окна Заалтарной башни. Внизу стучали плотники, настилали в башне мосты. Вниз к Днепру, перемежаясь с башнями, щерились саженными зубцами крепостные стены. У реки стена поворачивала почти под углом, обогнув Пятницкий конец, снова взбиралась на холмы. Стены выводили с двух сторон. Были выведены тридцать две башни и четыре с половиной версты стены; оставалось поставить шесть башен. Прясла сойдутся у Молоховских ворот и тогда сбудется то, о чем думал мастер все четыре года. Крепость, равной которой нет на Руси, будет окончена. Ядра не сокрушат ее могучих стен. О грозные башни разобьются вражеские рати. Смоленск – ключ к Московскому государству. Силой его у Москвы не взять. С гордостью подумал словами из книги Альберти: «Враг чаще был одолеваем умом архитектора без помощи оружия полководца, чем мечом полководца без совета архитектора». Кольнула тревожная мысль: разве изменой Литва возьмет город.
Спустился с башни на стену. На стене простор – ширина, хоть на тройке скачи, две телеги встретятся – разъедутся, не зацепившись. Брел по пряслам из башни в башню. В башнях сумеречная тишина и сырость. От тишины в сердце прокрадывалась грусть. Думалось почему-то об Онтониде. Вспомнил вечер, когда сидел с Онтонидой в Хионкиной избе: «Федюша, сынок у нас будет». Вспомнил и радостные мысли, как обучит он сына городовому и палатному мастерству. Горько усмехнулся. Некого теперь учить. Попы на всякое ученье косятся, не было бы от ученья богопротивных ересей. Попы же на Руси – сила. Умрет мастер Конь и заглохнет на Руси трудное искусство городового строения; опять будут государи иноземцев выписывать.
Пришел на память Михайло Лисица. Вот кому передаст он то, чему сам учился всю жизнь. Вспомнил, как, затаив дыхание, слушал Михайло главы из книги Альберта и сверкал глазами, когда говорил ему Федор о неправде на Руси. Все то, чему Федор Конь сам учился, часто подглядывая за иноземными мастерами, откроет он Михайле.
Издали с прясла Федор долго смотрел на башню над Днепровскими большими проезжими воротами. Под легким куполом нежно сквозило в овальных окнах голубое небо. Уговорил все-таки князя Звенигородского Днепровскую башню ставить с полубашней. Башня была самою высокою из всех, тринадцати саженей без кровли. Приезжал владыко Феодосий, смотрел на башню вблизи у подножия и издали с Городенского конца, воеводе Трубецкому сказал:
– Истинно воздвиг Федька красоту неизреченную.
В ответ воевода сердито дернул бородкой:
– Не пригожи твои слова, владыко. Не Федькиным тщанием город воздвигается, а трудами и милостью великого государя всея Русии Бориса Федоровича с бояры.
Федор спустился с прясла, побрел вдоль стены. В печоре заметил скорчившегося мужика. Мужик лежал, подогнув под себя ноги. Сквозь рваный холщевый озям виднелось тощее тело. Подошел ближе, увидел раздутое лицо и застывшие глаза. Рядом остановился посадский.
– Еще мертвец. Сколько их, сирот, мрет. Из Микулинской башни утром троих выволокли. – Жалко дернул запавшими желтыми щеками. – Скажи бога ради, мастер, чего черным людишкам ожидать – смерти или живота? У мужиков рожь на корню от слякоти сгнила, купцы цены на хлеб кладут неслыханные. Да и тот продают – прежде в ноги накланяешься. На посаде черные людишки собак да кошек жрут, кору пареную гложут. – Махнул рукою, ссутулился, поплелся прочь.
Подбежал запыхавшийся Михайло Лисица.
– Федор Савельич! Бояре велели немедля к Молоховской башне идти, искать тебя людей во все стороны разослали. Князь Василий Ондреевич гневается.
Издали увидел Федор возок Звенигородского и лягушиного цвета однорядку Безобразова. Звенигородского у башен и прясел не видели давно.
Князь сидел в возке идол-идолом, лицо кирпичное, глаза щелками, пухлые руки сложены на брюхе. У возка – Огап Копейка, в руке колпак, борода лезет вперед, спина колесом, рожа умильная. Кроя в усах усмешку, покосил на Федора глазом. Звенигородский почесал нос, ткнул пальцем на мужиков, подававших кирпич:
– Пошто, бояр не спросясь, ненадобных людишек к делу ставишь? Заворовался. Государеву пользу не блюдешь?
Боярин кричал долго, до хрипоты. Федор переждал, пока князь откричится.
– Прости, боярин-князь Василий Ондреевич, не лишние люди, что кирпич на прясла подают. Как подавальщиков поставил, прясла и башни каменщики против прежнего скорее кладут. Прежде башню до середних боев в месяц выводили, ныне – в три недели. Сам, боярин и князь, ведаешь – великий государь Борис Федорович не один раз указывал: стены и башни скорым делом ставить. Я по государеву указу вершу.
Звенигородский сник, пошевелил пальцами, забубнил в бороду:
– То правда, скорым делом… – Продрал заплывшие глазки. – Не на то опалился, что поставил, а что самовольством то учинил. – Махнул рукой: – Ладно, есть от тех людей польза – пускай стоят. – Зевнул во весь рот и повернулся к Безобразову:
– Время, Семен Володимирович, ко двору ворочаться.
К Федору подошел Лисица, пощурился вслед отъехавшему княжескому возку:
– Поехал боярин государеву службу на пуховиках справлять. – Тихо: – Князю Огапка на тебя довел, ненадобных-де людей мастер к делу ставит.