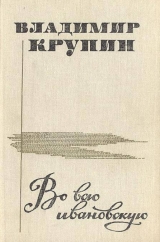
Текст книги "Во всю ивановскую (сборник рассказов)"
Автор книги: Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
В середине меж столиками месилась толпа. Некоторые не уходили по нескольку танцев. В перерывах висели друг на друге, курили.
Внешне они могли бы напоминать персонажей из фильма о загнанных лошадях, но там танцевали принудительно, а здесь истязали себя с наслаждением, с наркотическим отрешением от всего. На измученных лицах с безумными глазами все равно читалось блаженство.
Итак, я дождался. Девица в белом балахоне подошла и сказала:
– Что ж это вы, мальчики? Сюда ходят не сидеть. Толя раскрыл рот, но ничего по-русски ему не удалось сказать – подошел бармен.
– Ноу-ноу, – отшатнулся Толя.
Девица взяла меня за руку и сдернула с сиденья. Хорошо хоть не надо было танцевать – в круге было так плотно от тел, что меня невольно дергало и прижимало к девице. В оркестре орал не только солист, припев орали они все, девица моя подпевала. Но как-то по-своему. Я вслушался. Оркестр орал: «Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна», а девица радостно кричала мне на ухо: «Я пью до дна, а муж мой в море, и пусть его смоет волна» – и требовала, чтоб я тоже пел.
– Ты замужем? – спросил я.
– Ну ты даешь, мальчик, – ответила она. – Ты мне нравишься, я на тебя давно гляжу. Я думаю, мальчик, у нас все будет хорошо.
– Вглядись, – засмеялся я, – ведь я даже уже не старший брат.
Тут оркестр заиграл что-то помедленнее, девица прилегла на мою грудь, потом подняла голову и спросила:
– Мальчик, все будет хорошо?
– Еще бы, есть на кого страну бросить.
Она встревожилась:
– Ты много выпил?
– Вроде нет.
– Смотри, ты мне понравился, я других отшила в твою пользу. Но если будут вязаться, ты их сделаешь, да? Но не уродуй, хорошо, мальчик?
– Хорошо, девочка. Ты что, одна пришла?
– Сюда одну не пустят, здесь борьба с развратом. Я сразу с двумя. Не вздрагивай: один слюнявчик, другой напился и тянет в номер со страшной силой. Не дает даже посмотреть.
– Ты все-таки иди к своим, мне надо к шефу.
– К этому? А он не хочет потанцевать?
– Не знаю. Пригласи.
– Мальчик, ну я ж не совсем опустилась, чтоб приглашать первой, не белый же танец. Да, встречаемся через два танца, закажи Что-нибудь по своему вкусу, я думаю, наши вкусы сходятся, да?
– Заказать что?
– Танец закажи!
Вернулся я к Толе энергичной походкой, он хотел, судя по улыбке, понасмешничать, но спешил к нам натосковавшийся по переводам с японского бармен. Но и с ним не успели поговорить: стремительно погас свет, только разноцветные фонарики судорожно мигали над сценой. На ней остался лишь барабанщик и солист. Барабанщик сделал сигнал ударом и стал ритмично щелкать щетками, а солист повел сплошным высоким голосом партию без слов.
Потом оркестр стал демонстративно сматывать провода, но бармен, посмотрев на часы, сказал, что это они берут на испуг, хотят, чтоб заплатили. Молодежь платить не спешила, но от одного столика поднялся негр, сколько-то выложил, назвал танец, и оркестр заиграл, причем заиграл зажигательно, так, что все сорвались с мест и бедного негра смели в сторону, оркестр заиграл бразильскую самбу. К нам прорывалась знакомая девица. Но Толя демонстративно постукивал о прилавок номерным, на металлической груше-гранате, ключом.
– Вели дать счет.
– Э! – Я щелкнул пальцами. – Дай счет, японец хочет посмотреть.
Видно было, бармен струсил. Он сверился с записной книжкой, просчитал на электронной машинке и подал счет. «Господин Накамура» долго научал цифры. Я поймал себя на том, что пристукиваю подошвой в такт бразильской самбе.
– Скажи, что я доволен, и вели дать сухое вино и фрукты.
– Господин Накамура доволен подсчетом и велел дать вам четыре процента чаевых. Также с собой холодное сухое вино и свежего сыра.
Бармен, заметно повеселев, мгновенно подсчитал на машинке, сколько это будет – четыре процента от суммы оплаты, и, приговаривая: «Наша фирма веники не вяжет, наша фирма делает гробы», выдал и вино, и сыр. И номер телефона просил записать.
* * *
Еще забыл сказать, что в эти дни меня спасал индийский чай, которым снабдили в Иркутске. Чай был россыпью в красивой жестяной банке с рисунками различных парусников. Изображались гонки парусных судов, везущих чай из Индии в Англию. Вернувшись в номер, я стал готовить чай от которого Толя заранее отказался. Мне же все равно было не уснуть – на моем Байкале наступало солнечное утро, а здесь, в Риге, это была последняя ночь. Высплюсь в поезде.
Толя при свете ночника правил стенограмму своего выступления и благосклонно слушал мои комплименты его игре в бизнесмена.
– Слушай, – сказал он, – тебе надо обязательно выправить стенограмму. В твоем выступлении сплошные пропуски.
– Еще бы иначе. Мое безукоризненное вятское произношение и латышские стенографистки. Не буду я править: все равно в архив.
– Но взгляни – критик полностью перепахал свои выражения.
– В какую сторону?
– В нейтральную.
– Ах! – сказал вдруг я без всякой связи с разгово-
ДО ром. – Вот вернусь и Москву – все дела запущены, перед всеми виноват, всем должен, перед женой, детьми стыдно, а ведь вот знаю, что надо будет непременно на родину, иначе – хана. Хоть на неделю! Боже мой! Раньше шел по селу, уже по одному дыму знал, какими дровами топят. Ведра брякают, за селом далеко костер горит. Ах, а в институте так тосковал по своему говору, ехал на Ярославский вокзал, сидел там или в очереди встану за билетом и просто так стою. Не слова слушал, не смысл – тональность. А уж когда в свой поезд садился – все, как на территорию другую попадал…
В дверь постучали.
Я пошел открывать. Два часа ночи, кому мы понадобились? Сердце екнуло – боюсь ночных звонков, боюсь телеграмм.
За дверью стояла… знакомая из ночного бара.
– Ого! Как это ты нас вычислила?
– Японец тут?
– Да.
– Як нему. Он меня звал. Я думала, он один.
– Толя, к тебе, – сказал я, поворачиваясь.
Девица входила в центр события.
Зазвонил телефон.
– Да, – сказал Толя, но вдруг напрягся и заговорил не по-русски. – А это тебя, – сказал он мне, зажимая микрофон трубки и мне ее отдавая.
– Слушай, – сказали в трубке, – я так понял, что ты с боссом еще не спишь. Сухое пьете? Плюньте – изжога будет. Коньячку принести? Мы тут с Милкой и еще с одной зайдем, разрядка ж нужна. Алло?
– Вообще-то, мы спать уже собрались, – я понял, что говорю с барменом. Девица тем временем села в кресло и, объясняясь жестами с Толей, велела дать ей закурить и открыть вино. – Спать уже собрались, Вообще-то.
– Ну какой сон? Мы так прикинули, что в Стране восходящего солнца уже день, люди уже у станков. И ему пора. Мы зайдем на пару минут, ты немного попереводишь, девчонкам же интересно, я им похвалился. Тут западных туристов навалом, а японец – редкость.
– Подожди. – Зажав трубку, я сказал: – Господин Накамура, тут еще к тебе напрашиваются.
– Хватит к нему, – совершенно осмысленно сказала девица. – Если тебе надо, ты и свистни к себе, а с ним буду я.
– Слушай, – сказал я в трубку, – в самом дело очень поздно, надо поспать. Завтра трудный день.
– Старичок, мгновение уйдет.
– Будут другие.
– Это уйдет.
Я промолчал.
Толя наливал девице вино, та щурилась на меня, ожидая действия.
– Так как? – спросил бармен.
– Завтра! – сказал я.
– Ты все-таки черкни там где-нибудь телефон. Спросишь Адика. Не Эдика, Адика, понял?
– Не Эдуарда, а Адольфа, так?
– Точно!
Он продиктовал номер, и мы простились.
Девица пила вино и спрашивала Толю, так же или не так же танцуют в Японии.
– В этом мы уже сблизились, – отвечал Толя. – Танцуют точно так же. Правда, там еще сохранилась чайная церемония, но это пройдет.
– А ты хорошо говоришь – зачем нам переводчик? – спрашивала девица, сурово на меня глядя.
Тут я не выдержал и сорвался:
– Толь, выгони ее к такой-то матери!
– Он меня звал, – заявила девица.
– Я? Тебя? – изумился Толя.
– Кто же ключом стучал и номер показывал, кто? Тут-то до нас и дошло, как девица истолковала жест
Толи, когда он нетерпеливо барабанил ключом о стойку, тут-то и этот Ад и к рассмотрел номер на ключе. Так что ларчик просто открывался.
Девица, еще посидев, все-таки уколесила.
Пока я убирал со стола, проветривал номер, умывался, Толя уснул.
Ну вот что было делать – сон не шел ко мне настолько, что было бессмысленно ложиться. Так я и сидел, глядя на ночной город, на освещенные часы на башне вокзала. Как странно, думал я, через сутки будет поезд, там Москва, там дом, дети, дела. Да! Мне же жена положила в дорогу нераскрытые письма, чтобы я нашел время их прочесть и, может быть, ответить. Было холодно от окна, я надел куртку и достал писька. Но не читалось. Одно я отложил на потом, увидя самодеятельные стихи, другие вскрыть не было сил.
* * *
Я сидел долго, и, кажется, был какой-то летящий момент забвения, в котором это мое состояние отозвалось в другом, уже бывшем, а может, еще и грядущем состоянии. Печка топилась, кто-то невидимый, уже потусторонний, двигал реальные предметы, составляя их в порядок, непонятный, смешанный, но выполняющий чью-то волю и на что-то указующий, но не насильно, а каким-то боковым намеком, будто зная о понимании избранных, но не исключая и непонятливых.
А в самом деле: куда все уходит? Почему в радости встречи с дорогими людьми есть печаль? Ведь не хочется, чтоб наступила разлука, но она же необходима, ведь если встреча будет длиться и длиться, то будет плохо, будет вина друг перед другом, что слишком высокую ноту не вытянуть, нужна передышка, что все равно сволокут на дно заботы дня.
Куда все уходит? Где-то же оно остается – звук голоса, жест, выход ночью на морозный воздух, луна над далекими горами, разостланный, сверкающий свет от нее через все озеро, шуршание сухого неслышного снега, озноб, тишина, а в этой тишине, подсвеченный далекими прожекторами причала, поднимается над огромной рекой, сочетается с темнотой и вываливается в озеро дымный туман, где все это? Где летящая скорость обледеневшей моторной лодки, внезапный ветер, у которого десятки названий, но одно общее – горбач, то есть волны, стоящие вертикально, несущие горбатую вспененную, срываемую ветром гриву, где это? И тот рулевой, с которым не страшно, даже интересно: лодка то несется между водяных стен, то, как в цирке, седлает гриву волны и ерзает на ней, боясь сорваться вправо или влево в темное, взмывающее ущелье. А ведь надо еще развернуться, ведь надо еще увидеть близкий, недоступный берег, надо вычерпывать воду, и видеть бессмысленность вычерпывания, чувствовать черепаший панцирь на спине, сковавший вот эту куртку. Вот обратный курс, вот рулевой кричит: «Что, эта штука посильнее «Фауста» Гёте? Что, любовь побеждает смерть?»
Я очнулся. Показалось, что светает. Было ощущение выспанности, то есть первый рывок от тонкого сна к бодрости был таким, будто я воспрянул от резкого света или, напротив, отшатнулся от чего-то во внезапном ужасе, чувствуя в себе силу сопротивления.
И так как я был одет и обут, будто собран для дороги, то почтя автоматически вышел в коридор, притворив за собой потихоньку, до щелчка, дверь, прошел мимо спящей сидя дежурной и свалился вниз, в вестибюль, в огромной, сверкающей зеркалами камере лифта.
Внизу тоже было сонное царство, только бесшумно и безжалостно менялись цифры бегущих секунд на электронных часах, они-то, почему, непонятно, повернули меня к кабине меж дугородного телефона.
«Помнишь, – сказал я жене, – я тебе пытался рассказывать, как ходил внутрь огромных Кремлевских курантов, помнишь? Когда в студентах бегал, сшибал гонорары очерками, помнишь? Там, когда стали проворачивать механизм, а я стоял внутри этих зубчаток, маятников, шестерен, рычагов, а когда проверяли куранты, они загремели, отбивая державное время…» – «Господи, ты что, читаешь отрывок из нового рассказа?»
Выйдя, я пошел на освещенную башню вокзала. Это было недалеко.
На вокзале уже торговал газетный киоск, но было еще так рано, что газеты-были вечерние и вчерашние. Еще, как лакомое чтение, мне предложили выпуск объявлений о купле и продаже, а в нем целую страницу брачных объявлений.
Из любопытства я взял.
Я еще не видел Балтийского моря, а наступил последний день.
Наугад я сел в первую пустую электричку и потешал себя тем, что читал брачные объявления. Одиноким женщинам, как правило, с высоким интеллектом, красивым, любящим уют, умеющим вязать, шить, готовить и так далее, требовался примерно такой человек, как я, – того же возраста, такого же роста. Такой жених нужен был и в Одессе, и во Львове, и в Вильнюсе, и в Таллине, не говоря о Риге – месте, где эти объявления печатались. Мужчинам же моего роста, возраста и образования хотелось от женщин в основном одного – понимания.
И опять меня сморила накатившая усталость. Когда я вновь очнулся, женщина напротив меня читала брачные объявления и, вспыхнув, извиняясь, протянула газету.
Я спросил: «Вот если я выйду на ближайшей остановке, то далеко ли будет до моря?» – «Нет, это совсем будет близко». – «А если я пройду по берегу до следующей остановки,! го это далеко?» Женщина, все еще не отойдя от смущения, ответила: «Это тоже все очень близко».
Я встал и вышел в тамбур, оставив на сиденье газету. Двери раздернулись, свежесть моря и его равномерный шум были так радостны, что я рванулся к нему чуть ли не бегом. Через сосны, по гранитной тропе, потом она стала изгибаться, а я побежал прямо, потом и тропа, вбежав в песок, исчезла, песок спрессовался в камни, камни сгрудились в дамбу, и надо было вскарабкаться на нее.
А с нее открылось море.
Шум моря лишился размеренности накатываемых на берег тяжелых параллельных валов, был постоянным. У приплеска ночная желтая пена была схвачена морозом, ледышки стекленели, чайки мотались на воде, еще не проснувшись, далеко, ближе к горизонту, стояли сиреневые низкие сухогрузы.
Восток неба и не думал алеть, видно, солнцу так понравилось в Сибири, что оно не пожелало дотянуть до этих мест, послав вместо себя рассеянные отблески восхода. Но хватало и их, чтобы замереть и вслушаться в прибой, в то, как он овладевает слухом, затем сознанием, затем успокаивает сердце и только одно не может – убрать тревогу, может, сам же ее и внушая.
На берегу дуло. Я постоял, потрогал, поразбивал ботинком замерзшие лохмотья листьев, озяб и вернулся под укрытие сосен. Нашел под корнями бревнышко, сел в затишье и опять оцепенел.
Было очень хорошо в эти минуты. Одно было только – горечь, что и они пройдут.
И они прошли. Море все бежало на берег, все не могло его затопить, но терпеливо продолжало накатываться, зная, что впереди у него вечность. Да и у ног моих лежали водоросли, раковины не только мелового периода, но и свежие, расклеванные чайками, значит, оно дохлестывало до этого уровня, а тут, еще немного, и стояли дома, пока пустые, там начинала оживать и гудеть трасса, там…
Я достал письмо со стихами. Они были из тех, что не могут надеяться на печать – слабые по технике, – но виделось в них чувство. Написанные не для всех, они вдруг запросились наружу от автора, будто зная, что такие случаи бывают со многими.
«Письмо сыну», – читал я. «Алеша, здравствуй, пишет тебе папа, тебе письмо издалека. Я знать хочу, чего же мама тебе наговорила про меня? А что наговорила – я не сомневаюсь: иначе получил бы от тебя письмо. Поверь мне, сын что я но обижаюсь, обида в сердце выжжена давно. Я так скучаю по тебе, сыночек, мне в душу часто просится тоска… А помнишь, Леша, за рекой лесочек, где ты нашел семью боровика?.. Пойми мой сын, отец твой не бандит, не вор, не казнокрад и не растратчик. Он перепутал в жизни все пути и просто оказался неудачник».
«Письмо жене», – читал я следующее стихотворение. «… Твоя вина ведь тоже есть передо мною. Воспоминаньями не стоят душу рвать. Я все забыл. Пойдем одной тропою, сейчас не время минусы считать. Ты на свидание ко мне не приходила и передачи ни одной не принесла. Ужель так быстро ты про все забыла, ведь не звонили надо мной еще колокола. Друзей, Людмилочка, поверь, не так уж много. Зачем злопамятной со старым другом быть? Возможно, здесь я и собьюсь со слога, но мне тебя не в силах позабыть. За что люблю тебя, и сам не знаю. Мне нравится твоя улыбка, смех. Мы можем вместе подойти дорогой к краю, ведь жизнь создала нас не только для утех. Тебя я знаю много лет, и сердце у тебя не камень. Скажи, что сделать мне, жена, чтоб искра снова разгорелась в пламень? А сыну вашему скажи, Людмил ка, так: «Твой папа, сын, немножечко чудак – от счастья своего он побежал в сторонку и думал в стоге сена отыскать иголку».
На следующей странице был «Разговор берега с речкой». «Скажи, любимая, когда это случилось, что мы друг друга перестали понимать? Жизнь новая ведь от меня в тебе родилась, и называться стала ты бесценным словом – мать. С тобою мы, как речка с берегом, были дружны, делили вместе радость и невзгоды. А помнишь, как на ранней зорьке ветерки свежи? Ну почему ты испугалась непогоды?»
Я листал тетрадку, откидываясь к корням сосны и замирая под шум ветра, ибо этот шум ветра в ветвях сосен перекрыл рокотание моря. Рокотание, подумал я, рокотание – от слова «рок», от определенности судеб. Но если судьбы определены, зачем тогда, например, цари до новой эры волокли к подножию всяких дельфийских оракулов тонны золота, чтобы узнать то, что определено?
«Воспоминание», – читал я. «Как жили мы прекрасно в доме бабки, отец нас из Москвы от бомб привез. Я слышу песнь прощальную и звук тальянки, и много в нашем доме было слез. В ноябрьский день с небесной, снежной солью в наш тихий дом с войны пришла беда: вновь в доме плач с щемящей сердце болью: отец пропал без вести, без следа» но
А в декабре слегла и мама. От всех волнений и тревог слегла. Сказала: «Деточки, я скоро встану». Но все ж подняться так и не смогла… Забывшись в ворохе воспоминаний и сидя у обмытого дождем окна, я не заметил солнечных сияний, неужто вместо осени весна?»
Потом я еще на выбор перебрал листки: «Тебя я полюбил по-настоящему и страстно, отдавшись в руки полностью судьбе. Ты мне была иль притворилась Афродитою прекрасной, я без сомнения решил жениться на тебе. Людмила, красота с годами увядает. Растенья расцветают каждою весной. На нашу жизнь тень ночи набегает, ужель под занавес расстанемся с тобой?»
* * *
Первые утренние люди потянулись, гуляя, по дороге вдоль берега. Забегали спортсмены. Решив пройти до следующей остановки по берегу, пошел и я. В море меж тем происходили перемещения судов – одни увеличивались, другие исчезали. Два парусника – белый и красный – шли, выражаясь морским термином, галсами. Круглые, похожие на купола парашютов паруса то надувались, то опадали при повороте.
Скоро я озяб от ветра и поднялся повыше. И прекрасно сделал – меж сосен была твердая тропинка, сосны же, заслоняя ветер, не мешали слушать море.
В голове мелькали отрывки из событий последних недель: вновь Грузия вспомнилась, и этот Гриша, и досада на него, что бичует, а не едет на родину. «Умеют жить, – восхищенно говорил он, – едят и пьют человек по десять, а платит один».
Еще старуха эта в тифлисских банях помнилась, еще бюст Пушкина заплаканный, под дождем, еще грузинка, такая красивая, что даже грузинки на нее оглядывались. Еще цветы в подвальном магазинчике, открытые ставни, а цветы такие огромные, красные, будто костры вырывались из-под земли. Еще около статуи Матери Грузии старуха подметала дорожки, старик утрамбовывал листья в мешок, они сели отдыхать и вдруг запели. «Да, – смеялся я в Сибири, – я-то думал, что грузины только в кино поют». Еще помнил внезапный туман, который в пять минут закрыл окрестность и пресек маршрут запланированной поездки. Наши сопровождающие куда-то исчезли, вернулись через три минуты – люди с фонарями показали дорогу, мы заехали во двор мастерских, нас провели в красный уголок, в котором уже ждали собравшиеся. Мы выступали с переводчиком, так он переводил иль не так, но помню, мне сильно хлопали, когда я, говоря о грузинском характере, вспомнил сильнейшее впечатление детства от фильма о Георгии Саакадзе, а особенно о том, что из всего нашего армейского пополнения первым на гауптвахту попал грузин сразу за кулисами дымил мангал, пробовали на звук зурну, и, видимо, не специально, но каждый из тех, невидимых, проходя, оживлял барабан сухим, рассыпчатым щелчком кисти свободной руки. Было застолье, дорогое потому, что было не запланированным, внезапным для хозяев этих маленьких ремонтных мастерских. До этого были запланированные, были и такие, где, что греха таить, – все равно ведь все тайное будет явным, – были и такие, где-аллаверды! – по полчаса кричали в глаза друг другу: «Ираклий, ты гениальный поэт!» – «Нет, Акакий, ты ошибся, это ты гениальный» и так далее, а в перерыве, когда менялись блюда и оркестр, кто-то из говорящих тост мог подойти и сказать интимно: он ужасный человек, он позаимствовал у меня четыре строки. Было, было такое, грузинские собратья. «А разве не бывает у вас?» – спросите вы. О, и еще как!
Теперь я понимаю, это совсем не случайное, а подаренное свыше, как опустившийся туман, застолье не забудется. До него из любопытства прошел я по мастерским, так живо вдруг освежившим еще те мои давнишние мастерские ремонта «Сельхозтехники». Даже вдруг, как ископаемое, предстал передо мною притирочный станок, вовсе не застекленный, а работающий, и парнишка при нем, проверяющий фаску на клапанах и уж конечно злящийся на закаленные выхлопные клапаны, которые притереть не просто. И этот туман специально, конечно, заставил вспомнить наши вятские мастерские, ведь туманы и там бывали, то есть, выйдя из мастерских из этих, при свете дня можно было увидеть горы, далекий монастырь Джвари без креста, хотя Джвари в переводе как раз означает «крест», а от ворот наших мастерских открывались дали, неподвластные даже вооруженным глазам.
И в этом застолье были – аллаверды, аллаверды к тебе, дорогой! – бесконечные тосты, но было такое ощущение сброшенной сбруи, раскованности, когда не боишься что-то ляпнуть невпопад, не боишься кого-то обидеть, потому что этот кто-то знает, что ты любишь и его, и его близких, и его родину, эти горы, и ничуть не завидуешь ни обилию стола, ни достатку, а только тому, что вот вдруг встали красивые крепкие мужчины, обнялись за плечи и так повели песню, так вздымая и так сурово выпевая непонятные угрожающие и необъяснимо печальные при этом слова, что… да что говорить!
И полюбивший меня шафер Заур, наклоняясь и подливая естественное вино, спрашивал: «Ты зачем в Мцхета писал надпись с нагробной плиты, зачем?» – «Заур, как я мог не записать – профессия. Я и наизусть запомнил, вот слушай: «Горе, горе тебе, которая была молодая. И столь добрая и красивая была, что никто не был ей подобен по красоте. И умерла на 21 м году». Заур, хорошая у тебя жена?» – «Вах, смешной, разве жена бывает какая-то, она бывает жена». Засмеялись. «Но вот эта надпись, она давняя, зачем еще тогда, давно-давно, надо было писать по-русски?» – «Смешной! Ты же приехал, расскажешь своим». – «Заур, – говорю я, – а ведь я и другое расскажу, помнишь еще плиту, ты же всех гостей сюда возишь, там плита, на ней надпись: «Не трогайте, не тревожьте мой прах», а ведь эту плиту уже перетащили?»
Заур сидел и рассказывал, как он перегонял машину, получив в Москве, на заводе имени Лихачева, рассказывал с обидой: «Дорогу спрашиваю, а он, ваш, говорит: я в яме сидел, дороги не видел, они все вверху ехали».
То-то этот переводчик, да и Заур тоже, подивились, когда Гриша пришел меня провожать. Но он был в новых ботинках и рубахе, так что вполне мог показаться им бедным родственником.
* * *
Вот я шел по прибалтийским дюнам и думал: зря или не зря я сюда приезжал? А в Грузию? Сделано ли дело, ради которого ездил? Почему-то в отношении поездки в Сибирь я так себя не спрашивал. Там было хорошо и без этого совещания молодых писателей. Кто я такой, в конце концов, чтобы руководить молодыми литераторами? Разве не есть любая биография состоявшегося писателя опровержение нравоучений всякого рода учителей и правил? Разве не в наше время уровень образования повысился настолько, что практически каждый десятиклассник может писать грамотно? Но это грамота, а не литература.
Скамья вдруг предстала, совершенно новенькая, не изрезанная ни именами, ни афоризмами, видимо, здесь не при-пято было обнаруживать свое присутствие или делиться открытиями. Сел. Пригрелся в первых солнечных лучах. Пронеслись в сторону моря белые голуби.
Солнце медлило, но утро стало теплеть, я расстегнул куртку. Все еще держа пачку стихов, я полез положить их в карман и наткнулся, конечно, на другие бумаги. Я достал пачку своих отрывков из обрывков, которые в угоду профессия все-таки копились. Стал сортировать их. Конечно, все они в общем-то могли пригодиться – мелькали в записках слова, фразы, разговоры, которые воскрешали в памяти человека, встречу или были как заготовки будущих работ, они показывали намеками то состояние, которое я переживал в этот период тут, в идеале, предполагалось быть тому, что узналось или надумалось только мною, и что я не имел права удерживать в себе и у себя, и что должен был, как член общежития, рассказать всем.
Конечно, надо писать. Хотя взгляд на книжные полки не может не отрезвить, там уже кое-что накопилось за времена письменности, Державин любил рассказывать, как Павел, дав ему должность при дворе, подвел к дворцовой библиотеке и якобы сказал: «Гавриил Романович, ведь столько уже написано, а все пишут и пишут». Но время движется, и кто-то его должен выражать, кто-то должен перед грядущими временами давать отчет и за наше. И этот кто-то непонятно кем избирается. И этот комплекс, а именно – избран ли я, не перестают меня мучить.
Я знаю, что написанное мною далеко от того, что прочувствовано, вот в чем штука.
Ну-ка глянем, о чем это я хотел написать? «Кролики». Одно слово. А-а, это о кроликах бабы Тони. Я убегал к ней на два-три дня в неделю. Это была трехметровая комната за фанерной перегородкой, где жила сама баба Тоня. Она немало дивилась тому, что я больше хожу или лежу, чем сижу за столом. «Люди-те, – бормотала она сама с собой, – в поле с утра…» Еще более она дивилась, когда я, объявив, что пойду похожу немного, и в самом деле ходил просто так, она, полагаю, думала, нормален ли я. Устыдясь праздности (был конец апреля), я сходил в лес и нарвал травы для ее
– кроликов, которых она держала великое множество, которые грустно жевали сухие корки и пыльное сено и плодились совершенно безответственно. Я хотел их немного порадовать, пошел и нарвал. Было мокро, травы было немного. Разбро-сал по клеткам. Думал, что совершил хороший поступок. Но! После обеда услышал, как баба Тоня рассуждает: «. Кролики то траву-то поели, соблазнили их травой, сено-то и не трогают». – «Не едят сено?» – спросил я. «Кто ж будет после травы сено есть?» И пришлось мне вновь пойти за травой. И стала эта трава моей тяжкой повинностью. Самое грустное, что работа моя вроде бы пошла, я даже спросил: не мешает ли бабе Тоне стук машинки? На что она отвечала: «Ты ведь не молотком». Но забыт, забыт этот стук, ибо баба Тоня, полюбив меня за мои прогулки в лес, уже не бесполезные, еще нашла во мне и собеседника. Все ее рассказы были душераздирающими и кончались обычно словами: «В гробу она лежала, как цветок». А потом приехали к ней для работы в огороде родственники, которых полюбил бы Лев Толстой, так как они тоже не понимали, как это можно ничего не делать, когда другие работают.
За мгновение пронеслось все это в памяти, когда я прочел одно слово «кролики», написанное на клочке газеты, а таких клочков было изрядно.
Воспоминание для самого себя выражается не словом, но впечатлением, озвученными картинами, которые – вот качество памяти – приходят враз, правда, одни слабее, другие четче. Но и слабые при усилии промываются до возможности их описания. Вначале от слова вспомнились кролики, их хозяйка, потом мужик у магазина… Потом эта маленькая река, забросанная железом, шинами, бетонными плитами, в которой все-таки мальчишки кого-то или чего-то выуживали. В ней примерно на расстоянии ста метров были набросаны пластинки, названия которых читались сквозь воду, так как было мелко: Утесов, Шульженко, Бунчиков, Кристаллинская.
* * *
Идя сквозь сосны и временами забываясь, что я на берегу Балтийского моря, я соотносил шум сосен с моими родными вятскими соснами, тут же приходили на память армейские стихи: «Когда я о море с грустью писал, то думал невольно о вятских лесах: они, как море, простором полны, для птиц их вершины как гребень волны. Там тоже, как в море, дышать легко, но то и другое сейчас далеко. И неотрывно в сердце всегда – туда непрерывно идут поезда… Старый-престарый этот сюжет: там хорошо лишь, где моим нет… Но если он стар, этот старый сюжет, то, может быть, плохо, ПК меня нет».
Вот и соединялись сосны и море. И тут мгновенно, веерно, представилась армия, которая, как и все бывшее в жизни, никуда не девалась, стояла за плечами. И если каждое мгновенное воспоминание может вместить в себя годы жизни, тысячи людей и событий, то что тогда есть сумма спрессованных мгновений? Видимо, нам не под силу таскать их за собой, в себе, и они из милосердия помалкивают, но вызывает их не волевое усилие, а, скорее, сама жизнь.
Слово на клочке бумажки напомнило многое, следовательно, была необходимость когда-то его записать и была неслучайность в его прочтении спустя время. Хотя вроде я время неподходящее. Стихи армейские вспомнились от тоски по родине, от шума сосен, от близости моря… И вот – к вопросу о памяти – опять-таки еще один мужик вспомнился, уже из детства, он говорил, что праздник День печати сделан в честь печатей – круглых, треугольных, квадратных и т. д. «Печать, – говорил он, – самое сильное оружие, которое есть на бумаге».
* * *
Поворот тропинки вывел на высокий обрыв, который театральным пандусом зависал над прибоем. Волны все торопились к берегу, убегая от чего-то, паруса вдалеке вновь перестраивались, но счастья не было изумленной душе, так, кажется, подумалось, когда ко взгляду и впечатлению, как их продолжение и следствие, пристроились слова.
Тут грянуло санаторное радио, обнаружился динамик-колокольчик на столбе меж сосен, после хрипений и щелканья прорезались энергичные заявления: «И неоднократно видевший смерть в глаза наш прославленный воздушный ас часто признавался, что главное для него – общественная работа».
Потом ударил марш, и под его команду я вышел на асфальтированную дорогу, а по ней к зданию, вершину которого оседлала фигура раскрашенного петуха. Я так понял, что это кафе, и понял правильно. Больше того, это было специализированное детское кафе. У дверей начался маскарад – старичок гном в колпачке с кисточкой поклонился и повел за собой. В зале, где никого не было, он усадил меня перед высокой сценой, дал в руки меню и исчез.








