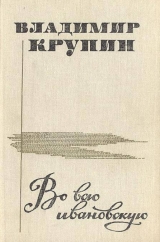
Текст книги "Во всю ивановскую (сборник рассказов)"
Автор книги: Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
К обеду погода испортилась, пошел дождь. Сели в машину и поехали. В машине вначале поговорили о проблеме дорог, вспомнили вчерашние теории, особенно одну из них, что дорог не нужно, что это предотвратит проникновение в село теневых сторон цивилизации, но сейчас, на практике, трясясь на плохом асфальте, буксуя на глинистых обочинах, было решено, что дороги все же нужны, причем если их делать к каждой деревне, то и деревни не надо сносить. Правда, мы не знали, что экономически дороже – свозить деревни в поселки или тянуть к деревням дороги, но морально было лучше сохранить уклад и обычаи крестьянства.
Но вскоре разговор, как все писательские разговоры, съехал на материальный вопрос, на тиражи, одинарные и массовые, на то, в каком издательстве главный бухгалтер – собака, а в каком можно договориться, привычно ругали художников, выражающих в оформлении книг только себя и не помогающих доносить до читателей мысли…
Писательский шофер, видно, таких разговоров слышал-переслышал, часто зевал и, щурясь, вел машину, помогая нам проникать к читателям. Торопливо выскакивало солнце, озаряло темные ели и вновь скрывалось. Асфальт дымился, казалось, горит. Так и ехали под дождем и солнцем по тракту часа два, потом свернули и потряслись по проселку. Неубранные хлеба высились по сторонам, были хороши, самое время было их убирать.
Колхозная улица была вся изъезжена тракторами. Шофер, взглянув на наши ноги, подрулил прямо к крыльцу правления. Нас ждали, провели в кабинет председателя. В красном углу на специальной подставке стояло много знамен. Все простенки занимали красные вымпелы и почетные застекленные грамоты. Председатель для начала рассказал, какие знамена и вымпелы переходящие, а какие «б» насовсем. Но и переходящие, сказал он, «прописаны и колхозе постоянно». Селекторная связь на его столе но умолкала, и он перевел ее на секретаршу, сказав ей при этом: «Собирайте».
Посидели, поругали погоду, похвалили поля. Председатель, как и шофер, с сожалением взглянул на нашу легкую обувь, пожалел, что не может показать нам строящиеся объекты, – строил колхоз много: коровник, свинарник, птицеферму. Строителей приходилось привлекать со стороны, даже, тут председатель не скрывал, переплачивать вдвое-втрое, чтоб сманить от других.
– Конечно, это общая беда. Также будем строить школу, магазин, музыкальную школу, Дворец культуры. Пока у нас не Дворец, вы увидите, но проходит по смете по разряду Дворца, тут хитрость, чтобы заву и кружковцам платить побольше. Но это опять-таки общая хитрость, – засмеялся председатель.
Еще с полчаса мы потянули время, потом решили отправляться в клуб. Но дождь все шел, грязь увеличивалась, поэтому мы не могли пройти в своей обуви даже двести метров, залезли снова в машину и в ней достигли крыльца клуба.
Внутри копился народ. Продавали книги. Радостным сюрпризом было то, что Книготорг доставил сюда и наши книги.
Подошли с моей книгой и ко мне. Милая краснеющая девушка. Я спросил имя и написал: «Очаровательной Татьяне», следующей читательнице я написал: «Очаровательной Наташе…», дело пошло. В конце я размашисто расписывался.
– Дядь, – сказал мне какой-то мальчишка в громадных сапогах, – я не верю, что ты писатель.
Я не сразу понял всю глубину его слов и подумал, что он решил так оттого, что книга моя была без фотографий, а у собратьев с ними.
Позвали за кулисы.
В гримерной познакомились с представителями из района, договорились, кто за кем выступает.
– Начнем в восемнадцать двадцать, бригадирам приказано, – говорил председатель.
Меня как ударило: в восемнадцать тридцать по радио должны были передавать мое выступление. К удовольствию собратьев, я попросился выступать последним, потихоньку спросил завклубом, можно ли послушать радио, и объяснил, ДО почему нужно. Она ответила, что приемник есть, но внутри клуба радио будет обслуживать выступающих, но что дело поправимое, она включит радио на улице, там, над крыльцом, висит громкоговоритель, называется «колокольчик».
– Восхитительно! – поблагодарил я. – «Колокольчик»!
Мне сразу вспомнилась поговорка, которую мама употребляла, останавливая поток моего неразборчивого красноречия: «Болтаешь, как из колокольчика напоенный», Я решил это сравнение где-нибудь к месту употребить, гордо подумал, что у меня ассоциативное мышление.
В гримерную входили бригадиры, докладывали о прибытии людей со всех участков. Председатель разрешил не присутствовать дояркам и трактористам. Начиналась вечерняя дойка, а трактористы жили на полевом стане.
Пошли на сцену. В зале захлопали. Председатель представил нас. Вначале стал говорить представитель из района. Я постарался незаметно уйти. Завклубом помнила о моей просьбе и кивнула:
– Идите на крыльцо.
В фойе свертывали книжную торговлю. Я подписал книгу очаровательной продавщице. Снаружи в клуб рвались двое выпивших мужиков, но их не пускали, а за мной сразу закрыли. Этих двух мужиков уговаривал уйти третий.
– Че вы там не видали? – спрашивал он.
– Баба у меня там, – отвечал один, – у ней деньги, да и сам я, че ли, буду ребятам ужин делать.
– А мне интересно, – говорил другой.
Внезапно громко заговорил репродуктор, названный колокольчиком. Мужики замолчали, прислушались. По радио как раз объявили о писательском выступлении.
– Наряд читают? – спросил один мужик.
– Да вроде рано, – другой еще послушал, – нет, не наряд.
И мужики продолжали говорить свое. На улице показалось стадо. Коровы старались идти ближе к заборам, но и там было грязно, копыта скользили. Трактор «Беларусь», буксуя, тянул тележку с травой.
Вдруг мой голос раздался над всем этим так громко и такой гадкий, что я содрогнулся. Да и все бы ничего, и это можно было стерпеть, но я услышал, что я читаю не те рассказы, которые хотел, а те самые лирические миниатюры, которые меня заставили прочесть.
Стадо брело по улице, трактор буксовал, шел дождь, мужики спорили на крыльце. Перестав ломиться в клубные двери, они сговорились идти в магазин и пошли, а мой безобразный голос орал над этой распутицей, над этими мужикам». над застрявшим трактором, над коровами, над пастушьим кнутом, над всей нечерноземной округой, орал о том, что не бывает в жизни, а если и бывает, то только для зажравшихся, для тех, потешать кого я чуть не угодил. Редко мне бывало стыдно, как тогда на крыльце. «Слушан, – говорил я себе, – слушай, выходец из народа, слушай, дважды рожденный, крестись второй раз на своей родине». Я стал под дождь и заставлял себя слушать, но не смог все равно до конца, да и никто, кроме коров, не слушал меня. Но и перед ними было стыдно. Я вспомнил, как нашу корову загнали в ограду сельсовета за то, что она ушла на поле озимых и надо было платить штраф. Платить было нечем, как и другим загнанным, тогда нам сбавили жирность молока на одну десятую, это означало, что налог на корову будет не сто пятьдесят литров, а больше, а мы и так сидели без молока, вспомнил я бесконечные осени моей земли, длинные ленты желтых кустиков картошки, худых лошадей, измученных женщин, черное картонное радио на стене… да мало ли еще что вспомнил. А «колокольчик» все орал, все орал…
Когда я вернулся, выступал председатель. Говорил он коротко, жестко, слушали его гораздо внимательней, чем вслед ему выступавших поэтов. По какой-то непонятной потребности каждый поэт вначале долго усыплял слушателей пересказом содержания стихов, которые читал после пересказа. Потом, боясь, что смысл не дошел до умов, растолковывал и смысл. Когда зал порядком заездили, объявили меня. Слова «земляк», «молодой», «сельская тематика» разбудили некоторых. Для начала я пошутил, но очень топорно:
– Вас усыпили ритмы стихов, понадобилась проза, – тут же я спохватился и поправился: – Проза, так сказать, жизни. Тут, перед вечером, не знаю, чей сын… – стали просыпаться женщины, – … но это хороший сын, успокойтесь, он сказал мне: «Дядь, я не верю, что ты писатель».
В зале засмеялись.
– … Он прав, никакой я не писатель. Какие мы писатели? – Это опять было бестактно: нельзя говорить за всех, можно только за себя. Я торопливо кинулся объяснять: – Он нрав, потому что язык, на котором я пишу, – русский, а не цыганский и не татарский… – В зале зашевелились, представитель из района кашлянул, вглядевшись, я узрел в зале и татар, и цыган. Снова я стал карабкаться из самим же вырытой ямы: – Ничего плохого, кроме хорошего, я не хочу сказать ни об одной национальности, но русский язык – великий язык, это самое главное, что есть у нас, смотрите, наш Пушкин, он родной и неграм, и всем.
– И французам, – подсказали из президиума.
Я даже не посмел обидеться за подсказку – косноязычие владело мною. Мешал, ох мешал мне мой собственный голос, который только что перед этим оглушил меня. Зачем я стал называть святые имена, но раз уж начал, раз уж начал, тащил ношу дальше:
– На русском писали Достоевский и Толстой, и какая ж нужна высокая душа и мера любви к отечеству, чтобы отважиться писать на русском языке?..
Вряд ли были нужны мои слова людям из зала, а сзади довольно громко заметили: «Чего ж тогда Сам-то полез писать?» Нет, не мог я говорить, но должен был, и, поймавшись, как в детстве, за мамину руку, я поймался за материнские рассказы и прочел несколько. Прочел и те два, которые не были переданы по радио, на том и закончил свое выступление.
Нас благодарили, приглашали еще приезжать. Сфотографировали с группой читателей.
Вечер кончился, мы вышли. Вверху висел безгласный «колокольчик».
Сели в машину, но поехали не обратно, а к рыбакам. И совершенно случайно оказалось, что над рыбацким столом натянут брезентовый навес, что случайно в этот день в сети попал осетр, что стол случайно застелен скатертью, и пили в этот день рыбаки не из стаканов, а из рюмок. Случайно вскоре и рыбаков не оказалось за нашим столом, а только мы да представитель с председателем да хозяйничала женщина, вся закутанная от комаров. Я запил горечь двумя порциями и пошел просвежиться. И как раз набрел на рыбаков. Они разложили маленький огонь от комаров, вывалили на газету разваренную рыбу. По кругу гулял родимый граненый. Говорили они, употребляя в десятках вариантов одно и то же слово. Меня они застеснялись, но я употребил еще один вариант этого же слова и стал как бы «и свой. И все же это было не го, о чем мечталось. Я вернулся под брезент, взял с белой скатерти бутылку, объяснив зачем. «Сегодня нм можно», – разрешил председатель. Обо мне же один из собратьев ехидно заметил, что я пошел в народ. Впрочем, собратьям без меня было лучше. Как, впрочем, и рыбакам, которые на разговор со мной не рассчитывали.
Но все равно, посидели хорошо. Успели выяснить, что матерные слова русскому языку навязаны, их корни в монголо-татарском нашествии, а до этого мы не ругались, не из-за чего было. И вообще, что это такое, говорили мы, до нашествия не ругались, вроде за ругань не виноваты, до Петра Первого не курили, не пили, тоже вроде не наша вина, но сами-то мы чего, чего мы сами-то думаем своей головой? Этак завтра чего-нибудь с нами вытворят, и опять будем не виноваты? Что ж это такое за жизнь, мать-перемать, говорили мы, прикуривая от костра и не давая отдыха стакану, это, значит, на нас черти отыгрались, а мы терпим, нет, ребята, это не ремесло, предел кончен, этак жить – только врагам на радость.
Пойду купаться, решил я. Рыбаки говорили снова о своем, я спустился к воде.
Вятка текла, светло-серая под дождем. Комары жрали непрерывно, пили кровь.
Я разделся, еще нарочно подержал себя в виде подарка комарам и нырнул.
Внутри воды показалось светлее, чем на берегу. Течение реки ощутилось – мощное, ровное. Да, если мои предки жили у такой реки столетиями, они невольно стали походить на реку – спокойную со стороны, но напряженную, сильную, неостановимую.
Я вспомнил, что до сих пор Вятка, пожалуй, единственная река, не перегороженная плотиной электростанций, ушел глубже ко дну, достал его – обломки резного дерева попались под руку, зрение памяти показало мне деревню у реки, девушку по колено в воде, деревянных и глиняных божков всех времен года, всех обычаев и ожиданий. Голого ребенка старшие тащили купаться, с промысла шла к деревне долбленая лодка, и я, выныривая, боялся удариться о ее дно…
На берегу меня ждали. Рыбаки уже ушли, ушла и женщина с ними. Но мы еще побыли, взбодрили забытый рыбаками костерок, старшие поехидничали надо мной, что я оторвался от интеллигенции, стали учить, что не надо приседать перед читателем, надо вести его за собой. Попробовали и запеть, но на общую песню не набрели, решили уезжать. Загасили костер.
Шофер спал. Был ли он на вечере в клубе, спросил я его, нет, конечно, не был, он этих вечеров перевидал страшенное количество.
Проехали напоследок по деревне. У правления простились с хозяевами. Шофер залил в радиатор воды. Было еще не совсем темно.
Со столба, стоящего у крыльца, слышался громкий голос. Здесь тоже висел «колокольчик» – усилитель радио.
Читали наряд на завтра.
Картинки с выставки
Знал бы, не связывался – одни только подписи собирал целую неделю. Бегало от меня музейное начальство, ох «не любило, чтоб кто-то заглядывал в их кладовые. Но что делать, и меня можно было понять – я был связан обещанием написать текст для альбома художника Костромина, и нужно было видеть его картины. А они были в запасниках, и вот я добывал разрешение войти туда. Только я получил последнюю подпись, только начал договариваться с главным хранителем о ближайшем числе, как снова пришлось ждать – всех сотрудников временно переводили на обслуживание выставки художника Зрачкова.
В издательстве меня торопили, предлагая сделать подтекстовки по контролькам – фотографиям, помещаемым в альбоме, но фото – одно, подлинник – совсем другое, я просил еще подождать. Хранитель ничем помочь не мог. «Зрачков, сами понимаете», – сказал он.
Да, личность была не из простых. Этот Зрачков сумел поставить себя так, что им интересовались непрерывно. В таланте тут было дело или в чем-то другом, как знать, только разговоров было много. Мнение братьев художников о Зрачкове было неважное, помню, и Костромин отмахивался, не поддерживая разговор о Зрачкове. Художники ругали Зрачкова за плохой рисунок, за насилие над цветом. Но только разве скажет объективно художник о художнике, надо смотреть самому. Ругать легче всего.
Но привкус ажиотажа был неприятен, казался специальным, я решил не ходить, переждать выставку, а тогда уж со своей бумажкой в запасники. Договорившись с хранителем позвонить ему, я простился, но пошел на улицу не через служебный ход, а через залы, где заканчивали развешивать полотна и где временами стремительно проносился сам Зрачков.
Полотна были на разные темы: исторические и современные, энергия скорости (или торопливость?) ощущалась в бегущих, оборванных линиях. Развешивающие повторяли утреннюю шутку художника: «Картину легко написать, трудно ее повесить». Особенно говорили о каком-то портрете, которому художник никак не находил места.
На бетонных ступенях музея толпились люди, особенно жующий молодняк, вспыхивали просьбы о билетах. Все это было неприятно, я вспомнил, как давно ли в этих залах были картины Пластова, их теплоту, сердечность и боль. Там не было таких вот девиц и их спутников, а может, тут были одни девицы или одни юноши, все были одинаковы, как из инкубатора, все волосатые, безгрудые, беззадые, все клейменные нерусскими наклейками.
Выставка Зрачкова не открывалась еще дней десять, и это тоже походило на специальное нагнетание страстей. Номер телефона музея был занят всегда. Наконец ленточка была перерезана, толпа хлынула. То один, то другой знакомый спрашивали меня, был ли я на выставке. Я отвечал с досадой: нет. А ты знаешь, говорили мне, сходи, интересно. Другие плевались, третьи говорили о порче вкуса, и вот – как понять самого себя? – через неделю я стоял в хвосте очереди. По правде говоря, я сначала сунулся со своей бумажкой с черного хода, но и там стоял пост, требовавший специальные пропуска. Надо было понастойчивей, но я махнул рукой и стал ждать. Да и плевать, думал я, сколько я видел людей, идущих всюду без очереди, а что толку? Чего они добились? Разве в этом удача схватить кусок раньше других. Давно ли за это ложкой били по лбу.
Ждал, вспоминая другое лето, вот уж тогда очередь была так очередь, вся Москва с ума сошла, Музей изобразительных искусств очередь обвивала кольцами. Занимали ее с вечера, мне как раз позвонили знакомые, они стояли всю ночь. Я тут же помчался, от волнения проехал станцию «Кропоткинскую», почему-то не вернулся, а выскочил вверх на следующей и бежал прямо на красный свет, чуть не попадая под машины. Можно было не гнать, потому что еще стояли часов шесть: густо стали подваливать автобусы «Интуриста», мы злились на иностранцев: как будто не могли они побывать в Лувре, как будто специально надо было ехать в Москву, чтобы увидеть Мону Лизу. Да, в то лето Леонардо да Винчи, могучий дух его, оставшийся на земле, гостил у нас, и, приди он не в жару, а в мороз, очередь была бы не меньше. А уж и жара была, то и дело падали в обморок, и милиционеры по рации вызывали «скорую помощь», К обеду, особенно в голове очереди, стали дежурить медицинские автобусы, видимо, ждавшие случаев массового психоза: легковых машин не хватало. Это оттого, что в конце очереди негде было спрятаться, она входила в огороженный проход, а до того бегали постоять в тени.
У ребят из одной компании случился магнитофон, они крутили его, закутав в газеты. «Включи погромче!» – кричали нм, и ребята включали. Потом перегоняли пленку и врубали снова. Песни были лихие, и запомнились особенно Повторы, например: «Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды…», или: «Смерть самых лучших выбирает…», или: «Я дрожал и усиливал ложь…»: была в певце задиристость и понимание ее бесполезности, наскок перекрывался печалью, но это были песни нашего времени, тем более они помогали ожидать встречу с искусством.
Помню, что последней пыткой было то, когда как раз перед нами отсекли хвост очередной порции, и именно тогда подъехало враз пять или шесть делегаций. Мы их пропускали. Прошла, смеясь, толпа негров, видно, – жара была им по душе, но и мы – белые люди – постепенно чернели под полуденным солнцем. Наконец запустили и нас. Внутри было прохладно, сразу как и не было этой египетской жары, говорили негромко, без толкотни брали дорогие билеты, и уже не рвались внутрь, ведь чудо было рядом и надо было набираться святости.
К Джоконде вел узкий коридор, выгороженный барьерами. Коридор был углом. В центре угла, на метр выше голов, была картина. К ней шли, вставая на цыпочки или выглядывая сбоку, от нее уходили пятясь, лицом к ней, пока она не закрывалась стеной. Останавливаться запрещали, за барьерами стояли дружинники и милиция, они строго шептали: «Плотнее! Не задерживайтесь, вы видели, какая очередь» и т. п. Мысли путались, в голову лезло прочитанное об этой картине, торопливо думалось, что красный бархат не подходит к раме, что стекло бликует, да кто бы ее утащил, если бы была не под стеклом, главная досада была та, что только-только находилась точка для взгляда, только казалось, что она глядит именно на тебя, как мужской энергичный шепот в самое ухо страгивал с места. Нет, это, конечно, было не свидание. «Перед иконами, – говорил русский писатель Иосиф Волоколамский, – следует единствовать и безмолвствовать». А тут? Красный бархат, обложивший стекло, казался траурным, улыбка Моны Лизы усталой, даже злой, но все же картины хватало на всех: я видел, что эта женщина улыбнулась понимающе: но уже совсем уходя, я еще поймал ее взгляд – он был насмешлив.
Мы вышли и долго жмурились на свету. Ребята, вышедшие прежде, включили магнитофон, и он, побывавший в прохладе, брал пуще прежнего: «Затопи ты мне баню по-белому, я от белого света отвык. Угорю я, и мне, угорелому, пар горячий развяжет язык…», с этой песней они скрылись, и мы остались одни на белом, жарком асфальте. Следовало бы побыть одному после виденного, но ведь как у нас – если давно не видались, да встретились, да столько страдали, как тут расстанешься. Было странное ощущение, что город брошен, Москва пуста, только сумасшедшие машины и автобусы, готовые взорваться, добавляют в раскаленный желтый воздух синего дыма. Мы шли по мягкому асфальту, уж не чая спасения, однако в стеклянной забегаловке к нам бодро подскочили, предлагая выбрать и холодное, и горячее… Потом, когда жара перетерпелась, наступил вечер, решили не расставаться. Поехали в какой-то дом каких-то внуков знаменитого дедушки, добавили, стали слушать записи церковных песнопений, но невнимательно, откуда-то взялись гитара, женщина за ней, я сразу в нее влюбился, в женщину, конечно, а не в гитару, но и гитара была хороша своими звуками: «Мой караван шагал через пустыню…» или: «Все своевременно, все своевременно» (дальше было, кажется, что женские волосы пахнут дождем)…
Потом песнопения сняли с проигрывателя, пластинку с ними положили на самый край накрытого стола, и когда кто-то тянулся к общей тарелке, то задел пластинку, и она упала. Но уже гремела другая музыка. Я захотел вымыть руки и вообще умыться, пошел в ванную, но там уже целовались…
… Сейчас очередь была поменьше, двигалась побойчее. Машин «скорой помощи» не было, вдобавок для контраста пошел холодный дождь, очередь расцвела зонтиками. Спереди, сзади и сбоку меня теснились зонтики. Психологически сложно было попроситься под какой-нибудь, вот и терпел сливание струй на себя со всех. Воспоминание о Джоконде было быстрее, чем если бы рассказывать о ней. Миновали угол, вышли на финишную прямую. Под зонтиками шел разговор о Зрачкове. Говорили о картине, которую у Зрачкова торгует один американец. Американец этот не искусствовед, но любитель и, наживаясь на каких-то машинах, для души скупает картины, у него большая коллекция, именно к нему якобы попадают увезенные из Европы картины, но все это слухи, кто видел? И вот этот бизнесмен хочет купить у Зрачкова именно ту картину, которую Зрачков не уступает. Он сказал: любую, но не эту.
«Портрет любовницы!» – утверждали две девицы: одна в широченных брюках, будто на каждой ноге было по юбке, другая в брюках в обжимку, но у обеих на шее внесло по лезвию от безопасной бритвы. Ну и вот, якобы бизнес» мен и художник уперлись лоб в лоб, и никто ни в какую.
Конечно, именно эту картину отыскивала вначале простодушная толпа. Это был портрет женщины, закутанной в желтую шаль, глядящей немного выше взглядов на нее, женщина, казалось, зябла, подвитые волосы держались атласной лентой, и вся женщина была из прошлого века, когда бы не глаза, подведенные по новой моде, когда и глаз-то не видно, душа спрятана, да еще валялись вокруг колеса магнитофонных лент. Непонятно было – измучен или загадочен взгляд, что было – бессонная ночь или событие? Может быть, эта загадка и пленила бизнесмена, который оказался не выдумкой, а живьем стоял у картины, говорил громко, смеялся, и какой-то знаток английского перевел, что господин Стивенс (так его называло его окружение) заявляет, что если Зрачков устоит перед ста тысячами долларов, то он, американец, станет советским.
Выставка напоминала читанное о скандальных выставках импрессионистов. Но читать – одно, да и публика там экспансивная, французская, а наш народ сдержанный. Конечно, Стивенс добавил страстей. Почему он вцепился в этот портрет? Другие были не хуже. Может, он был дорог художнику? Дотошная толпа находила, что в этой женщине нет сходства с портретом жены, висевшим неподалеку. Шумно было у картин на исторические темы, картины эти и были как раз основой выставки. Около них была такая толкотня, что радовало только одно – никто не велел скорее уходить, каждый мучился, сколько хотел. Тут кто плевался, кто плевал в того, кто плевался, но многие молчали, вглядываясь. И то сказать – сумел художник царапнуть нервы:
– княгиня Евпраксия с маленьким сыном бросалась из высокого окна, а внизу, на камнях рязанского кремля, лежал убитый князь Дмитрий:
– последователь Чингисхана, Мамай, на коне въезжал в Успенский Владимирский собор:
– с колоколен сволакивали колокол, назначая его в переплавку, другой колокол эпоху спустя везли в ссылку:
– там покорные люди поднимали тесаные камни на леса будущего храма, здесь те же люди, спустя века, закладывали под этот храм заряды:
– Петр Первый склонялся к стеклянной банке, в которой была заспиртована женская кудрявая голова:
– он же будил маленького наследника Алексея, вручая ему саблю и заставляя ссечь голову стрелецкому сыну, мальчишке таких же лет, – Иван Грозный шел за телегой убитого им сына…
… Было, было на что посмотреть.
В нескольких местах вслух читали затрепанные книги отзывов. Записи были двоякие: одни объявляли Зрачкова гением, другие – бездарностью. Но и те и другие сходились в одном – мы плохо знаем свою историю, Зрачков в силу своих возможностей заполнил пустоту исторического чувства. Чувство истории есть сравнение своего времени с временами минувшими, сравнение силы своей духовности с духовностью предков, как объясняет Пушкин: «… люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения».
И еще декада прошла.
Выставка Зрачкова закрылась, я выждал два дня и поехал в музей. Прошел свободно. Картины были сняты со стен, только одна, та самая, все еще висела и, одинокая на большой стене, где болтались бельевые веревки, казалась странной. В зале было много людей – телевидение сматывало свои кабели, у стола с табличками «Худфонд» и «Салон-экспорт» теснились смотрители залов, художники, но что главное – и американец был тут. Через переводчиц возбужденно он просил Зрачкова назначить сумму за портрет. Свои убеждали Зрачкова вполголоса уступить.
В следующую минуту произошло то, о чем через полдня заговорили всюду – Зрачков прошагал к портрету, снял его с петель, одна петля застряла, он дернул, оборвал шнур и… протянул портрет Стивенсу, сказав громко:
– Я дарю его вам. Дайте фломастер! – Перевернул портрет, написал несколько слов и велел рабочим упаковать портрет.
Что и говорить – жест был не из последних. Немножко была немая сцена. Особенно хорошо сыграл ее американец, заговоривший после столбняка по-русски:
– Я остаюсь в России!
Хранитель фондов забыл даже сверить мое разрешение с паспортом, долго путал ключи, наконец открыл.
Отошла в сторону кованая дверь, я медлил. Хранитель бесцеремонно впихнул меня, вошел сам и закрылся. Он объяснил, что нельзя долго держать дверь открытой, чтоб в запасниках не поднялась температура, сказал также, какая она по Цельсию тут, сверился с градусником. Но не это его занимало, поступок Зрачкова был слишком свеж.
– Триста тысяч долларов! – восклицал он, запинаясь за литые ступени и чуть не падая вниз.
– А здесь есть картины в такую сумму?
Хранитель очнулся.
– Есть! Есть и больше. Причем чем дальше, тем дороже.
Полусвет, полутьма царили в запасниках. Мы шли вдоль стеллажей, где стояли разновысокие полотна. Провода по» жаркой охраны тянулись всюду, краснели звонки и кнопки сигнализации.
Если что и похоже на айсберг, так Это музеи, думал я, идя по бесконечному коридору, ведь верхняя, видимая часть музея так мала, что смешно судить об искусстве по постоянной экспозиции или по чьей-то выставке.
– Это ж какие же нужны залы, чтоб выставить все враз, – сказал я фразу, наверное, надоевшую хранителю.
– А зачем? – ответил он. – Пусть отлеживается. Было модно, схлынуло. Вот это – ведь не от большого ума, – он показал картину: топор, бородатая голова, надетая на топорище, на заднем плане, стыдно сказать, была написана икона, подсвеченная лампадкой. – Или вот это выдрючивание – рояль с ослиными копытами вместо клавишей. Вообще всякая цветная геометрия, ведь это от бездуховности, от неумения рисовать, от пустоты души. А ведь так, подлецы, сумели, – хранитель выругался, – оболванили вкус, все сумели сделать и имя и деньги. Причем совсем недавно, сорок, тридцать лет назад.
– А полотна Зрачкова есть?
Хранитель засмеялся:
– Подождем лет десять хотя бы. Вообще-то, надо бы ждать лет сто как минимум. Хотя… – горько сказал он вдруг, – вкус всегда низок.
– Вот бы здесь хранилась Джоконда, – совсем по-детски сказал я.
– Джоконда? – спросил хранитель, даже не улыбнувшись. – Я бы с ума сошел, разве можно. – Мы помолчали. – Вот мы и пришли. – Он показал стеллаж, маленький автопортрет Костромина висел над ним.
Хранитель прибавил света и оставил меня. Слышно было, как он набрал чей-то номер телефона и стал рассказывать о событии, заключившем и без того шумную выставку Зрачкова. Это мешало, но вскоре, поставив в ряд несколько полотен Костромина, я забылся. Радостно загорелся голубым цветом иван-чай, сдруживший нас. Костромин тоже был с Севера. Я рассказал, как мы в голодные годы собирали иван-чай на заварку, он косился недоверчиво, но вятское слово «нашвыркать» убедило его. «А в Сибири еще говорят: набруснили», – добавил он.
Как он умел смотреть глазами того, кто смотрел на картину. Вот и «Изба на закате» – то время дня, когда занавески еще не задернуты, в избе готовят ужин, разводят огонь. Время заката, темные простенки, красным светят окна. Вот картина – высокий колодезный журавль, и он как будто черпает из заката. Осенние травы под ветром. «Ночной букет» – светлые точки татарника. Иван-чай, шиповник. Тогда критики, торопливо отделываясь от Костромина, говорили о нем вроде оригинальную, но все же обычную фразу, что он пишет не цветы, а портреты цветов, грибов, вещей, утвари, но сам Костромин говорил, что худо-бедно а он пишет в каждой картине свою жизнь. Трудно он шел к портретам, к сюжетным работам, история жертвы во имя людей – вечная тема – держала его всегда в напряжении. Пройдя войну, он ни разу не написал военного сюжета, только одно было – «Воспоминание о 41-м» – изба в центре разрыва и низкое небо над полем, как пересказать? Тем более как написать эти маленькие подтекстовки в альбом? О цвете писать, а вдруг оттиски будут такие, что от цвета останется только намек.
Вот и «Хризантемы в снегу», он любил их и продал в музей, только чтоб не ушло к частникам. Но вот опять же, подумал я, как было знать – разве лучше загнать их в эти подвалы? Вдруг увиделось в картине, какая она разная. То снежная вся, то вдруг проступает темень стеблей, мертвеющие листья. Цветы казались растущими из снега, то видно было, что они брошены замерзать или положены на сугроб над чьей-то могилой.








