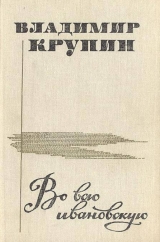
Текст книги "Во всю ивановскую (сборник рассказов)"
Автор книги: Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Во всю ивановскую
«Колокольчик»
Картинки с выставки
Семенная сцена
Рига, час ночи
Змея и чаша
Зато весной
Во всю ивановскую

Ивановская – Иван Купала – это праздник, пришедший из времен язычества. В нем много поэзии и веселья, много удали, к сожалению иногда грубоватой, Здесь и плетение венков, и пускание их по воде, здесь и обливание водой («Иван Купала – обливай кого попало!»), здесь и хождение в страшный, темный, гудящий полчищами комаров лес за цветом папоротника, здесь и хороводы, выродившиеся сейчас в танцы и пляски, здесь и драки. Праздник этот православная церковь соотнесла с днем рождения Иоанна Предтечи, который походил на Купалу и именем, и обычаем – крестил людей посредством купания в реке Иордан.
Раньше в Чистополье, на родине моего друга Толи, была церковь его имени, и как раз седьмое июля было в селе престольным праздником. По давней традиции в этот день чистопольцы ходили на кладбище, поминали родителей, принимали многочисленных отовсюду друзей. Горожане и посейчас стремились взять к этому времени отпуска. Когда мы ехали от Котельнича в Чистополье, нам понимающе говорили: «На ивановскую!»
В лесу по дороге нас остановил застрявший частник. Дорога была, что и говорить, не из породы асфальтовых.
Да еще добавили долгие перед этим дожди. Пока готовили трос, мы в самом прямом смысле не могли вдоволь надышаться лесным воздухом. Пытались по запаху определить, какие травы в нем слышатся. Конечно, иван-чай был в нем, анис был, но особенно головокружительно пахла таволга, по-вятскому – лобазник: ее белые пушистые метелки с легкой желтизной невесомой пыльцы стояли справа и слева от дороги.
Вытащили частника, поехали дальше. Солнце, еще задолго до обеда, поддавало до полного разморения, хорошо еще, пыли после дождей не было. Измаявшись (да еще перед этим ночь на верхней боковой полке), мы непременно решили перед Чистопольем выкупаться, чтобы взбодриться. Что и выполнили. Больше всех измаявшийся Гриша, пятиклассник, сын Толи, первый же и воспрянул, когда зашел в золотистую торфяную воду лесной реки. Река называлась Боковая. Толя, буду называть его так, мой давний друг, земляк, поэт из. Перми, давно звал меня побывать на его родине, и вот мечта сбылась.
Гриша, вырвавшийся из-под присмотра мамы, отважно поплыл, это было красиво необычайно – при солнце в этой янтарно густой воде тело его казалось слитком золота или, лучше сравнивать с живым, золотой, поднявшейся со дна рыбой.
Попрыгали и мы.
У обочины Чистополья стояло множество машин и даже тракторов. Причина была ясна – не проехать. Мы сунулись м застряли. Еле спятились. Достали вещи и пошли пешком. Толя напугал, что идти далеко, но это он говорил нарочно. У поворота открылась высоченная уцелевшая колокольня, а не доходя до нее, был дом. Гриша, побежавший вперед, сказал о нас бабушке, Анне Антоновне, и она уже хлопотала на кухне. Но Толя торопил идти на кладбище, боялся, что разойдется народ.
По случаю моего первого приезда в Чистополье Толя подарил мне красную рубашку, которую велел тут же надеть. И сам новую надел. И вот, вырядившись, мы отправились вверх по селу, к магазинам, а там еще наверх, к «кусту», как называли тут кладбище. Издалека оно напоминало рощу.
– Чистополье на бугре, Караванно в ямине, – говорил Толя, показывая направление к Караванному селу, к традиционным соперникам по части молодецкой удали. – Они к нам ездили на ивановскую, мы к ним на николу зимнего. Их мы тут лупили, они нас там.
– Зачем тогда ездили?
– Ну как же, доблесть. Знаем, что получим, а едем. Трусом же не будешь.
Навстречу и по пути шло множество людей, все нарядные, веселые. Перекликались, договаривались, кто к кому придет, где собираться. Толю окликали и обнимали непрерывно. Кричали: «Григорьич! Натолий! Ой, да ведь, гли-ко ты, Анны ведь Гришихи сын! Толя, да как это ты без гармозеи?» Тут же вырывали обещание побывать и у них. По дороге на кладбище почувствовал я жуткую крепость чистопольских рукопожатий, правая рука моя онемела.
Почти у каждой могилы были застолья. В общем-то все могилы были так или иначе по родне Толе или же хорошо «гг знакомые. Первая остановка была вынужденная – Толя понадобился как врач. На него налетел совершенно ошалелый парень с пустой бутылкой и торопливо прокричал, что бежит за водой для тещи, что ей плохо и чтобы Толя спасал ее.
В самом деле, на лавочке две женщины отваживались с третьей. Сняли с нее кофту, расстегнули ворот платья, побрызгали принесенной водой, женщина ожила. Радостный, красный парень, заставляя женщину еще и попить воды, говорил:
– Теща, ты что это надумала? Ты ведь, если помрешь, дак не с кем и поругаться будет.
Уже раздавалась гармошка на дороге, уже редели компании у могил, а все больше скапливались около музыки. Уже и песня раздавалась: «Я тебе доверяла, словно лучшему другу, почему же сегодня ты идешь стороной?»
Мы пришли к родне на могилы дедушки и бабушки, которым именно в этот год исполнилось бы по сто лет. К стыду своему, я должен сказать, что пропустил в жизни эту дату своих бабушек и дедушек. Глухая тетка Толи расплакалась, вспоминая отца. И вообще на всем кладбище было так – кто пел, кто плакал. Но плакавшего быстро утешали привычными словами, что все помрем, что нам бы еще дожить до их лет и тому подобное.
Солнце полудня стало снижаться, меньше ощущалось, так как его задерживала листва. Листва кипела и сверкала, и шум ее от ветра был радостным.
Забыть о том, что с нами гармонист, нам не дали, – Толю непрерывно звали, посылали к нашему застолью послов. И вынудили. Мы пошли в центр кладбища – большую поляну, заполненную людьми. Играла там гармошка, но гармонист, завидя Толю, поспешно свел мехи и сдал полномочия. Толя, согласно законам приличия, поотказывался, но тут вывернувшаяся сбоку и обнимающая Толю старуха прокричала:
Гармонист у нас хороший,
Мы не выдадим его!
Всемером в могилу ляжем
За него за одного!
И дело было решено – Толя заиграл. Ох, как он играет! Цыганку, «сербиянку», «прохожую», несколько частушечных размеров, любые песни, вальсы, фокстроты, – словом нет того, что бы Толя не выразил в звуках гармони или баяна.
Толя так заиграл, что ожившая теща выскочила в круг в паре с зятем. Тут же увидел я женщину, пляшущую с ребенком на руках, мужика с портфелем, даже одноногого инвалида увидел, пляшущего на деревяшке. Одна баба дробила так, будто хотела вся целиком втоптаться в землю, другая ударяла подошвами, склоня голову и будто вслушиваясь, будто добиваясь из земли нужного ей звука. Частушки шли внахлестку, их было мудрено разобрать и запомнить, потому что веселье хлынуло враз и все почти хотели выкричаться. Но тут мужик с портфелем пропел так, что я сразу вспомнил рассказ Толи о нем, это был односельчанин, сын знаменитого, погибшего на войне гармониста. Осталась от отца «колеваторка» – восьмипланочная гармонь ручкой работы мастеров Колеватовых, и мать мечтала, чтобы сын выучился играть на ней. Но ничего не вышло, хотя она, по ее выражению, «пальцы ему привязывала». Слуха не было никакого. Он и частушку пел не в такт за музыкой. Но гармошку, как память об отце, не продавал никому, сколь за нее ни предлагали. Частушек он знал три и пел их всегда в строгой последовательности.
А г-го-род Киров, го-род Киров,
Кировски поля-ноч-ки-и-и…
Я поеду в город Киров
Забывать гу-ля-ноч-ки-и-и…
Дальше шла вторая:
Хоть я сам и не-кра-си-вый,
За-то во-ло-сы вол-но-о-ой.
Все дев-ча-та мо-ло-дые
Гурьбой бегают за мно-о-ой!
Третью он пел в застолье, когда оно тормозилось:
Вороны каркают, Собаки тявкают, Мелки пташечки поют, Что-то редко подают.
– Резкая гармония, – одобрительно говорили рядом со мной.
Совершенно необъяснимые переборы взмывающих высоких голосов, поддержанные басами, делали свое дело. Народ, как мотыльки на свет, слетался на музыку и пляску. Ввернулась в круг и уж не чаяла вырваться из него лохматая собака. Ребенок бегал за ней, да все не мог поймать и вдруг сам заплясал под одобрительные крики. А частушки просверкивали, вызывая смех и новые варианты. Огромный мужик в комбинезоне и сапогах, видно с работы, тяжело топал и гудел на тему женитьбы:
Как над ношей деревней
Черный ворон пролетал,
Я хотел было жениться —
Поросенок околел.
Один молодой мужик, которому кричали: «Витя, перестань!» или «Дает Колпащиков!», заклинился на частушке, которую, сильно опресняя, можно передать так: «Растаковская деревня, растаковское село. Растаковские девчоночки гуляют весело!»
Женщина в нарядной, белой в кружевах кофте выхаживала перед парнем в голубой рубашке, который плясал, ускальзывая от нее вбок, она значительно, намекая на что-то известное только им, пела:
Ягодиночка, потопаем,
Потопаем с тобой:
Больше нам уж не потопать —
Жена будет с тобой.
Парень, ответствуя, тоже ей что-то напомнил:
Подожди, моя милая,
Наревешься обо мне,
Належишься белой грудью
На растворчатом окне.
Снова взревел механизатор:
Я хотел было жениться,
Я теперя не женюсь:
Девки в озере купались —
Посмотрел – теперь боюсь.
Тут я услышал частушку, которая запомнилась мгновенно. Ее спел инвалид на деревяшке:
Раскатаю всю деревню,
До последнего венца!
Сын, не пой военных песен,
Не расстраивай отца!
«Сын, не пой военных песен, не расстраивай отца», – повторял я себе, думая, что веселье такого размаха не может долго держаться, но ошибался. Даже зрители и те притопывали на месте, а чаще срывались, раззадоренные музыкой, в круг. Я потерял из виду тех, за кем пытался смотреть, погоде му что добавлялись новые, будто в самосожжение веселья бросались они, чтобы оно разгоралось. Вспыхивали иногда слова почти хрестоматийные, например: «Посмотрите на себя, хороши ли сами-то». Пли из недавнего прошлого: «Ах ты, дроля, дроля, дроля. Дроля, дроля, дроби бей. Мы в колхозе не работаем, живем без трудодней». Старуха, стоящая рядом со мною, потряхивала плечами и все не решалась, ожидая, наверное, вызова из круга или толчка из круга. Все повторяла: «Эх, ножки мои, что мне делать с вами, не хотела я плясать, выскочили сами».
Толя упарился. Уже старухи, жался его, кричали другим гармонистам, чтобы сменили его, но те не решались: что к говорить – поиграй-ка после мастера. И Толя продолжал.
Многие поколения русской молодежи немыслимы без музыки именно гармошек. Слово «резкая» по отношению к гармошке – слово, отличающее ее звук, слышимый иногда за много километров, количество планок обозначает богатство звука и вместе легкость разведения мехов. Гармониста берегли. В драках его заслоняли и не позволяли вступать в потасовку. А когда парни шли в чужую деревню или навстречу другой компании с гармошкой, тут гармонист был первое лицо. Случалось, что одной игрой, резкой, громкой, складной, одерживалась победа. Встречные не выдерживали, сворачивали, шутками и восклицаниями извиняя свое поражение. Вспомним трубы Иерихона. Не зря за упомянутую «колеваторку» давали корову и два стога сена.
Ухарство сказывалось в частушках молодежи:
По деревнюшке пройдем,
На конце попятимся.
Старых девок запряжем,
С молодым прокатимся.
А кто постарше, пел и такую:
Как, бывало, запою —
Все дома валятся,
А теперя ни один
Даже не шатается.
Веселье оборвалось внезапно и даже как-то глупо. Невысокий краснолицый мужик, стоявший во всю пляску около Толи, попросил гармонь, и Толя охотно снял ее с плеча. Мужик же и не думал играть, он взял гармонь под мышку и… ушел. Это оказался владелец гармони. Кто говорил, что ж он пожалел инструмент, кто говорил, что его ждали в каком-то доме, думаю, что разгадка была в ревности к игре мастера, мужику бы так не сыграть, хотя и на своей. Толя развел руками, жалея, что не взяли свою, его гармошку, еще со времен юности ждущую его каждое лето, и веселье окончилось.
Засобирались домой. Но многие вновь разбрелись по могилам. Плача больше не было слышно. Солнце скользило к западу, уже не доставало до земли, резало деревья на две части: нижнюю – темную и остальную – изумрудную. К прохладе оживились и запели птицы. Но и комары зазудели.
По дороге нас все время останавливали, тянули к себе, мы отговаривались, но от всех отговориться было невозможно говорили мы, что только что с дороги, нам отвечали, что как раз и зовут нас отдохнуть, говорили, что Анна Антоновна ждет к обеду, нам возражали, что как раз на обед нас и зовут.
– Айдако-те, парни, в Красное, – решительно сказал сродник Петро, рукопожатие которого было самым железным..
– Точно, ждут – звали, – подтвердил муж Толиной сестры Риммы, тоже Толя. – А завтра – Бляха медная, к нам.
– Завтра кошу, – отвечал Петро, – беру роторную косилку, с бочкой пива договорился, и с утра – по коням!
Оказалось, что в Красное мы просто обязаны идти. Заскочили домой, взяли гармошку и хотели забрать Гришу, но его уже утащил Вадимка, деревенский мальчишка: Грише было с ним интересней. Правда, Толе, как отцу, тревожней, ибо стало известно, что Вадимка уже посылал Гришу за деньгами к бабушке, а также взманивал на луга, на озера, на самостоятельное купание без надзора.
С нами шел и Витя Колпащиков, азартнее всех плясавший на кладбище, и его жена, ругавшая его за все ту же частушку о растаковском селе, деревне и девчонках и пугавшая тем, что не пойдет в Красное и его не пустит. Витя замолкал, но частушка, будто живчик, выскакивала сама. Шел Петро, Толя Бляха медная, еще несколько знакомых, сзади плелась полуживая старуха, за которую я очень боялся, что она не дойдет, упадет при дороге. Нет – дошла.
Столы были накрыты перед домом, в просторном палисаднике. Дом был основателен, крепок. Даже двор был под крышей и застелен по земле половым тесом. Вода на огород шла по трубам, качалась насосом, даже лужок на поскотине поливался веерными струйками, и трава была там густой, высокой. Поговорили о том, кто к кому приехал, о покосе, о погоде. Я уж отчаялся запомнить всех по имени, это было неудобно, так как меня-то быстро запомнили как приехавшего с Толей.
Веселье разгорелось не сразу. Сидели мы как на сцене, потому что вокруг ограды много собралось любопытных, и Петро шутливо, подобрав с травы клочок сена, совал его через ограду, предлагая пожевать. Тут сыпанул дождь, любопытных не стало. Думали перебраться во двор, но вновь, по выражению Толи, «окрасилось небо багрянцем», разгорелся огромный закат. Видимо, от него все лица казались розовыми и красными. Мне этого цвета добавляла пылающая алостью рубаха, которую Петро сравнивал с флагом над рейхстагом. Петро вообще играл после Толи чуть ли не первую роль. Он сидел рядом со мной, спрашивая: «У тебя высшее?» – «Да». – «Ну и у меня кое-что за плечами».
– Петро, выпейте вы, че секретничать! – кричала женщина Александра, как она представилась: Александра из села Сорнижи. Еще она поддразнивала чистопольских, что не только у них есть свой поэт, но и у них, и не поэт даже, а поэтесса – Татьяна Смертина.
– Поженим, – кричали за столом. – Толя, ты как?
– Ни-ког-да! – отчеканивал Толя.
– Витя, тебе хватит, ведь не спляшешь.
– Я?! Чтоб я не сплясал! Я мертвый спляшу!
– А давайте за погоду!
– За ивановскую!
– Ну! Подняли!
– У меня уж до ведра доходит!
– Ну, Бляха медная, когда и попить, как не в ивановскую! Работа подопрет – не больно разольешься!
– Петро, на рыбалку свозишь? – спрашивал Толя.
– О! – взорлил Петро. – Я ведь мотор к лодке купил! Новьё! Работает, как пчелка! На Пижме любого на одном цилиндре догоню и затопчу! Сделаем рыбалку. Директору скажу – кореша приехали. Уважит, куда денется. Траву вот подвалю.
– Да чего это, мужики, ровно все вареные, – заговорили вдруг женщины.
Уже кто-то ставил Толе на колени гармошку, уже ожившая Старуха стащила с головы платок и помахивала им, крича:..
Сербиянка рыжая
Четыре поля выжала,
Снопики составила,
Меня возить заставила.
Вышла Александра и еще без музыки, встав перед Толей, пропела:
Поиграй, залетка милый,
Поиграй, повеселюсь.
Меня дома не ругают,
Посторонних не боюсь.
Толи, налаживая по плечу ремень, весело в тон отвечал:
Поиграй, поиграй,
Зеленая веточка!
Ты на что меня сгубила,
Эка малолеточка?
И сразу, без паузы:
На гулянье привезла
Меня кобыла сивая,
А с гуляньица проводит
Милочка красивая.
Я сильно подозревал, что Толя сам многие частушки сочинил, даже те, что пошли в оборот, а это признак высокого качества. Причем если кто-то в пляске пел частушку совсем не к месту, а ту, что вспоминалась, то Толя, направляя застолье или круг, давал тему. В частушках, конечно, далеко не вся душа русского народа, но часть ее, и не маленькая.
Витя уже изготовился к пляске, стоял, шатаясь и комментируя свое состояние: «Бес кидает». Но только лишь заиграла гармонь, он моментально окреп и дал такую присядочку, что впору бы и профессионалам из хора Пятницкого. Пошли и многие другие, старуха, махая платком, голосила:
Оттоптались мои ноженьки, Отпел мой голосок, А теперя темной ноченькой Не сплю на волосок!
Правду сказать, и меня подмывало сплясать, да уж и Александра поударяла передо мной, но понимание, что мне и в одну десятую так не сплясать, как они, это понимание останавливало, и я не рыпался. Рядом сидела тетка Мария, тетка Вити-плясуна, я слышал, что она ему обещала завещать две тысячи, на что он – пьян-пьян – отвечал: «Ты всегда: выпьешь, обещаешь, а вот где ты завтра будешь со своими тысячами!» Сейчас, хваля Витю за пляску, я спугнул ее тем, что наивно спросил, на что же Вите эти две тысячи, он что, чего-то покупать думает? Тетка закряхтела и засобиралась, говоря, что надо домой, надо скотину устряпывать, да где-то и внуков не видно. И ушла.
Плясуны усердствовали. Петро, запыхавшись, свалился на скамью и кричал Толе:
– Перестань играть, они с ума сойдут!
Но перестать было мудрено. Взять хотя бы одного Витю. Он сразу выкрикнул Петру:
Что ж ты, Петя, приустал, Ты пляши, не дуйся.
Если жарко в башмаках, Ты возьми разуйся.
И продолжал носиться, страшно красный, яростный. Толя пробовал тормозить музыкой, но Витя так отчаянно подскакивал и делал выходку, что Толя вновь нажимал.
– Этот Витька да еще один на прошлую ивановскую трех гармонистов утолкли, – сказал сосед.
В этот раз Вите не было достойного соперника. Толя сдался перед Витей, свел мехи и закричал, чтоб Вите не сразу давали пить, раза бы три обвели вокруг дома, как запаленную лошадь. Витя сел на клумбу и все еще махал руками и потряхивался, будто пляска продолжалась у него внутри и его сотрясала. А Толя жаловался, что смозолил пальцы.
Хозяин дома подошел ко мне, обнял за плечи, сказал: «Вот запомни, чего я тебе скажу», – но ничего не сказал.
Женщины запели и прекрасно, душевно спели песню «Деревня моя, деревянная, дальняя…». Там были прекрасные слова: «Мне к южному морю нисколько не хочется, нисколько не тянет в чужие края. Тебя называю по имени-отчеству, святая, как жизнь, деревенька моя..»
Вновь подошел ко мне хозяин:
– У меня прошла крупная жизнь. Я записал ее в общую тетрадь, но не знаю, как изорвал.
Я вышел в огород, решил послушать пение издалека.
«Не осуждай несправедливо, скажи всю правду ты отцу. Когда свободно и счастливо с молитвою пойдешь к венцу… Умчались мы в страну чужую, а через год он изменил. Забыл он клятву роковую, а сам другую полюбил…»
Потом запели: «Отец мой был природный пахарь, я я работал вместе с ним…» Там были невозможно щемящие душу слова: «Горит село, горит родное, горит вся родина моя…»
На огороде хозяйка укрывала стеклянными банками ростки огурцов.
Вновь я был за столом, и седой старик в фуражке говорил:
– Не знаю, как я остался жив, прямо не знаю. Да-а. Сыновья все полковники. А я поучаствовал во всех переворотах. И куда жизнь утекла, куда делась? Были девки, стали старухи, как это, а? Я не боюсь, что я уже седой, что я дед к прадед. Все моложе меня уже в могиле, даже кому была бронь, и те уже там.
Шли домой в летних прозрачных сумерках. Хотели поворачивать прямо к дому, но громкая музыка, яркий свет из клуба поманили зайти туда. В клубе мирно сотрудничали магнитофон и баян. Уставал баянист – включали магнитофон, надоело современное дрыганье, просили баяниста играть, например, краковяк. Или затевали «комсомольский ручеек», запевая при этом песню. При нас запели «Уральскую рябинушку». И еще, завидя Толю, подошли к нему две девчушки, попросили подыграть им и мгновенно дружно закричали девичью песню запоздалого раскаяния: «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю…» Какой-то парень, вообще из молодой клубной публики, дождавшись паузы, выкрикнул переделку другой песни, тоже про вяну: «Прости меня, но я не виновата, что я люблю солдата из стройбата». В этом был какой-то смысл, понятный его и девчоночьему окружению, так как поющие девчонки кинулись колотить парня, в шутку, разумеется…
* * *
Ночью была гроза. Мы спали в пологах в клети, спали после огромного дня без задних ног, но гроза нас подняла. Молнии освещали клеть солнечным сквозным сиянием. Одна не успевала исчезнуть, вспыхивала другая. Даже темноты в глазах, какая бывает после вспышки, не было. Гром сотрясал воздух.
Такие грозы ночью называют почему-то воробьиными, говорят, что воробьи начинают кричать. Может, они и кричали, но где их было расслышать. Чтобы не стало вовсе жутко, мы заговорили. Толя рассказывал, что в прошлые
О! ивановские было больше народу и событий. Он называл уже умерших мужиков фронтового поколения, с которыми в детстве и отрочестве бывал на покосе, в поле: «Как они красно говорили! Где это все?»
Молния и гром огнеметной силы полыхнули и тряхнули так что сбросили Толю с постели. Он что-то крикнул, но я не расслышал, но понял, что он боится за Гришу, чтоб тот не испугался, и что он пошел в избу его проверить.
Вернулся Толя в таком виде, что меня подбросило с лежанки. Оказалось, что Вадимка все же сманил Гришу ночевать на луга. Подучил сказать бабушке, что будет ночевать на клети. Мы оделись, обуваться не стали.
Вышли за ворота. Куда идти? Молнии ослабевали, уходили на запад, колокольня чернела при вспышках. Гром отстал от молний я не пугал. Дождя почти не было.
– Папа! – раздался крик, и мокрый, дрожащий Гриша радостно подбежал под отцовский шлепок.
Гриша рассказал, что шалаш их свалило ветром, а вначале примочило внутри шалаша, что они побежали домой и что молния один раз ударила прямо у его ног.
Вадимка, как опытный соблазнитель, скрылся от возмездия на сеновале какой-нибудь тетки, коих у него было во множестве. Гришу переодели, затолкали на печь, укрыли одеялами, напоили теплым молоком. Анна Антоновна обохалась вся, призывая на Вадимку кары небесные, но и оправдывая его – живет без родного отца.
Мы пошли досыпать.
Утром – как и не было грозы – сияло солнце. Звенели по-за огородами косы-литовки. И на нас укоризненно глядел заросший бурьяном угол огорода. Вытащили свои косы, направили. Пошли размяться. Косили с радостью. Наклоняясь за пучком травы, чтобы протереть лезвие, я услышал: «Парень, видно, крестьянство знает». Не было мне большей радости от этих слов. Сказал это кто-то из двух пришедших проведать гостей. Один, знакомясь, сказал: «Валерка буду», а другой назвался Николаем. Работа была оставлена.
Как раз у этого Николая два сына погибли, это о них я вчера узнал на кладбище. Выпив, Николай разревелся. Толя принес ему еще раньше обещанное лекарство. Вообще весь этот день к нам непрерывно текли гости, и почти всем им Толя давал какие-то привезенные заказы.
Пришел пастух Арсеня с сыном, который не давал ему пить, но сладить с Арсеней было мудрено.
Со всеми были обстоятельные разговоры о рыбалке, о лугах, про которые Николай сказал, что на них так красиво, что душа отпадывает. И что хотя и были дожди, но рыба есть, побродить можно.
К обеду затрещали по селу мотоциклы. Стояли у ворот, незнакомый парень привернул, ухарски тормознув, мгновенно занял три рубля и похвалился тем, что на прежнем мотоцикле сломал три ребра, но все равно завел новый.
Нужно было дать телеграммы, чтобы не беспокоились домашние, пошли на почту.
На почте ждал ряд новостей. Ночная гроза оборвала и связь, и радио, то есть дать телеграммы было невозможно. Женщина обещала по возможности с кем-нибудь передать, кому будет по дороге. «Если еще будет транспорт». Тут же на почте говорили, что трактора по дороге вязнут и что мы отрезаны от мира, вот только еще телевизор работает. Другая новость была, что Петро, работавший по связи, вызван на устранение аварии, значит, на луга он не поехал и, значит, не пойдет с нами на рыбалку.
Не успели мы загрустить, как все наладилось. На крыльце почты появился Гена-десантник. Тут же обещал достать клюковой (от слова «клюшка») бредень, велел немедленно собираться. И так нас затормошил, что мы, собираясь, многое забыли, например ложки, чтобы хлебать уху. С нами напросились Гриша и Вадимка, которого, куда денешься – родня, пришлось простить, тем более он изъявлял усердие не по годам. Еще взяли палатку.
Гена дергал нас поминутно, будто могла уйти вся рыба. Поймал на дороге мотоциклиста Володю, сына Арсени, перечеркнув все его планы, и велел везти вещи к Большому озеру. Мы отправились пешком.
Гена своей торопливостью лишил нас многой добычи. Пустых заходов он не терпел. Не успевали мы выцарапать тину, траву, ил из крыльев бредня, он немедленно требовал сменить место. Наконец мы все сошлись на том, что надо пробрести часть канала, соединявшего озеро и Пижму. Володя был поставлен в центр, сам Гена отчаянно кидался в глубину, я тащил прибрежное крыло бредня. Толя шел по берегу с ведром.
Рыбы попалось не так много, но самой разнообразной: щучки, ерши, караси, плотва, подлещики, язенки, даже небольшой линек, даже окуни. Но наловить полное ведро не дал Гена.
– Хватит на уху!
На уху, и на заправскую уху, хватило куда с добром. Пока она варилась, пока Толя, злясь на указания Гены, устанавливал очередность запуска в кипящую воду различных сортов рыбы, хватились ложек. Гена было погнал за ними Володю на мотоцикле, но Володя нашел выход получше – залез в озеро, нащупал там ногами и натаскал огромных ракушек-перловиц. Я таких и не видывал. Больше сложенных лодочкой ладоней. Володя располовинил и выскреб раковины. Гена объявил, что будет есть их содержимое, что не зря японцы такие умные – моллюсков едят, но все мы стали плеваться, когда он и взаправду потащил в рот мясное и кишечное тряпье раковин.
Уха – огромное ведро – была готова. Черпали самодельными ложками и нахваливали. Случились на озере еще мальчишки, приезжали купаться на велосипедах, хватило и нм, и еще осталось.
Время до ночи еще было, хотелось полежать у костра после ухи, но Гена не дал, стал тормошить, чтоб натянуть палатку, это ему было после практики в десантных войсках «элементарно». Наконец, забрав бредень и оседлавши Володин мотоцикл, Гена отбыл, и мы полезли купаться. После купания снова принялись за уху. Когда стали укладываться на ночь, оказалось, что не взяли по милости Гены ничего теплого, только Вадимка был в куртке старшей сестры. Нарвали таволги и подстелили под днище палатки, чтобы не простыть снизу. Мальчишек положили в середку, сами легли по краям. Было тесно, мы шевелились, вытягивали ноги, палатка расшнуровалась, и нам добавили жизни комарики.
Мальчишки, едва рассвело, дали от нас тягу, мы немного добрали сна, но, разбуженные птицами, жарой первых солнечных лучей, выбрались, и вправду говорил Николай – душа отпала: до того красивы были луга. А небо какое было над ними – низкое, сияющее, склоненное к розовой воде, белому туману, мокрым, сверкающим кустам ивняка. В полусне, в полубреду стояла природа, трава и вода, соединенные туманом, смыкались, ложбины дымились белым паром.
Мы воскресили костер, разделись догола, чтоб потом надеть сухое, и ринулись в озеро. Сверху оно было теплое, но внизу – смерть какой лед. Поплыли горизонтально. Толя пугал меня воронками и глубиной. «Трои вожжи дна не достают». Шутка шуткой, а бездна внизу ощущалась. Вылезли озябшие, грелись у огня.
– «Ах, зачем эта ночь так была хороша, – пел Толя, – не болела бы грудь, не страдала б душа…»
А и в самом деле – зачем эта ночь так была хороша?
* * *
Ведь живем настолько нервно, задерганно! «В затыке», как говорила знакомая редакторша, и вдруг такая радость выключения из суеты. Стоял легкий звон в голове от обилия свежего воздуха, тянуло на сон. Я лег в траву – и запахи. Какой там сон – запахи детства охватили меня. Скошенная трава, цветы, ягоды, ветер принес даже дыхание северного лотоса – кувшинки – и еще запахи каких-то трав, которые были не для обоняния, для памяти и воскрешали не образ самих себя, но время, в котором они впервые узнались.
Но сейчас-то зачем травить душу, зачем видеть в родниках свое стареющее отражение, зачем так безжалостно понимать невозвратимость молодости? Живя во многом для впечатлений, мы со временем получаем сильнейшее – то, что впечатления повторяются, и с этого начинается старение души. Избавиться от этого помогает интерес к жизни, и самое страшное, если интерес увядает. Чужая молодость кажется хуже прошедшей собственной не оттого, что она хуже, оттого, что не хочется признаваться, что в чем-то был обездолен. Чего уж теперь, как было, так и было.
Солнце вознеслось и нажаривало поистине во всю ивановскую. Подумав о завтраке, мы разогрели вчерашнюю загустевшую уху… И очень кстати – прибыли гости. Десантник Гена и Толя Бляха медная. Толя искал ушедших из дому оренбургских пуховых коз, а Гена, по-прежнему опекая, явился помочь свернуть хозяйство. Гена сказал, приятно поразив нас, что вчера он ездил в свою деревню Разумы, теперь бывшую деревню, нарвал цветов и положил по цветку на места бывших домов. Звал съездить и нас, но невыносим вид разрушенных печей, крапивы, глушащей иван-чай, обугленных бревен, отесанных со стороны жилой части и светлеющих пятнами на тех местах, где висели фотографии, зеркала, вешалки, численники. «Нет, не поедем, Гена, не обижайся». Да и легко ли вновь и вновь видеть свою вину исчезновения деревень. Именно свою – не при нас ли «собратья» по перу воспевали централизацию сельской местности, как совсем недавно славили торфяно-перегнойные горшочки и кукурузу.
И еще новость так новость привезли гости – в Чистополье был пожар. Горел верхний порядок, но счастливо отделались – сгорели двор, сарай, дрова, а на дома не перекинулось – отстояли. Конечно, Гена был в первых рядах.
– Не успеешь уйти, – говорил Толя, – все чего-нибудь случится.
– Курятина-то есть ли? – спросил Толя Бляха медная. Я его так называю по его присловью.
– Тебе что, ухи не хватило? – спросил я, а они захохотали.
Оказалось, что курятина – это курево. Гости закурили, отказавшись купаться, сказав при этом, что воды боятся как огня. Темой общего разговора, как чаще всего среди молодежи и мужиков, стала армия, тем более говорить о другом при Гене было трудно.








