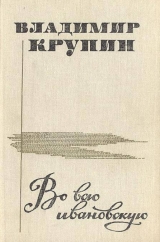
Текст книги "Во всю ивановскую (сборник рассказов)"
Автор книги: Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Пей чай, – пригласил Толя, – наводи шею как бычий хвост.
– Эх! – принимая приглашение, сказал другой Толя. – «Сорок лет коровы нет, маслом отрыгается». Эту-то знаешь ли? – спросил он меня.
– Память-то уж не молоденькая, может, и знал.
– А эту: «Штаны спали, штаны спали, потихоньку съехали, все колхозники на тракторе сбирать поехали».
Гена и тут не отстал. Он добавил тоже замечательную:
Мне не надо решета, Мне не надо сита.
Меня милый поцелует, Я неделю сыта.
– Ну, бляха медная, еще подумают, какие Чистопольцы, поют да пляшут. Но ведь не все же работать, надо и дыхание перевести.
Они увезли у нас все тяжелое – палатку, ведро, – и мы налегке шли домой. По дороге ели чернику, выбирали из зарослей брусники красные холодные ягоды, даже и земляничины алели в мокрой траве. Говорили о детстве.
– Может, ты меня осуждаешь, что я Гришке ночью поддал? Нет? Я на себя сержусь! Ведь это – рыбалка, ночевка на лугах – для нас было естественно. Что ты! Я год пропустил из-за этих лугов: «Бросить школу – и вольному воля – поревет и отступится мать…» А за Гришку испугался – не приучен. Я по две недели в шалаше один жил, а он пропадет. Случись чего – его больше жена не отпустит со мной, она и так меня к Чистополью ревнует. А что я без него?
Я спрашивал Толю о Петре, о Вите Колпащикове. Петро, узнал я, был знаменит еще тем, что отвадил от села приезжих с юга строителей.
– И хорошо, – заключил Толя. – Строили они быстро, рвали деньгу большую, а проходило пять-шесть лет – и их дома начинали трещать по всем швам.
Интересно, что Петро, мужик, живущий основательно, всегда с мясом, с техникой, собирался уезжать из села. Как и Витя Колпащиков, бывший заведующий клубом, изба которого была, по давнему выражению русскому, подбита ветром.
В селе была встреча с Петром. Он, не наладив связи, уезжал на луга, навербовав работников. Увезли уже вперед на «Беларуси» бочку пива. На том же тракторе была навешена роторная косилка.
– Погоду нельзя упустить, – говорил Петро, все уже зная про наш улов и ночлег.
– А связь?
– Война будет, так скажут. День ничего не решает, а сено уйдет.
– Телеграммы женам никак не можем дать.
– Поволнуются, так крепче любить будут, – отвечал Петро. – А накопят злости, дак приедете и обесточите. Так ведь? Дождут! Вы ведь не какой-нибудь цех ширнетреба, орлы! – И Петро умчался. И то сказать – у него были две коровы, телка, овцы.
Вернувшись домой, мы взялись за осуществление своей мечты – истопить баню. Но не сразу. Надо было сходить за хлебом, которого в селе из-за бездорожья не было три дня. Очередь двигалась медленно, но так спокойно, что стоять было не в тягость.
Вдруг Толя весь озарился и вывел меня на дорогу, а там повлек за собой к колокольне. «Да как это так, чтоб ты на ней не побывал!»
Колокольня была крепка и явно собиралась нас пережить, но лестницы внутри были расшатаны, а кое-где лишены ступеней. Поднимаясь впереди, Толя рассказал, что церковь разломали для кирпича. Рушить не давали, и что колокольня теперь передана лесничеству, как пожарная вышка.
Толя поднимался и читал:
Заметная на сотню верст, пожалуй,
Теперь уже безгласная, она,
Чтобы лесные упредить пожары
Лесничеству на службу отдана.
С нее мы даль оглядывали жадно.
И, не держась за узенький карниз,
Как ангелы, легко и безоглядно,
За горизонт неведомый рвались.
– И мы, школьники, помогали ломать, как ни горько, я надо в этом признаться, – говорил Толя, – а как было. Понадобился кирпич под фундамент для школы. Пригласили фотографа аз района, черные веревки развесили по стенам – сфотографировали, ну точно – вся в трещинах, аварийное состояние, надо ломать. Вначале тремя тракторами купол сволокли.
Я вспомнил, как в детстве в своем селе растаскивал кованую церковную узорную ограду на металлолом. За разговором мы поднялись на большую площадку, где Толя сделал остановку и, проверяя мои нервы и заодно вестибулярный аппарат, предложил обойти вокруг колокольни по карнизу. На карниз ветром нанесло земли, росла трава, даже, как подарок, показалась нам земляничка, росла крепкая береза, на другом повороте рябина, на третьем бузина. Медленно, перехватываясь руками, обошли вокруг и опять вступили на скрипучую лестницу.
На самом верху был ветер, закричали вороны, но, видя нашу невооруженность, замолчали. Толя показал направление к Караванному, к Горьковской области, леса которой синели на западе, рассказал, где какие были деревни. Сверху мы видели свой маленький домик и лужок на задворках, который следовало выкосить, видели дорогу, по которой приехали, я узнал Красное и дом, в котором позавчера мы веселились. Толя жалел, что в маленький приезд не успеть во многих местах побывать.
В магазине подошла наша очередь, мы набрали хлеба, взяли «горного дубняка», который только и был, ибо после бани полагалась ритуальная чарка. При выходе нас перехватил пастух Арсеня, которому Толя привез редкие лекарства, но не до этих лекарств было Арсене. Толя, выговаривая ему, все ж отсчитал просимую сумму, которая тут же была отоварена.
– На сутки хватит, – говорил Арсеня, – я помаленьку. Вот спасибо. Эх, товарищ, – говорил он мне, – жизнь моя прошла со скоростью поросячьего визга.
* * *
Анна Антоновна, ползая по борозде на коленках, полола. Я стал помогать, а Толя хлопотал с баней. У нас одинаковые матери, и легко было разговаривать.
– Свекор был, покойничек, злой на работу, но гордень-кий. Вот напеку утром блинов, раньше всех встану, говорю:
«Гриша, зови тятю!» Гриша зовёт. Тот молчит. Потом уже я сама: «Тятенька, пойдем блины есть». И так до трех раз. Уж только потом полати заскрипят. Еще до войны помер. А мой-то отец в войну. Когда Гришу убило подо Ржевом, как выжила с детьми – не знаю. Теленок – бычок родился, я, как чувствовала, не дала под нож, вырастила. Такой был сильный, два лошадиных воза в леготку тащил. Меня и без кольца слушался. С ним я в Ежиху на лесозаготовки нанималась, а дети одни дома. От этого быка корова у нас долго была, она раз Толю чуть до смерти не покалечила, на рог поддела. До сих пор заметно. А тогда, какие тогда доктора, везли двадцать километров, думали, не жилец. – Анна Антоновна разогнулась, заулыбалась. – Теперь и Толя, и все дети, и вся родня на врачей выучилась.
Скоро мы допололи грядку лука, и я пошел к Толе. Баню он сделал своими руками прошлым летом, она, по его словам, прошла самые взыскательные испытания.
– Крышу не рассчитал, очень конек высоко вознесся. Ты не находишь в архитектуре бани нечто прибалтийское? У кого какая баня, у меня осинова, у кого какая милка, у меня красивая. У кого какая баня, у меня из кирпичей, у кого какой миленок – у меня из трепачей.
Толя еще сказал ряд частушек про баню и связанные с ней события, но пусть он их сам попробует обнародовать.
Не успел я взяться за натаскивание воды, как явился Семен, земляк Толи, так он представлялся, и дело застопорилось. Семену хотелось поговорить с умными людьми, так как он и сам был не из простых.
– Кончил политех, занимаюсь внутренней начинкой предприятий соцкультбыта. – Так он характеризовал себя. Рассказал, что любит читать, любит добраться до смысла непонятных слов: – Например, что такое «одиозный»? А я выяснил. Также слово «меркантильный». Вот что это такое?
– Сеня, говори по-людски, а то мы, ничтоже сумняшеся, подвергнем тебя остракизму.
– Да, Семен, – поддержал я Толю, – поверь, что это не инсинуация.
– Тогда как вы оцените вчерашний пожар и отсутствие пожарного снаряжения?
– Так и оценим.
– Хорошо еще, что направление ветра было в противоположную сторону от жилого массива. Верно?
– Верно, Сень, ты давай затапливай, я еще дров подколю, воды наносим да и вымоемся, – распорядился Толя.
Но тут нас позвала обедать Римма Ивановна, сестренница Толи. Дом се был рядом, она жила со слепой теткой, одна. Римма принесла окрошку, квас, вареное мясо прямо в предбанник, где стоял маленький столик. Я притащил три ведра холодной воды, в ведра мы поставили «горный дубняк», квас, молоко, явился на столе мед, огурцы, лук, селедка «иваси», садовая клубника в блюде.
Пообедали, но не плотно, оставили место послебанному угощению. Толя занялся дровами, я водой. Семен стал затапливать. Вскоре дым обволок остроконечную крышу, Семен доложил, что дело сделано, и пошел сказаться теще, что будет с нами мыться. Толя предсказал (так и сбылось), что теща Семена не отпустит, а вооружит каким-либо ручным сельхозорудием. Я уже дотаскивал воду в котел, как белый дым повалил из дверей. Я их распахнул и понизу пролез к печке. Открыл ее – в ней было… пусто. Где же тогда горело? Оказалось, что Семен – деревенский выходец – затопил баню в отдушине трубы, в том месте, где были камни, кирпичи, накаляемые огнем для того, чтобы на них поддавать. То-то мы посмеялись. Переложили горелые поленья на место, и вода в котле, не прошло и получаса, закипела.
Кожа зудела и просила веника. Раздевшись, Толя хлопнул на камни полковшика. Из отдушины ахнуло пеплом и сажей, это было следствие Семенова усердия. Проветрили, вновь поддали. Баня держала пар на славу.
– Ложись, – приказал Толя и хлестанул меня чем-то жутким, будто теркой шаркнул по спине. Я взвыл и сверзился на пол. – Что? – спросил Толя. – Посильнее «Фауста» Гёте? Будешь знать, как баню описывать.
Толя хлестанул меня веником из вереска. А дал он мне урок оттого, что я в одном месте описывал баню и для пущего эффекта придумал, что парятся Вересковыми вениками. Вот я и был наказан.
– Мы же березовые ломали.
– Есть и березовые.
Попарились для первого раза немного. Закраснели и чесались места бесчисленных комариных укусов. Но когда мы опрокинули на себя по шайке холодной воды, стало хорошо. В предбаннике ждали Вадимка и Гриша и примкнувший к ним племянник Толи, Андрей. Мы их положили на полок, как карасей на сковородку, и хлестали вдвоем. Вадимка и тут сумел всех обхитрить – попал в середину, и ему не досталось ударов по бокам.
* * *
Попарив, оставили их мыться и пошли передохнуть. Слышно было, как мальчишки разговаривают. Узнать, о чем они говорят, было страшно интересно. Вадимка, как человек практичный, срывал с Гриши обещания принести пряников. Обещал за это дать такую подкормку, что вся рыба с озера должна была сбежаться к Гришиной удочке. Гриша, как человек городской и начитанный, отставал, конечно, от Вадимки в познании конкретной жизни, но не сдавался за счет знаний.
– Ребята, – говорил он, – а вы знаете, бронтозавров не надо бояться. Они трусливые, вот точно. На них крикнешь погромче, они убегут.
Толя изобрел веник, на который впору выдавать патент и который усиленно рекомендую, – две трети березовых веток, одна треть вересковых. Береза смягчает вереск, а тот, все же чувствуясь, дает прекрасный смолистый запах. Эффект мы ощутили при втором заходе так, что захотелось третьего. Но тут явился новый посетитель. Потом были еще. Кто со своей бутылкой, кто в расчете на нашу, и мы, как римские патриции, принимали всех в предбаннике в течение пяти предзакатных часов.
– Ты поживи, мы тебе покажем настоящую жизнь, – говорил Василий, дальний родственник Толи. – Вот Толя жил, и результат налицо, слушай: «На Угоре колокольня, кладбище, а дальше сплошь – за селом, за Чистопольем, в чистом поле ходит рожь». Все точно, нигде не соврал. Про многих сочинил, про Арсеню даже вывел, а про меня нет. Толь, ты чего про меня тормозишь сочинять? Смотри, помру, спохватишься. А ведь умру, Толь, умру в колхозной борозде. Ну, ребята, давай, ваше здоровье, мешать бане не буду. Баня, ребята, это – человек!
На смену ему явился одноклассник Толи Николай Федорович – я уже слышал о его мастеровитости. Он сам, почти в одиночку срубил дом с паровым отоплением, сделал теплицу, развел плодоносящий сад, выкопал пруд, запустил в него рыбу, которая жила даже зимой («к проруби подплывала, из рук кормил»), но, насколько я заметил, делал Николай не для накопительства, а от природной одаренности и нетерпения рук.
– Как там караси? – спросил Толя.
– Плавают, чего им. Породу вот улучшаю, нынче на Светлице наловил, запустил, пусть скрещиваются. Надо ли вам на уху-то, скажите? Или на лугах ведро оплели, дак пока сыты.
– Ты пока притащишь, мы уж проголодаемся, – поддел Толя в соответствии с чистопольским юмором.
– Да я.. – Николай рванулся к двери.
– Не надо, не надо.
Мы остановили Николая и уверили, что для нас лучше, если он попарится с нами. Тем более с таким изобретением – Толя показал веник.
Но Николай сказал, что только вчера топил свою, и, пока мы парились, он заменил воду в ведрах, чтобы молоко, квас и остальное по-прежнему было холодненьким. Поздравил нас с легким паром. Мы заявили, что пар действительно легкий, но не окончательный. Сели подкрепить выпаренные силы. Николай стал пытать Толю: помнит ли он, какие места были в окрестностях Чистополья?
– Где Пронина кулига?
– Да ты что! Проня мой прадед, чтоб я не знал! А где Крутая веретья?
– Спросил, – усмехнулся Николай. – А где Савкино репище?
– А скажешь, где Лебединое озеро, так отвечу.
– А где Круглое, где Бродовое? А Ореховое поле где? А Тихонин ключ? А Утопша? Вот скажешь, где Утопша, сдаюсь.
– Да там, где шалаши ставили.
Николай кивнул, и состязание прекратилось.
– Николай Федорович, – спросил я, – а твои дети все эти места знают? И вообще молодые. Знают?
– Где уж там все-то. Вон Толя молодец, я думал, бывает наездами, так выветрилось, нет уж, что вложено, то вложено. Толь, видно, тянет сюда?
– Еще бы! Я и Гришку сюда везу, чтоб знал. Нынче сам изо всех сил просился, ни на какой лагерь Чистополье не променяет.
– Пчелы вот только у вас, – посетовал я, – днем меня прямо в голову жиганула.
– Умнее будешь, – решил Толя как врач, – пчелиный яд полезен. Другой рад бы специально голову подставить, а тебе повезло.
– Это Фомихи пчелы, – сказал Николай, – Фома был жив, пчелы у него были как мухи, а помер Фома, и пчелы у ней стали как собаки.
Мы пошли по последнему разу. Поддали как следует на камни и кирпичи, и они при последнем издыхании, геройски раскалили банный воздух.
* * *
Перешли в клеть. Там стояла Толина гармошка, Николай взял и поиграл немножко.
– Толь, – как мне показалось, сказал с грустью. – Как ты мне дом помогал делать, помнишь?
– Как же. Те с двуручником дорожили, пол сошкантивали.
– Да. А потом ты сочинил. И про пол тоже. «И дрогнет он в свой час под каблуком, а я рвану гармонь-полубаянку, чтоб друг в последний раз холостяком спел и сплясал лихую «сербиянку».
Когда Николай ушел, Толя рассказал, что Николай его одноклассник только до шестого класса, а там ему пришлось идти работать – умер от ран отец и от туберкулеза старший брат. И Николай больше не учился. До всего доходил сам. Но жену выучил, она учительница.
Не было нам суждено отдохнуть в этот вечер. Явился за нами и с ходу заявил, что мы обещали у них побывать, Толя Бляха медная.
– Когда это обещали?
– А в Красное-то ходили, перед этим. Я ж говорил, туда могли бы не ходить.
– Туда сильней тянули.
Толя вздохнул и велел мне надевать красную рубаху.
– А ты, бляха медная, коз-то нашел? – спросил я.
– Нашел, покажу.
Я впервые видел оренбургских коз пуховой породы. Длинношерстные чистенькие красавицы с умненькими жующими козьими мордочками и каменно замерший черноглазый козел очень мне понравились, и этим я очень угодил Толе. Чтоб не путать, назову его фамилию – Смертин. Он муж другой Толиной сестры, тоже Риммы, еще в гостях была тетка Лиза, сестра Анны Антоновны, и Ольга, ее дочь с мужем Николаем, очень молчаливым, по фамилии – Русских.
И в этом застолье были песни, частушки, пляски. Как подарок были две старинные песни, которых я раньше не слышал и которые до сих пор в Чистополье пелись. Вот первая:
Девица, красавица, что, скажи, с тобой,
Отчего ты сделалась бледной и худой?
Иль тоска-кручинушка высушила грудь,
Или тебя, бедную, сглазил кто-нибудь?
На сердце есть кручинушка, сохну день от дня,
Сглазил добрый молодец бедную меня.
Полноте печалиться и тратить красоту,
Разве не найдется милых на свету?
Много в кебе звездочек, полон небосклон,
Много в свете молодцев, но они – не он.
Перед второй надо предупредить, что «герба» – это межевой столб.
Вы поля, вы поля, вы широкие поля…
Что во этих полях урожай был не мал.
Что во этих полях среди поля герба,
Как под этой гербой солдат битый лежал.
Он не битый лежал, сильно раненный,
Голова его вся изломана,
Бела грудь его вся изранена,
На груди его крест золотый лежал,
А в ногах его конь вороный стоял.
Уж ты конь, ты мой конь,
Развороный мой конь,
Ты лети-ка, мой конь, на Россию домой,
На Россию домой, к отцу-матери родной.
К отцу-матери домой, ко женушке молодой,
Ко женушке моло-о-до-ой…
Второй песне Толя не подыгрывал, ее спели без аккомпанемента. Потом пели шутливые песни, где уж вели дочери, а не мать. Например, подражая церковным распевам, вспомнили комсомольскую самодеятельную тридцатых годов:
Отец благочинный пропил нож перочинный —
Расточительно, расточительно, расточитель-но-о-о…
Поп Макарий ехал на кобыле карей, упал в грязь харей —
Омерзительно, омерзительно, омерзительно-о-о…
Монашенки молодые пошли гулять в кусты густые —
Подозрительно, подозрительно, подозрительно-о-о…
У богатого мужика дом с чердаком, у бедного кисет с табаком —
Несравнительно, несравнительно, несравнительно-о-о…
– Цыганочку мне! – требовал Толя-хозяин который раз.
– Да я уж их тебе целый табор наделал, – отвечал Толя-гармонист.
– Эх, Толя-Толя, огурчик ты мой малосольненький, – приговаривал Толя-хозяин, не давая снять ремень с плеча и не давая встать, командовал: —Зетцен зи плюх!
Уже за полночь засобирались.
– Ну, бляха медная, ни выпить, ни высказаться! Вы что, хотите без Есенина уйти, это не по-людски!
Спели: «Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь серебрист и светел…» – и с этой песней вышли на улицу. Восток начинал алеть.
– Эх, бляха медная, недогуляли, – огорчался хозяин, – терпеть ненавижу, когда спешат. Уж сами пошли, так хоть узду оставьте.
Унося в памяти это последнее, совершенно непонятное мне выражение, шли мы по спящему селу. Толя и Римма негромко завели песню:
Где эти лу-унные ночи, где это пел соловей, Где эти карие очи, кто их целует теперь?..
Римма простилась, и Толя на прощанье спел: «Покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот», а мне, сводя и застегивая гармонь, сказал:
– Надо выспаться, а то, в самом деле, «утро зовет снова в поход».
* * *
Петро наладил связь. Он после лугов вышел на линию, отмахал пешком чуть не сорок километров, но результат был налицо, связь работала. Толя позвонил знакомым врачам в райцентр Котельнич, и они обещали прислать машину. Звонили мы от Петра, взаимно жалея, что вместе не порыбачили. Петро весело говорил о той трехсуточной нагрузке, которая легла на него.
– Начальник базарит, мол, с опозданием починил. А работы там было на бригаду, и пришлось бы ее высылать, я и говорю: чего базарить-то, мы же все мужики, поработали – попили соответственно. Знаете ведь, парни, по себе, какая жизнь, как провода закрытые, – раскрываешь их и не знаешь, в котором месте стукнет. Я думаю, что я с этой работой обмандаринился и, конечно, уйду, но не сразу, я его доведу до молочно-восковой спелости.
– Слушай, Петро, а зачем тебе столько сена? Понимаю, что много скотины, но, может, поубавить. Она ведь вас заездит.
– «Ниву» покупаем, – отвечал Петро.
Толя рассматривал Почетную грамоту жены.
– Петро, у тебя разве Нине уже шестьдесят лет?
– Откуда? – воскликнул Петро.
– Смотря – в связи с шестидесятилетием за добросовестный труд. И еще не на пенсии? Оригинально!
– Да га что, это же в связи с шестидесятилетием СССР, – объяснил Петро, но понял, что розыгрыш Толи удался, и первый захохотал.
– Сам мясо на рынок повезешь? – продолжал спрашивать я.
– Ни в кои веки! Тут с этим просто, сейчас полно умельцев – шарят по сельской местности на своих машинах. Перекупщики. Берут на корню, все берут. И мясо, и ягоду, а уж мясо только сюда подай. Колхозникам же выгодно отдать больше, чем по закупочной. И с клеймением не возись, и со всякими справками от ветеринара. Тот еще начнет губы надувать, а то и не найдешь. А эти прохиндеи сами везде договорятся – и деньги из рук в руки. А потом уж с вас, горожан, они вдвое слупят. Это я вам точно предсказываю.
– Что?
– А вот что. Мужикам сейчас дали вздохнуть, кто пообористей и посильнее, тот и заживет. А перекупщики-спекулянты будут плодиться. А потом того, кто сильно меры знать не будет, налогом прихлопнут. Оно, может, и правильно – не хапай, ну, а кому-то и руки опять отобьют. Тут у меня, в этом суставе, – Петро постучал по голове, – есть кой-какие соображения.
Мы еще раз позвонили в Котельнич, и нам сказали, что машина вышла (к нашему счастью, был попутный врачебный осмотр), так что нам было пора собираться. Простились с Петром. Обещали приехать.
– Только застанем ли тебя в другое лето?
Петро засмеялся загадочно.
В деревне была встреча с Витей Колпащиковым. Расстегнутый, веселый, он ругал за что-то Фомиху, сидя, кстати, на ее же завалинке. Он радостно сообщил, что и не думает кончать ивановскую, что он домой еще не являлся и у него третьи сутки идет соревнование с поросенком. Кто выдержит и первый не помрет – поросенок без еды или Витя без сна, с одним только питьем и плясками?
– На которого, парни, ставите?
Толя стал выяснять, из какой древесины сделан хлев, арб который сейчас грызет поросенок, я, не сомневаясь, поста» вил на Витю. В благодарность за это Витя пошел с нами в магазин, сказав Фомихе загадочно:
– Вот ежели бы ты кончала СПТУ, тогда бы конечно, а так, чтобы вокруг да около, это не ремесло.
Фомиха на это не шевельнулась.
Мы взошли на прощанье на колокольню. Теперь я уже сам смотрел на окрестность как на знакомую.
На задворках, что за нашей баней, маленькая женская фигура вела прокосье. Что ж это мы, ведь хотели помочь. Спешно мы спустились с небес на землю и, надеясь, что машина не так скоро одолеет сотню километров, ударили в три литовки. Косить было приятно, но вот у края, у заплота, сильно рос репейник, и в конце прокосья будто был не сенокос, а лесозаготовка – такие толстые задеревеневшие стволы татарника и репейника приходилось перерубать. Конечно, надо бы было их корчевать, да где взять руки и время. Анна Антоновна, выйдя в огород, вынесла нам холодного парного молока. Когда мы закончили и обливали друг друга водой у колодца, она рассказала, что не могут найти теленка, который на пожаре бросался прямо в огонь, в хлев, конечно, он сбесился, и его теперь только стрелять.
Пообедали на дорогу. Слепая тетушка пришла по стенке проститься. До этого она крошила корм курам. Прибежал Вадимка, спросивший, едет ли с нами Гриша, обрадовался, что не едет, и ясно было, что он доволен грядущей полнотой влияния на городского братенника. Пришли сестренницы, но на минутку, у всех были дела, работа. Толя не позволял никому унывать, укладывал сумку и говорил: «Запевай, товарищ, песню, запевай, какую хошь. Про любовь только не надо – больно слово нехорош».
Машина снова, как и при приезде, не дошла до дома, мы вышли ей навстречу. Стояли на мосту через Каменку, водную артерию Чистополья. Вода была чистой, но мелкой, и серебряная монетка, которую я бросил, не успев сверкнуть, легла на дно.
«Колокольчик»
Было это на праздновании 600-летия города Кирова-Вятки-Хлынова. Но вот тоже сразу вопрос – почему шестисот-, а не восьмисотлетие? Не могу я поверить легенде, что шестьдесят ушкуйников создали огромную республику, с огромным населением, войском, управлением по типу новгородского веча, республику, ведущую переговоры с другими княжествами и, наконец, почти добровольно пятьсот лет назад вступившую в состав русского государства? А было времени республики почти триста лет. Сунулся я со своим вопросом к историкам, но мне дали понять, что открылись другие факты, что достовернее другое, то есть омоложение на двести лет, и вообще намекнули, что это их дело, историков, устанавливать даты, а рое, писательское, ковыряться в душах, хоть в чужих, хоть в своей собственной. Тут, может, сработала политичная мысль, что вроде не по чину областному городу быть вровень со столицей, хотя в те-то годы, во времена Боголюбского, чем была Москва? Сошлись мы с историками только на том, что наши вятичи выместили своими застройками язычников угро-финнов. То есть на месте Хлынова что-то стояло и до упоминания в летописях, а уж сколько этому чему-то было лет, никто не знает и не празднует. Но уж ладно, шестьсот так шестьсот, что для нас два века!
И вот в лето от рождества христова в Киров съехались гости. Выходцы из вятской земли были отовсюду, может, в этом и есть историческая роль Вятки – рассылать своих сыновей по белу свету. На пресс-конференции перечислялось столько знаменитостей, что уж никто бы не повторил слова Костомарова о Вятке, что «в русской истории нет ничего темнее Вятки и истории ее». В числе приглашенных были и члены Союза писателей, а в числе последних был и я.
В библиотеке имени Герцена, под ее знаменитыми пальмами, состоялся литературный вечер. Вдоль стен просторного зала стояли стенды с книгами участников, вырезки статей положительных отзывов о книгах. На одном из стендов книги немного потеснились, впустив и мою первую книжку.
* * *
Бел перерыва мы отсидели больше трех часов. Собратья по перу говорили о своей любви к городу Кирову, читали отрывки или стихи, ему посвященные. Пришло и мне выходить на трибуну. До этого я думал, о чем говорить. «Расскажи о себе, – посоветовал собрат, – тебя еще не знают». Подразумевалось, что остальных знают. Тут он похвалил мою первую книгу, она и в самом деле как-то быстро разошлась, о ней уже кое-где написали хорошие отзывы, несколько писем пришло от читателей: материнские рассказы, открывавшие книгу, передавались по радио, и туда пришли благодарности.
Начал я с того, что вятская земля не знала крепостного права, но почувствовал, что это известно, перекинулся на благодарность вятским женщинам, вообще на материнское начало вятской земли. В президиуме скрипели стулья. Зал был вежливее и терпел.
– Моя мама, – заявил я, – родила меня дважды.
В зале засмеялись.
– Да, именно дважды. Один раз как всех, другой раз как писателя. – Даже не заметив, что этими словами я выделил себя изо всех, я продолжал: – Как было. Шел с мамой на реку полоскать белье, это она шла, конечно, ну и меня взяла, и вот, шли мимо больницы, мама говорит: «Ты здесь родился». Я ничего не ответил, а когда возвращались, заявил: «Я здесь родился и еще буду родиться!» Мне об этом мама рассказала, когда я студентом приезжал на каникулы. Вот этот рассказ был первым из записанных материнских рассказов… К тому времени я кончал болеть детской болезнью прозаика – стихами, – добавил я, не подумав, что среди собратьев много всю жизнь пишущих стихи. Надо или не надо, но рассказал собравшимся о первой публикации, как мне велели и я пытался «высветлить» рассказы, но хорошо, что не получилось, как мама решила, что я публично ее опозорил, побежала на почту узнавать, кто еще получает такой журнал. Оказалось, никто. «Я же тебе только одному рассказывала, ты зачем записал?» Закончил я вводную часть выступления спорной фразой: – Но что есть писательство, как не публичный донос одного о чем-то или о ком-то для многих?
Далее говорил о книгах детства, как тяжело они доставались: чтобы записаться в библиотеку, нужно было сдать десять рублей, и вот мы собирали кости по оврагам, сдавали кости проезжим старьевщикам: тогда не было открытого доступа к фондам, а всегда казалось, что за прилавком книги самые интересные: как я все свои первые любви отдал девушкам библиотекаршам – на фоне книг они нанялись неземными. В этом месте, так как в зале было много работников библиотек, я сорвал аплодисменты. Словом, говорил сбивчиво, путано, но, как написали на следующий день в областной газете, «взволнованно и с большой любовью к вятской земле». Для чего-то сказал, что когда был маленьким, то меня, чтобы не уполз, клали спать в хомут. Тут видно, хотел усилить свое ямщицкое, по дедушкам, происхождение, то, что мы жили на конном дворе лесхоза и я много времени провел в конюховской. Первые анекдоты, услышанные мною, были на тему: ямщик и барыня. А то, что ребенок лежал в хомуте, я видел сам как раз в этой конюховской. Там жила большая семья конюха Федора Ивановича. Жена его положила сына в хомут, а я, кажется пятилетий, пришел с мороза погреться и вытереть сопли, увидел такое дело и, считая нормой русского языка все матерные слова, восхищенно сказал: «Ну, Анна, в такую мать, ты и придумала!»
После вечера редактор радиовещания пригласил записаться для передачи. Сговорились на завтра, с утра, так как в обед мы, разбитые на бригады, уезжали по районам.
Наутро я шел на радио, смутно вспоминая вчерашний вечер, который после официального вечера местные собратья давали приезжим. На нем говорили почему-то о проблеме, почему наше сельское хозяйство отстает по урожайности от частных хозяйств Запада, а так как сильно специалистов по сельскому хозяйству среди нас не было, поэтому отставание мы списали на характер русского землероба. Также досталось отсутствию дорог и сселению деревень, кто был за него, кто против, спорили азартно, будто кто спрашивал у нас совета: уничтожать деревни или сохранять? Но все время разговор возвращался к характеру землероба. Кто признавался, что не знает его, кто заявлял, что там и знать нечего, ссылки на авторитетные мнения летали над богатым столом во всех направлениях: бывавшие за границей пробовали провести параллели, но зря трудились: там, где ожидалась логика, было пренебрежение загадочного характера, расчет заменяла догадка, там, где в руки этому характеру шла явная выгода и надо было только шевельнуть пальцем, шевелить пальцем он не хотел, заменяя ответ на все упреки и доводы бессмертной формулой: да ну и хрен с ним! Как понять его, сокрушались инженеры душ, как? Но все же мы решили, что поймем и отобразим, нас много и становится ДО все больше, – и вот, вспоминая вчерашний вечер и постепенно оживая, я доплелся до студии, где редактор запер меня наедине с микрофонами в звуконепроницаемой комнате. Редактора я видел через стекло. Договорились, что я по своему выбору прочту два небольших рассказа.
Прочел.
Редактор пришел в комнату, полистал книгу и ткнул пальцем в две так называемые лирические миниатюры.
– Это плохо, – сказал я, – проба пера. Нагонял объем.
– Прочти, прочти, – велел редактор и снова запер дверь.
Я попил воды и прочел. Меня отпустили.








