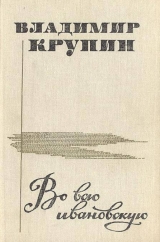
Текст книги "Во всю ивановскую (сборник рассказов)"
Автор книги: Владимир Крупин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
– Увидеть бы хоть раз.
– Только на вскрытии. Самое прочное, что есть в любви, теплота сердца, хотя выражать ее мешает рассудок. Ну, будем ссориться?
– Неужели он сейчас ведет с ней такие же разговоры?
– Непременно! А так как он начитаннее меня, то читает ей стихи Василия Федорова: «До всенародного признанья пути заведомо трудны. Поэт обязан быть в изгнанье хотя б у собственной жены».
– Я просто поражаюсь, насколько он жесток. Иногда я ужасаюсь, что я и сама служу объектом его наблюдений. Ты сейчас скажешь, что самая доступная натурщица – это жена, знаю. Но он не рисует, он использует меня как доказательство своей концепции.
– Прочти маленький рассказ Нормана Мейлера «Записная книжка». Он тебе его пересказывал?
– Нет.
– Странно. Рассказ этот многое объясняет. От писателя, не выдержав всего того, на что ты жалуешься, уходит жена. Все ему разгневанно высказывает. Он слушает, смотрит и думает, что какой бы прекрасный мог выйти рассказ – от черствого, не понимающего женскую душу человека уходит жена. Какие у нее слова, думает он, их можно найти только в минуту страсти, надо запомнить, думает он, надо записать, а то забуду. Он даже не понимает, что жена уходит всерьез, он и тут поглощен своей проклятой работой. Видишь. Так что, если ты и выкидывала какие номера, он не принимал их за настоящие, хотя переживал страшно.
– Ничего, я однажды проучу его как следует.
– Не смей! Писательство есть обреченность, а писательская жена – жертва. Счастье ее в полной растворенности в деле мужа. Только так. Это единственное. Уверяю, что он работал бы в два раза больше, если бы ты больше думала, как ему помочь. А помогают не обиженным молчанием, не истериками, а ласковостью и добротой. Помни Анну Григорьевну.
– Да что вы все – Анна Григорьевна! Стояла она у плиты? Душили ее в автобусах, электричках?
– Вспомни тогда Гоголя – обращение его к русской жене: гоните мужа к его делу, делайте все, чтобы он как можно больше свершал пользы для отечества.
– А ты уверен, что мой муж свершает пользу для отечества?
– По крайней мере старается.
– Я и делаю все для этого. «во
– Если б ты делала все, так бы не говорила, а подумала бы, что делаешь мало.
– Мало! – взвилась женщина. – Да я нахожу в себе силы прощать его, да другая бы…
– Ну, ну, ну, какая другая, ты ж не терпишь сравнений с другими. А другой бы на его месте давно бы не стерпел напрасных упреков.
– Напрасных! – Она даже уперла руки в бока, собираясь наступать. – Равнодушие, глухота, постоянные отъезды! Я нахожу силы прощать его! Он ценит? Не ценит совершенно. Какие еще жертвы потребует его милость?
– Какие бы ни было, нельзя ждать награды. Жертве уже одно сознание, что она принесена во имя любви, помогает быть счастливой.
Женщина не слушала меня, и легко было представить, каково ее мужу, если меня, любимого, ни во что не ставят с моими доводами. Она продолжала:
– Кто еще будет так прощать его выпивки, равнодушие к семье, а давно ли мы выкарабкались из нищеты, чулки не на что было купить?
– Для творческого человека время денежных трудностей неизбежно.
– Пусть так. Я душу ему не мотала, не тыкала тем, что другие питаются с рынка и не стоят в очередях по полдня.
– Ты прямо гордишься тем, что прощаешь за то, что он сам себе простить не может. Это жестокость, а не подвиг прощения.
– Он пишет одно, а живет по-другому.
– Пример?
– Ругал в статье пьянство, получил огромную почту… И уверял меня, что не может вынести всего ужаса, который открылся ему.
– Он, думаю, и писал статью, чтоб и себя избавить от болезни, и кто лучше знает болезнь, как не переболевший, а почта, могу себе представить эти искалеченные судьбы, о которых он читал, они же на душу его ложились, те, кто исповедовался в письмах, уже получали облегчение. За счет чего? За счет того, что он взял их на свою душу, отяготил ее. А им стало легче. А ему как избавиться от тяжести? Ты поняла это? Нет, ты только и видела, что человек выпил. Эту тему давай закроем, а то он у тебя запьет только из-за тебя. Милая, мне самому многое неясно, но знаю по опыту – нельзя выяснять отношения. Это их ухудшит.
– Все, договорились до точки. Спокойной ночи.
* * *
Утром мы пошли в армянскую деревню за яблоками. Это, скорее, был просто предлог, женщина мечтала о прогулке. Как и не было вечернего и ночного разговора, женщина была веселой, даже пела, что случалось с ней не чаще раза в месяц.
– Вот тебе мое наблюдение, – весело говорила она. – На пляже уединяются млн влюбленные, или одиночки. А лишенные любви…
– Лучше скажи – не любящие.
– Пусть так. Они не переносят ни одиночества, ни зрелища чужого счастья. Тебе это пригодится?
– На тот случай, когда из-за пустяка разойдемся по разным комнатам?
– Хорош пустяк. Это ведь ты вчера завел разговор.
– Нет, все из-за тебя, ты не находила отводов на мои доводы и, чтоб не сознаваться в этом, выдумала обиду. Это в основном женская болезнь – никогда не чувствовать себя виноватой. А так как вина есть, то совесть действует на нервы, и начинается неврастения.
– Тем более надо ему сказать: разве можно жить с неврастеничкой? Кстати, он все делает для того, чтобы загнать меня в психиатричку.
– Успокойся, там очередь на пять лет – неврастенией сейчас больна половина женщин и треть мужчин. Считается, что признаться в этом стыдно, хотя лечат же грипп, а он более некрасив в проявлениях – сопли, красный нос, глаза слезятся, горло хрипит… Ладно, сдаюсь. Итак, почему, милая, вы с мужем похожи на журавля и цаплю, которые все ходят друг к другу, но никак не сойдутся, так как никто не хочет смирить гордыню?
– Инициатива должна исходить от мужчины.
– Да. До женитьбы. Но если она произошла и жена и муж стали «едина плоть», то тут должно быть равенство. Ты все ждешь, когда он тебя приласкает, да позовет, а ты еще поломаешься, да еще все ему выкоришь под видом того, что он с тобой не разговаривает и тебе негде поговорить, кроме как в уединении. Он не железный, он тоже тепла хочет. Чем больше отдашь, тем больше получишь – не нами сказано.
– Как осточертело твое начетничество. Смотри, как хорошо в лесу, как смешно – прямо на тропе растут грибы, и все время тянется этот мандариновый сад, и на каждом дереве по сотне мандаринов. Под персиковым деревом лежат свиньи, и персики падают им прямо перед мордой. Идем сквозь тоннель из голубых виноградных гроздьев… чудо!
– Благословенный край, в газетах которого без конца печатается о семейных драмах, хроника из зала суда, о кражах и ограблениях… Ты сказала о наблюдениях на пляже, а вот наблюдение коридорной, Лейлы, только я не знаю, абхазка она или грузинка. Считает, что все белые женщины с Севера развратны и едут к ним развращать их мужчин.
– Их и развращать нечего, им только покажи светлые волосы и полноту. Ты когда ходишь со мной по рынку, с меня спрашивают гораздо дороже, а когда я одна покупаю, дают почти даром, правда, требуют свидания.
– Ты говоришь, чтоб я возревновал?
– От тебя дождешься. У тебя сейчас у самого жена ушла в горы с любовником, хотя у нее слабенькое сердце, – поддела она. – У меня тоже не из сильных, но какова любовь! Ты даже не интересуешься, как я переношу высоту.
– Я вижу, что хорошо. Посидим?
– Новая теория?
– Да. Выстраданная по твоей милости.
– Излагай. Только учти, я могу не слушать. Здесь и так хорошо.
– Теория выстрадана веками, она гласит: женщина, знай свое место. В данном случае вот твое место. – Я подстелил ей куртку, которую тащил в руках. – Но почему же женщины занимают несвойственное нм место?
– Я встану с этого места.
– Сиди. Почему ты считаешь себя несчастной, когда ты счастлива?
– Ого!
– Не ого, матушка, а именно счастлива!
– Сейчас – да. Но с ним, какой он бывает, увольте!
– Бывает. Сама сказала – бывает. Значит, не все же время. Дети, тревога за них постоянна, но вот обнял за шею сын, вот подошла и спросила совета дочь – разве не теплеет в груди?
– Но вот подошел он и подбросил туда ледышку.
– Зато тепло ощутилось сильнее. Подожди, не сбивай. Почему так необыкновенно возвеличена женщина в искусстве? Бумаги, холста, мрамора, кинопленки затрачено на мужчин меньше, чем на женщин. Публика так воспитана, что покажи ей фильм без женщин, – будет смотреть? Вопрос: кто движет прогресс, науку, искусство? Мужчины.
Вклад Софий Ковалевских ничтожен, в скобках: при самом хорошем к ним отношении. А из-за кого начинаются войны? Из-за кого льется кровь, кого не поделили в Древней Греции? Город? Территорию? Яблоко? Красоту не поделили. Но ведь сказано, что простая лилия прекраснее царя Соломона во всей его царской одежде. Сравнить ли красоту лица женщины с восходом солнца?
– Это обо мне? А ведь и я создана по образу и подобию…
– Нет, это как раз о мужчине. Сейчас главное. Мужчина наделен жалостью, разумеется порядочный мужчина. Как твой муж, например.
– Лучше пример из истории.
– Рафаэль. Умер от любви.
– Это моему мужу не угрожает. И что же Рафаэль с его жалостью?
– Не обязательно он. Любовь – прекрасное состояние, вызывающее приток сил, а они у талантов уходят на творчество.
– Я думала, на любовь.
– На творчество. Но порядочный творец, чувствуя вину перед женщиной, которую любит и которой приходится делиться с его работой, воспевает ее, чтоб ей не было обидно. Как ни велика любовь – работа захватывает.
– Или друзья, или поездки.
– Это в интервалах.
– Значит, женщин воспели от чувства вины перед ними, а женщины вознеслись, так?
– Именно так. Воспеты идеальные женщины, которых нет, которые воображены любовью художника, к этим идеалам надо стремиться, а женщины вообразили, что они такие и есть. Что они – предмет поклонения, культа.
– А разве нет?
– Нет. Они – предмет опустошения физического и духовного, они могут убить за любовь, и это даже возносится многими рисующими и пишущими. Жрицы любви, храмы (название какое). храмы любви – все во имя плоти, которая прикрывается духовным словом – любовь.
– Уж теперь тебе точно от меня ничего не дождаться.
– Вернемся. Только проследить бы за этими жрицами, где они кончали свою жизнь, уж, верно, в походных домах терпимости, которые тащились сзади войск, например, Александра Македонского.
– Значит, продолжают род людской низшие существа?
– Продолжают жены, матери, а они уже по одному этому не могут быть ни в чем упрекнуты.
– Но и вдохновлять не их дело, так?
– Доказать тебе что-либо трудно, но поверь – все женские обиды оттого, что они ждут от мужчин больше внимания, чем те могут его дать. Но обещали в начале знакомства, в расцвете любви. Ты вспомни своего мужа в его первой влюбленности в тебя, в первые годы жизни, вспомни!
– Что мне вспоминать, я это непрерывно помню. Мы часами не могли наговориться, какие букеты он приносил. Раз зимой принес огромную, всю в инее ветку. По балконам лазил. Какие безумия мог вытворять ради меня!
– Значит, ты выходила замуж за безумца?.. Гордись, ты вызывала такую любовь, значит, и ты была ее достойна.
– Если бы не те воспоминания. А его письма ко мне! Когда бывает ссора, достаю их, и мне легче не сердиться. А иногда и тяжелее, иногда кажется, что он все лгал.
– Нельзя же лгать так долго. Да и обмануть тебя невозможно. А любящее сердце в особенности.
– Я не говорю, чтобы он был такой, как вначале, но все-таки и не такой же, какой стал.
– А работа какая!
– Все равно можно сохранить внимание, заботу. Или и это угробит искусство?
– Так он же любит!
– В чем это выражается?
– Но ты же знаешь, что любит?
– Не уверена.
– Без конца тебе о любви говорить?
– И это тоже.
– От частого употребления слова стираются.
– Не эти. Любит! Хорошенькое – любит, если так обижает. Я люблю, чего мне притворяться, но чем больше любовь, тем больше обида.
– Это в корне неверно. Обиды изнуряют любовь.
– Правильно, изнуряют, это ты ему скажи, зачем же он обижает?
– А ты прощай, и обиды прекратятся.
– Не всякую обиду можно простить.
– Во-первых, всякую, во-вторых, он сам мучается, в-третьих, он и обижать-то не может. Ты считаешь за обиду его якобы равнодушие, а ему просто некогда, он занят и тому бесчисленное подобное, но сердцем, но памятью он всегда с тобою. Обиды разъедают согласие, их мстительно копят, их помнят, они переходят в злопамятство, а это страшно.
– Страшно беспамятной быть.
– Помни хорошее.
– Я помню и хорошее, только как забуду плохое, если я его постоянно ожидаю.
– Это уже болезнь.
– Он меня специально доводит. Ты вчера говорил – две трети неврастеничек. Да все мы ненормальные из-за вас.
– А мы из-за кого? Из-за международной обстановки? Да перестаньте вы нервничать, и весь мир успокоится – обратная связь сработает. И темы искусства облагородятся, а то сплошные репортажи из горячих точек планеты. От такой тряски искусство идет такое, что действует опять-таки на нервы, а не на душу. Нервы еще больше расшатываются, обстановка накаляется.
Она засмеялась. Мы были довольно высоко. В проемах деревьев показывалось и исчезало море. Странно, что мы никак не могли подняться вровень с ним, хотя, если верить географии, были выше уровня моря. А если верить глазам, то ниже. И от этого хотелось идти выше и выше. Может, еще и в этом причина страсти к высоте. – Но мне больше по душе были слова одного мудрого человека, которого звали в горы. «Зачем?» – «Просто так». Он взял у подножия горы камень. «Видите?»
– «Да».
– «Так вот, он на вершине такой же».
– Давай еще посидим, – сказала она. – А пока расскажи о ней. Неужели уж она вся такая, как я?
– Копия ты: уставшая, мнительная, пропадает от характера. У всех жены – у меня учительница, это моя горькая шутка. Жены копят к субботе стирку, моя тетради и стирку. Я для нее ученик, только постарше ее. И ей странно, что она, легко справляясь с сорока учениками, не может справиться с одним. Вины своей, я уже тебе и это говорил, никогда не признает, отлагательств не терпит, если велит что-то сделать, например, дочери, та должна кидаться немедленно, иначе она начнет делать сама: а дочь в это время занимается другим, и ей нужно время на переключение. Меня упрекает, что ее не люблю…
– Ты ее действительно не любишь.
– Не могу же я быть любвеобильным, если я тебя люблю, мне этого хватит и в сем веке, и в будущем. Считает, что плохо отношусь к ее родителям, а у нас прекрасные отношения, родной сын бывает у них в три раза меньше. Ну и так далее. Не было денег – страдала, появились деньги – страдает…
– Это ты ее довел до того, что она не уверена в завтрашнем дне.
– В нем все не уверены. Кто знает, что завтра будет. И нечего заглядывать. Живут сейчас, а не потом. Если не радоваться рассвету и дню, то ждать от заката нечего. Что впереди? Что у всех впереди? Единственное, что всех уравняет, – смерть. Я говорю с тобой, а из головы не выходит рукотворный образ Спасителя. За одиннадцать веков он видел почти двадцать поколений. И вот вчера посмотрел на нас. Тут я сам многое не понимаю, но хотел выразить, что не верю, что мы свободны от влияния ранее живших. Даже не рождением, это не от нас, это данное, а тем, что мы должны улучшаться, а мы ухудшаемся. Сводим счеты, поедаем друг друга, от сплетен гибнет больше, чем от рака…
– Нет, нет, это ты ее довел.
– Это она меня довела.
– Змею загони в угол – она начнет бросаться. -
– Не сравнивай мою жену с гадом. А ты мужа не довела?
– Специально. Он писатель, обязан отражать все разнообразие жизни, я ему и показываю разнообразную жизнь. Он всегда говорит, как вредно действуют на прозу и поэзию дачи из слоновой кости. Пусть на него благотворно действует наша пятиметровая кухня, смежные комнаты, Дарьяльское ущелье коридора. И нечего тебе жаловаться на свою жену.
– Не жалуюсь, а рассказываю. Сама просила. Она не терпит вторых ролей в семье, а я с характером. Но я-то муж. А разве она смирится? В борьбе за первенство она теряет силы, а так-то бы с чего, ей уставать?
– С чего? С тревог за тебя! За твою работу! За свою работу! За детей! За родителей!
– Я-то середняк, но вот как ты не бережешь своего талантливого мужа, история тебе не простит. Сервантес велик, но жена его из дому выгнала и собачьей похлебкой кормила. А ведь горит теперь ее душа грешная. Ой, прости, посиди там немножко. Надо запомнить этот свет, этот пролет пространства и тебя. Да, милая, я воспою наш южный роман. Это твое прекрасное тело омывали волны Русского моря, так называлось Черное море в давние времена, это твои милые глаза смотрели, как утром из-за камышей взмывает солнце. Это в твоих ладонях сверкали капли морского ночного сияния. Это твои губы так редко меня целовали.
– Радуйся и этому. Ему и этого не достается.
– Опять гордыня. И для моей жены уступить – значит но простить себе. Мудрость русской народной сказки о жене, для которой «что муж ни сделает, то и хорошо», непонятна пока моей жене.
– Да и мне непонятна, ведь жизнь-то не сказочная.
– Но мудрость-то жизненная. А мужик между тем, уйдя на рынок продавать корову, вернулся лишь с иголкой.
– Значит, баба глупая.
– Любящая и мудрая – разве на тот свет что можно утащить?
Женщина встала, съязвив при этом, что я перестал любоваться и запоминать свет на ее лице. Мы пошли еще выше вдоль обрыва, который становился все отвесней и скоро превратился в пропасть.
– Пропасть, – сказал я.
– А сменить ударение и будет: пропасть, – сказала она.
– У тебя вообще черный юмор, – рассердился я. – Плыли… Когда? Позавчера, еще до концерта, попали в холодное течение… Ты что сказала?
Она засмеялась:
– А что, неплохо сказала: на дне еще холоднее.
– Или: ты плыла без меня, я и не знал, что ты за мной плыла, так далеко ты еще не плавала, вдруг кричишь. Господи, как я перепугался. Волны, ветер, кричу: отдыхай, отдыхай! А ты потом говорила, что я кричал: подыхай, подыхай. Это юмор?
– Отсюда брякнуться – и следов никаких. Да?
– Отойди от края.
– А в каком это фильме влюбленные вместе бросаются в пропасть?
– В фильме же все рассчитано на воздействие, в жизни за месяц нет столько трупов, сколько в каждом почти кино. Твой муж мне рассказывал, как он работал с режиссером и как тот требовал от него не просто убийства, но убийства изощренного. «Убей его с выдумкой, – кричал режиссер, – ударь обывателей по нервам, пусть проснутся (это он в целях обращения обывателей к заботам об отечестве, по бедным обывателям уж столько раз ударяли по нервам, что они отупели), убей!» Не рассказывал? Это он кричал в деревне, куда твой муж уезжал работать. Старуха – хозяйка дома – чуть с ума не сошла. Приехал ведь из мира искусства и кричит: «Убей!»
– Рассказывал. Конечно, какая изощренность, в жизни псе проще, вот оступиться – и все.
– Отойди от края. Иди с этой стороны, слышишь? Рассержусь.
– Скажи, но только честно-честно, жене можно было солгать, но не любимой, ты меня любишь?
– Да.
– Скажи: ты хотел когда-нибудь, чтоб твоя жена умерла?
– Нет.
– Даже когда доходило до развода?
– А дети?
– Что дети? Они уже большие, да и нужны ли мы им будем? Вон Васса Железнова ради детей мужа умертвила, а чего дождалась? Я знаю, муж мой рад бы был моей смерти. Если б не ты, а он со мной купался, уж точно бы подплыл да сделал бы такую рожу, что у меня бы и руки и ноги отнялись. И никто бы не был виноват.
– Ты больная. Тот экскурсовод, помнишь, говорил о смеси горного и морского воздуха и о том, что нервы здесь вылечиваются в три дня, а у нас скоро полный срок.
– Да, скоро заказывать такси, скоро в аэропорт.
– А в нем я страшно боюсь столкнуться со своей женушкой, ее вспыльчивостью, способностью при посторонних кричать на детей, меня, ой, а там дом, работа, там ее разговоры о деньгах, ну и так далее.
– Я еще больше твоего боюсь встретиться со своим мужем, с его черствостью, равнодушием. Он сядет разбирать почту, и уже не мой, не семьи, потом он должен ехать подряд в два места, запустит все дела, я буду во всем, даже в его делах, виновата. Кстати, о кино, он расплевался со студией, так что и денег не будет.
– Мы говорили уже об этом – растворись в его деле, оно не ложное, ради меня нельзя ничем жертвовать, но в нем дар, который надо спасти.
– Будет целыми днями брюзжать, что ему не работается, когда я дома, а когда меня нет, спрашивать отчета, а ты говоришь – смесь воздуха.
– «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен…»
– Стыдно! Пушкина не знаешь. Не в заботы, а в забавы.
– Да уж какие забавы, сплошные заботы. «Молчит его святая лира, душа вкушает сладкий сон…»
– А моя душа что вкушает?
– «… и средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется как пробудившийся орел!» А тут ты со своими заботами.
– Но не с забавами, а с заботами!
– Не в это же время!
– Я устала угадывать, это время или не это. Пусть живет один.
– Но он не может без семьи.
– А семья с ним не может.
– Почему?
– Он меня не любит. Я нужна ему иногда как вещь на полчаса, час, и он снова чужой.
– Вздор. Мы что, снова пойдем по кругу этих взаимных обид, выяснения отношений?
– Вот что, милый. Я выслушала все твои теории и лекции. Спасибо, что ты мне сказал о значительности моего мужа и о моей ничтожности, я это знала. Иди обратно один, иди, не жди. Прошу.
– Мужчины любят сильнее и глубже, физически они устроены проще, но не душевнее. Нет статистики, но поверь, что очень много самоубийств из-за любви именно юношей. Кто кого не дожидается чаще всего, когда парень служит в армии? Девчонки. Им страшно не выйти замуж, при выходе ими руководит чаще расчет, чем наоборот. Кто сидит в колониях? Молодежь, в основном мужчины. Из-за кого? Из-за женщин. Кражи, драки, пьянство – корень их в женщинах. Все блатные песни полны горького упрека той девушке, которая довела до арестантов…
– У-хо-ди.
– Вопрос: какие женщины.
– У-хо-ди. Ты ничего не понял ни во мне, ни в себе.
– Ты из тех, которые спасают, а не губят. Из редчайших жертвенных натур, почему же ты…
– Мне плохо, ты не видишь – мне плохо? Уходи.
– Как я уйду, если тебе плохо? Ничего себе логика.
– Стой, мне ничего не надо, я прекрасно себя чувствую, «во и у меня даже прибавилось сил. Наша игра довела меня, именно меня, до этой пропасти. Вернуться к тебе, к нему я не смогу. Мне было хорошо с тобой, я тебе очень благодарна, что ты эти три недели был ласков, внимателен, хотя бы три недели. Мне было так хорошо, что я точно поняла, что лучше мне никогда не будет. Вернуться в жизнь, которая есть непрерывная каторга души, – нет!
– Ия тоже не хочу жить, как мы жили. И ты не хочешь!
– Ты ничем не хочешь жертвовать, а требуешь жертвы, ты ни в чем не уступаешь, а требуешь уступчивости, ты жесток, а требуешь ласки.
– Это не я, это моя работа, она требует меня всего, и я обязан ее делать хорошо. Да, в том числе и за счет твоих нервов и крови.
– У меня больше нет ни того, ни другого. У меня единственная и последняя просьба, выполни ее, если любишь. Когда-то ты ради меня мог многое. А моя просьба очень простая. Сегодня ты собирался в город, и все это знали, в горы мы пошли внезапно, нас никто не видел. Отсюда ты пойдешь на рынок и сиди там в пивной, там такой народ, что все скажут, что ты сидишь с утра.
– Пре-кра-ти! Сохрани себя для него!
– Для кого? – закричала она. – Хватит играть в него и в нее! Ты все рассчитал заранее, когда предлагал мне роль возлюбленной. Чтобы воспитать из меня наседку, домработницу, да еще уверить ее, что она любима и обязана быть счастлива.
– Посмотри на писательских вдов. Когда я работке издательстве, я на них нагляделся. В Союзе писателей даже огромный по количеству Совет писательских В
О чем они говорят? О том, что дуры были, что свое дело казалось важным, а важное-то как раз было дело мужчин. Хочешь их путь повторить?
– Не повторю. Я тебя не переживу.
– Какое мы имеем право говорить о том, кто раньше умрет? Кто когда умрет, это единственное, что никто знает.
– Я знаю. Я договорю. И посмей только перебить меня знаешь. Я босиком по снегу бежала за тобой, помнишь
– Да.
– Так слушай. Мне было с тобой хорошо как никогда! Я даже помню, как светились твои глаза, помню, как касалась меня твоя рука, как билось твое сердце, с этим… нет, да лучше б этого не было, я хотела сказать, что с этим легче у ходить, нет, трудней.
– Я тебя свяжу и утащу на спине.
– Смешно. Я люблю тебя, ты вырвал это признание…
– Но и ненавидишь?
– Но и не понимаешь. И никогда не поймешь. Ты смотришь на меня как на материал для своих работ, ты говорил, что все женщины, которых ты описывал, это я в различных проявлениях, я думала, ты шутишь, нет, это правда. Но это ты заставлял меня в угоду своей работе быть разной, я не такая. Ты делал со мной что хотел, я устала. Выгорела до черноты. Эти слезы, эти бессонные ночи… нет, ты не поймешь, тебе это не дано, ты не переживай, в тебе нет этого качества, ты не виноват. Я материал, я актриса, которую ты ставил в разные обстоятельства и заставлял импровизировать.
– Я говорил вообще о женщинах. Ты – женщина в высшем женском развитии ума и красоты. Интеллект и тело враждуют, но в тебе они слитны. Предлагая перед отпуском назваться возлюбленной, я такой тебя и считал. Но свои теории говорил во-о-обще о женщинах. —
– Каждая женщина – исключение, и я – исключение.
– Но есть же общие вещи. Еще Шекспир вам пытался вдолбить…
– Очень хороший глагол.
– Он говорил, что ваша сила в вашей слабости. И эту фразу вы также взяли на вооружение, но орудуете ею с такой агрессивностью, что…
– Кто мы? Ты говоришь со мной.
Я обнял ее, пытаясь успокоить, но ничего не вышло. Тогда я насильно попытался ее поцеловать. Она вырвалась и захохотала:
– Кто же агрессивен?
– Я люблю тебя, и давай прекратим все это.
– Как же прекратишь, если ты не меняешься? Твоя работа, твое состояние, твои друзья, твои дела – с кем еще делиться тобой? Ты был цельным, ты распылился. Тебя растаскали по мелочам. Ты говорил, что любишь меня? Повтори.
– Я сказал это минуту назад.
– Мне показалось, что послышалось. Мне каждый раз кажется, что послышалось, что мне достаются отголоски пережитого тобой!
– Разве то же не говорят мои письма, вот этот перстень, который был куплен о тяжелейшие денежные времена? Это было безрассудство, но он тебе нравился, и ты его любишь… больше меня. По крайней мере, ты за ним ухаживаешь. А я смотрю на эти часы, я живу по твоим часам.
– Как красиво! Дай их сюда.
Она взяла у меня часы, стащила с пальца перстень.
– Поцелуйтесь на прощанье, – сказала она, стукая перстень о стекло часов, а затем забрасывая и то и другое в пропасть. – Это тебе пригодится? Как факт, как деталь рассказа о последних минутах истерички. Еще запомни этот дуб, обвитый прекрасным плющом. Плющ – видишь? – задушил почти все зеленые ветви, только одна осталась, и, если плющ не умертвить, дуб погибнет. Это несправедливо с общечеловеческой точки зрения. И как показательно сравнение женщин с плющом, а мужчин с дубом, не так ли?
– Так, так. Пошли обратно.
– Ты что, в самом деле ничего не понял? Ты идешь обратно один. Но после того, как поможешь мне. Я боюсь смерти…
– Ее все боятся.
– Если бы! Мы пойдем, я слева, и у поворота, где было очень узко, ты повернешься влево чуть резче, чем нужно, и все.
– Ты меня сделаешь заикой. Пойдем.
– Не приближайся! Если будешь хватать меня, я прыгну отсюда. Но здесь осыпь, я просто сделаюсь калекой, а это тебе в обузу. Надо наверняка.
– Ну, знаешь!
– Тебе нечего сказать, милый! Переживешь, переживешь! Ты переживал мои болезни, умирания, слезы, и на протяжении стольких лет, а это недолго. Ты даже не связывайся с поисками, не твои ли слова: «Где труп, там соберутся и орлы»?
– Не мои.
– Я даже не знала, что становится так хорошо и спокойно после принятого решения. Видишь, я бы прыгнула и сама, я бы пересилила страх…
– Но дети!
– Зачем им мать-истеричка?… Я бы пересилила страх, но я боюсь того, что самоубийц нельзя поминать, это страшно. Мне бабушка говорила.
– А меня ты хочешь сделать убийцей?
– Да это же нечаянно у тебя получится. Ты всегда, когда шел рядом со мной, был не со мной, ты не думал обо мне, так и сейчас. Ты мог уходить вперёд и даже не хватиться меня. Вот и вспомнишь попозднее. Потом у тебя будет время для раскаяния. Надеюсь, что эти чувства будут подлинные, и благодарные читатели это почувствуют. Найдется потом и понимающая, не изношенная, которая и поймет, и утешит, у нее хватит сил тащить на себе мою ношу. А я под ней падаю. Упала уже. Осталось только упасть последние – сколько тут? – сорок метров.
– Прости, но, зная тебя, мне остается сказать только одно: ну и прыгай. – Сердце у меня колотилось, виски стиснуло. – Только и ты запомни детали – я седой человек, я поседел не с кем-нибудь, а с тобой, у меня совсем не прежнее сердце, а! – оборвал я себя.
– Да ведь и я не девочка!
– Но ты бы и без меня не осталась юной. Ты думаешь, отталкивая меня, что-то сохраняешь в себе – уничтожаешь! Я-то старею без грусти, даже с радостью, к старости не пристают соблазны. Я говорил тебе вчера: не надо выяснять отношения. Надо одно – любить и чувствовать себя прежде виноватым, а не другого. Ты же непрерывно обвиняешь.
– Что ж ты себя не чувствуешь виноватым?
– Да я без конца извиняюсь перед тобою. Только за что? За свое отчаяние, за свою боль, за работу, которая несет вам страдания, близким.
– Работа! Ты говоришь о смирении. Что ж ты не примиришься с режиссером? Это тебе дорого стоит? Значит, мне примиряться со штопаньем колготок, а детям с овощным только рационом? Я ведь не девочка – прятать от стыда ноги в рваных сапогах, да и дети не хуже других.
– У тебя есть нитроглицерин?
– Конечно, как услышал правду, так ищешь уловки.
У меня от боли передернуло лицо, а она поняла это не так.
– Ужас! – сказала она. – Какое злобное лицо. Я всегда знала, что ты меня ненавидишь. Потерпи еще, уж теперь окончательно, три минуты.
– Дай лекарство.
– На, – она протянула сумочку, – хотя нет: ты возьмешь ее, а мне лучше, чтоб при мне ее нашли. – Она бросила упаковку таблеток к моим ногам.
– Что бы ты ни сказала, я буду молчать, – еле выговорил я, выцарапывая прозрачный шарик из упаковки.
– Молчи. У тебя будет время наговориться, а у меня нет. По крайней мере, ты меня слушаешь, мне даже захотел ось потянуть время, успеешь еще к свидетелям в пивную. Соберешь с них дань впечатлений. Пожалеешь их разбитые жизни, упрекнешь и их, и условия, в которые они поставлены… Ты хотел понимания, оно всегда было. Ты хотел, чтоб я уподобилась тем женам, которые кричат мужу, какой он гениальный, как окружающие его не понимают, что он будет оценен потомками, такую тебе жену надо? Я всегда знала, что ты делаешь нужное дело, но ты изменился, я не о прошлом влюбленном юноше плакала, не за возврат его боролась пусть даже истериками, куда денешься – баба, я о сохранении в тебе чистоты мечтала. Ты измельчал.








