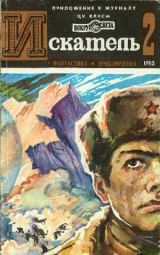
Текст книги "Искатель. 1982. Выпуск №2"
Автор книги: Владимир Михановский
Соавторы: Евгений Габрилович,Оксана Могила,Юрий Тихонов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
И снова мы шли – все ближе, выше к перевалу. Непонятное оживление царило в отряде: то ли от ощущения близкого отдыха, встречи с товарищами, то ли от высоты… Такое, я знаю по себе, бывает. А вот Гаевой почему-то все больше нервничал, то и дело вполголоса передавал по цепочке:
– Отставить разговорчики… Идти тихо… Не шуметь… Котелками не стучать…
Еще одной засады боялся, что ли? Но я – то горы знал: на этой высоте с комфортом, таким, как устраивались те два фашистских пулеметчика, уже не расположишься, ночь не высидишь.
Наконец мы остановились. Перед нами меж скалами лежала белоснежная лощина. Скалы закрывали перевал, на котором сидела застава «эдельвейсов». В лощине царила первозданная тишина. Ни души, ни дымочка.
– Ну замаскировались, черти. Постов не видать… Да что они, позасыпали все? – недоуменно воскликнул Гаевой, когда мы, по всем расчетам, почти вплотную приблизились к той части лощины, где сидела застава Размадзе.
Федулов первый заметил поодаль фигуру солдата. Тот стоял, прижавшись к скале, лицом к перевалу, опершись на винтовку. Он не обращал никакого внимания на наш отряд. Федулов подбежал, хлопнул солдата по спине:
– Че, кореш, неласково гостей встречаешь? – И вдруг попятился.
От удара снег, запорошивший солдата, осыпался, и в мареве сверкавших на солнце снежинок стало видно окаменевшее, восковое лицо, губы, сжавшие дотлевшую до самых усов самокрутку. Федулов все пятился, не смея отвести взгляда от замерзшего солдата, споткнулся обо что-то, упал.
У его ног торчал ствол пулемета. Лихорадочно, по-собачьи, Федулов стал разгребать снег. Он не заметил, как рядом с ним опустились на колени, стали шарить в снегу Гурам, Левон. Сначала они увидели лишь руку, сжимавшую гашетку пулемета… Где-то рядом прощупывали снег и другие бойцы. Кое-кому попадались просто валуны. Андрей и Ашот вырыли еще двоих замерзших бойцов… Из-под неловко накинутой плащ-палатки на солнце сверкнули, словно капельки крови, кубики в петлицах.
– Ну вот и Размадзе… – тихо сказал Гаевой. – Он там, внизу, в нашей землянке бутылку коньяка припрятал. До Нового года, говорил. А я ему – чего держать, выдохнется… А он мне: выпить сейчас – тактика. Сохранить – стратегия…
В этот миг раздался взволнованный возглас Левона.
– Сюда, сюда! – кричал он, размахивая автоматом.
Он стоял у входа в блиндаж, если можно было так назвать это странное сооружение из досок, камней и снега. На снежном козырьке был виден серовато-желтый налет, будто там, в черной глубине, что-то горело, дымило совсем недавно. Круг света от фонарика, включенного лейтенантом, лихорадочно прыгал в зияющей темноте. Сначала показалось, что землянка пуста. Затем удалось разглядеть: громадный, двухметрового роста парень в ватнике, который словно драли зубами волки, задубевшем от черной смерзшейся крови – видимо, граната разорвалась рядом, – лежал лицом к двери, широко раскинув руки, будто защищая, прикрывая собой что-то дорогое.
Левой, словно заранее зная, что найдет там, в глубине, ринулся мимо нас, приподнял, сдвинул гиганта, опустился на колени:
– Теплая… она еще теплая…
Я не заметил, куда бойцы отнесли мертвых. Мертвые освободили место для нас, живых, и для единственного своего товарища, девушки-санинструктора, которая была еще жива. Если она очнется, может быть, расскажет, что тут произошло.
Да мы и сами представляли себе, как это было.
…Метель бушевала несколько дней, а когда она утихла, лыжники – «эдельвейсы» устремились с перевала на заставу Размадзе, Они точно все рассчитали, знали: мало кто мог выдержать такой ураган и мороз. Вот один распахнул вход в землянку, швырнул гранату. Потом для верности дал очередь из автомата.
Потом немцы проложили лыжню вдоль всей позиции. Ее и сейчас было видно. Убедились, что вся застава погибла, и ринулись в тыл, оседлали вершину, которая господствовала над проходом.
Судя по следам, фашистов было немного, человек пять. Ну, судьба двоих мне известна. А остальные трое, куда ушли они? За подмогой?
В дымном блиндаже, рядом с полыхавшей огнем железной печкой, сделанной из бочки для бензина, в свете коптившего неимоверно каганца – расплющенной сверху снарядной гильзы – спали рухнувшие от усталости, долгого пути бойцы, мои новые товарищи. Лишь двое не спали: пожилой Ашот и юный Левон. Ашот, видно, уже давно растирал маленькие, словно детские, босые ступни и приговаривал в такт ласковым, однообразным движениям:
– Ничего… ничего, Нюся, слава богу, немного прихватило. Ты не стесняйся меня, дочка… у меня дома тоже такая… ей шестнадцать… вот теперь больно будет… да? Девушка жалобно застонала.
– Хорошо… – продолжал Ашот, – это кровь по жилам пошла. А теперь, – он говорил с девушкой, словно с ребенком, вытащил из-за пазухи согретые теплом его тела портянки, – теперь портяночки намотаем. А теперь валенки натянем. И рукавички… А теперь, Левон, давай флягу! Теперь пей.
Нюся испуганно замотала головой.
– Пей, говорю. Ты солдат – значит, пей.
– Ой, – задохнулась Нюся, – гадость какая! – И вдруг тихонько засмеялась. – Никогда не научусь эту дрянь пить.
– И не надо учиться. А сейчас – пей.
Она смотрела на Гукасяна изумленными, округлившимися глазами, потом тихо спросила:
– А где наши? Я помню – страшное что-то было. Огонь, гром…
– Все здесь… все. А теперь спать надо.
– А ты, Левка, откуда взялся?
– К тебе шел, – серьезно ответил Левон.
– Ну вот и садись теперь сюда, поближе, – сказал, уступая свое место Ашот. – Садись – и молчи. Пусть она спит.
В блиндаж заглянул и поманил меня пальцем Гаевой. Я выбрался на уже утоптанную площадку, от которой в разные стороны разбегались прорытые в снегу траншеи, ведущие к постам. Вслед за мною вышел Ашот. То ли извиняясь за что-то, то ли поясняя мне, новому человеку, сказал:
– Ах, дети, дети… Даже в ледниках находят друг друга…
– Гукасян! – окликнул его Гаевой. – Вернитесь в блиндаж, возьмите с собою еще двух бойцов, поднимитесь во-он на тот гребень. В снег заройтесь и глядите в оба. Задача ясна?
Минут сорок прошло, пока передовой дозор выбрался на гребень и как бы растворился в белом пространстве. Я стоял рядом с Гаевым, выжидающе помалкивал, постукивал ботинками, пытаясь согреть озябшие ноги.
– Да… хорошо в штабе пальцем по карте водить, – вроде бы ни к кому не обращаясь, пробурчал Гаевой.
Я пожал плечами. Что отвечать?
Лейтенант поднял бинокль и в который раз стал шарить по белым склонам и черным скалам. И опять, будто обращаясь не ко мне, а к этой белой пустыне, сказал:
– Что ж вы тянете? Что ж вы нервы мои, как веревочку, мотаете, сволочи?! Вы ж должны вернуться… Ты как думаешь, Арам, – он впервые обратился ко мне вот так, по имени, без всяких там «товарищ старший политрук, старший лейтенант», и это означало, что мы перешагнули наконец рубеж, за которым оставили деление на старших и младших по званию, что все мы теперь в одной связке перед лицом белого безмолвия, смерти, смотревшей на нас с белых зубчатых вершин, с белого языка огромного ледника, сползавшего с перевала.
– Пока я ничего не думаю, Андрей, – в тон лейтенанту ответил я. – Пока ориентируюсь на местности.
А Гаевой снова повторил, еще резче, злее, чем в первый раз:
– В штабе по карте пальцем просто водить… А нам что теперь делать? Размадзе должен был тут крепко сидеть. А моя задача другая – без остановки двинуть во-он по тому хребтину, – и он указал рукой накотрог, который отсюда, снизу, казалось, напрямую соединялся с вершиной горы, у которой словно ножом была срезана острая макушка. – И дальше, за ту гору… Хорошо фрицу затылок почесать. А теперь? Заставу оставить нельзя – это факт. А там, внизу, товарищ майор ждет не дождется данных разведки. Хоть разорвись.
– Сколько их оставалось здесь… перед бураном? – спросил я.
– С Нюсей двенадцать.
– А если разделить твой отряд?
– Сориентировался… Я же к этому и веду. Продержишься пару дней, Арам? Лучших ребят тебе оставлю…
Сверху, с нашей тайной заставы, раздался свист. Оттуда, из-за камней, Ашот махал нам рукой, стараясь привлечь внимание. Андрей снова вжал бинокль в глазницы. Даже сквозь трехпалые варежки было заметно, как напряглись его руки.
– Ну вот, давно ждали.
Я тоже схватился за старенький бинокль, на котором было выцарапано «Размадзе», память о командире заставы, которого я живым никогда не видел. Сначала перед моими глазами плясали два белых пустых круга. На них то появлялись, то исчезали зубцы вершин, куски синего неба. Потом я повел бинокль ниже и тут наконец заметил вереницу людей в белых маскировочных халатах, около роты… А у нас – взвод неполного состава.
Вот головной лыжник притормозил у черной полосы-трещины. Сразу же из-за его спины выехало еще два егеря, перекинули какие-то жерди, возможно, складную лестницу через трещину. И передний немец неловко, не снимая лыж, зашагал по «мосту». За ним последовали остальные. У отряда было что-то вроде обоза. Прошлой зимой, под Москвой, я уже видел такие двухметровой длины лодки-плоскодонки. В них практичные гитлеровцы волоком вытаскивали раненых с поля боя. Сейчас несколько таких лодок были заполнены с верхом.
Гаевой тоже внимательно рассматривал цепочку «эдельвейсов». Комментировал вслух:
– Все хозяйство волокут. Даже бревнышки для блиндажа в два наката волокут… Небось там и печка, и горючка для нее, и кофий в термосах. И еще чего-нибудь покрепче… А осторожничают, черти, видишь, дозор головной выставили. Неужели нас высмотрели? Не должны бы. Небось просто устав соблюдают…
Вслед за лейтенантом я перевел бинокль вправо и увидел еще трех лыжников, которые, далеко опередив колонну, стремительно неслись по склону снежного цирка. Изредка они тормозили, внимательно осматривались. И снова летели вперед. Классные горнолыжники, ничего не скажешь.
– Все рассчитали, – пробормотал Гаевой и добавил: – Точно! Детали одной не учли – что мы здесь. Небось думают, что мы там внизу сидим и ждем, когда после бурана снег спрессуется.
Вскоре и без бинокля я мог разглядеть сторожевое охранение фашистского отряда.
Рядом со мною расположился монументальный Вася-сибиряк. Он не спеша уложил в небольшой нише из камней четыре гранаты – «лимонки», подровнял их. Гранаты напоминали кротов, уткнувшихся носами в снеговую стенку. Потом Вася вытащил из подсумка запасной автоматный диск и поставил на ребро рядом с гранатами. Еще прислонил к стенке винтовку – из тех, что остались от погибшей заставы. Выставил автомат в щель амбразуры, примерился, пробормотал:
– Для этой штуки рано.
Отставил автомат, взял винтовку, прицелился и, удовлетворенный, откинулся:
– Ну, теперь погодим маленько.
А передовая тройка лыжников подходила все ближе. Вот они миновали тот участок, над которым затаились Ашот и еще два бойца. Гаевой все медлил… А сибиряк неторопливо, основательно пристроился у амбразуры, бормоча под нос:
– Возьмем на мушку от того хорька… В глаз целить не будем – шкура не ахти…
Теперь и голова колонны приблизилась к нам, втянулась под скалу, на которой затаились наши. И тут я увидел, как на правом фланге нашей позиции вскочил лейтенант Гаевой, дважды махнул рукой, а потом выстрелил из ракетницы, но не вверх, как это обычно делают, а целя прямо в переднего лыжника. Зеленая звезда зашипела, завертелась, рассыпая огненные брызги перед немцем. Ошарашенные егери замешкались, промедлили какие-то считанные секунды. И тут раздались автоматные очереди. Рядом со мною щелкнул выстрел винтовки. Немец, словно его ударили в грудь, упал на спину. Одна лыжа задралась вверх, стала вертикально, как шест, как веха.
– Все, был хорек, – удовлетворенно сказал Вася, клацнул затвором винтовки и снова тщательно прицелился. – А теперь шлепнем от того лиса, чтоб хвостом не вертел…
Снова щелкнул выстрел, точный, охотничий:
– От так… неча зад задирать, однако…
А я все еще ни одного выстрела не сделал. Для моего ТТ дистанция была пока далековатой.
Слева от меня, будто слившись с автоматом, палил Левон. Я заметил… что глаза его плотно зажмурены, на лице отрешенная решимость, и понял, то это для него первый бой, первая пальба не по мишени, а по настоящему противнику, которого он так отчетливо, близко увидел перед собой. Я хотел было подползти к нему, но Федулов опередил. Резко дернув паренька за полу шинели, бросил зло:
– Что палишь в белый свет, как в копеечку? Патронов завались, что ли?
Автомат Левона замолк. Сам он словно бы очнулся: лицо растерянное, виноватое, совсем мальчишечье лицо. Я пристроился рядом, коснулся его плеча:
– Страшно?
Левон отчаянно замотал головой: нет, мол.
– Страшно, – сам ответил я. – А ты про себя не думай. Про дом свой думай. Про маму. Про Ануш. Если бы твою сестру кто захотел обидеть, ты заступился бы?
Левон смущенно улыбнулся. Поосновательнее приладился к автомату, прицелился и дал короткую очередь, спокойно, четко, как на полигоне.
В отставшем немецком санном обозе засуетились, что-то поспешно стали устанавливать. И вдруг раздалось шипение и негромкий разрыв мины. Третий разрыв веял наши позиции «в вилку». Донесся чей-то стон. Мимо прошмыгнула с санитарной сумкой Нюся.
А сибиряк Вася, все так же, с присказкой:
– Ну-ка, вороне в глаз… – выстрелил, чертыхнулся. – Эх ты, Вася-мазила…
Минометчики заметили, что и к ним пристреливаются, перебрались за большой валун.
И тут ожила скала над лощиной, в которой залегли немцы. Сверху открыли огонь Гукасян и двое бойцов, что пошли вместе с ним. Немцы тоже стали палить вверх, по нашей засаде. Но попасть им было так же нелегко, как по летящей высоко птице. Шанс попасть почти нулевой. Немцы стали переползать поближе к скале, в «мертвую» зону. И тогда там, наверху, наши товарищи, не таясь, встали во весь рост, придвинулись к самому краю обрыва. Их очереди взрывали снег, выбивали искры из камней рядом с егерями, в нескольких шагах от миномета.
Я увидел, как Гукасян закинул за спину ставший бесполезным автомат и стал в обнимку с огромным камнем. Потом уперся в него плечом, подозвал еще одного бойца на помощь. Это было похоже на невиданный сеанс классической борьбы с противником совершенно другой весовой категории. Мне поначалу даже показалось, что Ашот просто сошел с ума. Но огромная глыба слегка шевельнулась, потом стала раскачиваться и вдруг стронулась с места и пошла, пошла вниз, увлекая за собой другие камни и все увеличивающуюся массу снега. Загремела лавина. Она сошла так стремительно, что немцы ничего не успели, предпринять. Белая масса накрыла и отряд и миномет…
Стрельба смолкла. Пораженные, смотрели мы, как оседает, искрится снежная пыль, как сверкает радуга над тем местом, где только что был враг. А на скале, воздев руки вверх, что-то радостное кричал Ашот.
И тут я увидел Гаевого. Он шел как-то странно, боком, словно пьяный. И упал бы, и скатился к нашим ногам, если бы его не поддержал Левон.
– Вы ранены, товарищ лейтенант? – удивленно спросил он, словно бы, сомневался, что их лейтенанта вообще могла тронуть пуля или осколок.
Я тоже подскочил к Андрею. Коричневое от горного загара лицо его стало каким-то серым. Он улыбнулся виновато:
– Что-то голова закружилась… Сначала думал, может, камнем в плечо двинуло… а оно вот так…
6Андрей стоял, привалившись к камню у входа в землянку. Там, в полутьме, белела бинтами чья-то голова. Еще один раненый лежал, укрытый телогрейкой. Нюся, словно заправский врач, командовала Левоном, превратившимся на время в медицинского брата.
– Йод, – строго бросала она.
Левон мгновенно вкладывал в вытянутую руку склянку.
– Тампон!
– Чего?.. А, бинтик, на…
Наконец перевязка была закончена. Нюся обернулась.
– Трое раненых, товарищ лейтенант.
– Три с половиной, – сказал Андрей и качнулся, с трудом устоял на подгибавшихся ногах.
– Ой? И вы?!. Куда?..
Нюся бинтовала плечо Гаевого. В одежде он казался могучим, широкоплечим богатырем. А оказалось – худенькая спина, ребра можно пересчитать. Нюся перевязывала, приговаривая успокоительно:
– Ничего… вам еще повезло. Кость целая. Прямо такой умница осколочек! Пожалел. Только вынуть его не смогу. Резать надо. И это даже не страшно. Тут морозище, микробов нету. А рубашку нижнюю и гимнастерку я отстираю и зашью потом. Вот натаю снега в котелках и постираю. Вода мягкая – без мыла можно…
– А, дьявол, – отреагировал Гаевой.
– Что, больно? Шевелить рукой не надо… Утихнет…
– А, черт… пошел в разведку называется, – мрачно выдавил Гаевой.
Я открыл рюкзак, вытащил запасную смену белья, свитер, протянул ему.
– Перестань ныть, командир. Согрейся, поспи, потом разберемся.
– Чего уж разбираться…
Мы с Нюсей кое-как натянули на него рубаху и свитер, накинули на плечи ватник. И он тут же, привалившись здоровым плечом к стене, забылся.
И Нюся, обхватив подбородок руками, задумалась, затихла. Левон сидел рядом, не спуская с нее горячих глаз. Я чувствовал, как трудно пареньку не прикоснуться к руке девушки, не сказать ей ласковое слово. Что он нашел в Нюсе такого особенного? Курносая, в капельках веснушек, простецкое круглое лицо, коротко остриженные светлые волосы. Обыкновенная девчонка, каких тысячи. А вот для него – одна-единственная.
Левон все же протянул руку, дотронулся до ее плеча, и Нюся тихонько, чтобы никто не заметил, потерлась щекой о его ладонь…
Мне нужно было кое-что набросать в дневнике о минувшем бое, дне. Я раскрыл полевую сумку, вытащил тетрадку, где у меня были заметки для будущих очерков, статей, строки будущих стихотворений и даже первые главы давно задуманной поэмы.
– Вы кому пишете, товарищ старший политрук, если не секрет? – тихонько спросила Нюся. – Девушке?
– Ах, Нюся, девичье любопытство всех чувств на земле сильнее.
– А она красивая?
– А у тебя мама жива, здорова?
– Угу.
– Так это письмо твоей маме, Нюся.
– Ой, шутите! Вы даже адреса ее не знаете!
– Это ничего! Вот однажды утром выйдет она на крыльцо, развернет газету и прочтет про то, как ее дочка в горах воюет.
– Что вы, не надо! Я ж ей писала, что в госпитале, в санатории под пальмами работаю. Мандарины кушаю… А вы про такое! Мамка у меня махонькая, слабенькая. Она даже мышей боится.
– А ты сама разве ничего не боишься?
– Боюсь, всякий день боюсь, – вздохнула она, – особенно когда раненого тащу… Пока вниз по льду – ничего. А как снег глубокий или в гору надо – прямо сил нет. У нас ведь как в правилах записано? Чтобы через восемь часов раненый боец был эвакуирован в дивизионный госпиталь. А где он, госпиталь? Я и есть госпиталь… – Нюся отвернулась, всхлипнула.
– Вы лучше стихи красивые напишите, – подал голос Левон, – чтобы можно было выучить.
– Можно и стихи.
– Правда? – обрадовалась Нюся и простодушно попросила. – Вы как сочините, дайте слова списать, ладно? У меня даже тетрадочка специальная была – там разные песни хорошие про любовь. Правда, ее ребята на курево разодрали… Ну, ничего, я и так запомню.
– А у вас в тетрадке строчки вон там, как стихи, – заметил зоркий Левон.
Я никому никогда не давал читать еще сырые, с моей точки зрения, строки. Но тут неожиданно для себя протянул Левону тетрадку. Нюся заглянула через его плечо, разочарованно протянула.
– Не по-нашему…
– Это по-армянски, – сказал Левон. – Можно я вслух почитаю?
Левон читал хорошо. У него был простуженный, но звучный голос. Я давно не слышал, как другие читают мои стихи. И ещё мне странно было, что Нюся так внимательно слушает непонятные слова. А может быть, я обольщался и она просто слушала голос Левона?
– А у нас в Вологде леса ясные, светлые, – задумчиво сказала девушка, когда Левон замолк, – луга заливные. Выйдешь в поле – от края до края все травы да травы… а дальше лес синий. А над ним небо голубое и белые облака плывут. Тихо-тихо…
В глубине послышалась возня – это поудобнее устраивался молоденький солдат-узбек.
– А ты пустыню видела? Солнце там вот какое огромное. Теплое-теплое. На песке сидишь, как на печке. И солнце над тобой тоже печка, – он зябко потер руки и вдруг тихонько запел.
– Это что за самодеятельность? – проснулся Гаевой, не сразу поняв, где он и что с ним.
– Тс-с-с, он про свой дом поет, – шепнула Нюся.
– Эх, дом, дом, – вздохнул пожилой усатый солдат. – Мою хату ветром сдуло, пеплом запорошило.
– Ничего, будет и на твоей улице праздник, – окончательно проснулся Гаевой.
– Покеда по моей улице фриц ходит, – зло ответил солдат. – Гомель слыхал? От него, говорят., одни головешки остались. А у меня там баба, дитенки… – Солдат повернулся ко мне. – Тебе, товарищ политрук, не понять, твоя Армения в тылочке. Она-то и войны настоящей никогда не бачила.
Я не успел ответить, как вскинулся Ашот Гукасян.
– Это моя земля в тылочке? Армения никогда войны не знала? – с горечью сказал он. От волнения Ашот с трудом подбирал русские слова. Акцент его стал особенно резким. – Я был совсем… совсем мальчик, когда турки сожгли мой дом. Зарезали всех братьев, сестер. Семью… Да что – семью! Весь мой народ хотели уничтожить! Реки были красные от крови. Младенцам головы о камни разбивали…
– Ой, да они что, фашисты? – горестно и недоуменно воскликнула Нюся и, сама не заметив, сжала ладонь Левона.
– А ты что думала, фашизм так сразу и родился? – сказал я. – Тогда, в пятнадцатом году, во время прошлой войны, немцы помогали своим союзникам туркам. А сегодня турецкая армия стоит на нашей границе, только и ждет, когда «эдельвейсы» одолеют Кавказ, нас с вами.
– Мы что, – пробурчал усатый, – мы тут сидим, тропочку охраняем. А их, тропок, вона сколько по всем горам. Каждую щелку не убережешь.
Не знаю почему, но тут я вспомнил одну историю, которую когда-то в детской книжке прочитал, и неторопливо стал рассказывать о том, как шел однажды голландский мальчик домой и вдруг видит – вода сквозь плотину сочится. Он знал – капля за каплей размоет, снесет плотину. Люди погибнут и цветы. На их земле много цветов. Вот и заткнул он ладонью эту щелку. И стоял, пока не замерз на холоде, пока не пришла подмога. Вот и мы стоим, всего одну тропку охраняем, защищаем. А за нами весь берег – от Новороссийска до Батуми. И люди наши, и цветы… И пока мы стоим…
Я замолк на полуслове, заметив пристальный, изучающий взгляд Гаевого:
– Ну, комиссар, смотри, какую политбеседу провел, – сказал он и, поняв мое смущение, добавил: – Все правильно говорил. Из данной беседы, товарищи, вытекает…
Он попытался рубануть воздух рукою в подтверждение какой-то своей мысли, но скривился от, резкой боли.
Мы спали, тесно сбившись, прилившись друг к другу, укрывшись плащ-палатками. Но и это не могло уберечь от дикой ночной стужи. Время от времени раздавались то пушечные залпы, то рокот далекой канонады. Это лопались; ледники. Сходили вниз лавины.
Лишь перед рассветом удалось забыться. И тут же мне привиделся лес, сомлевший в лучах жаркого солнца, и тоненькая длиннокосая девушка. Она стояла под деревом и прислушивалась к голосу кукушки, и считала, тихонько шевеля губами: раз, два, три…
Я очнулся. Но голос кукушки все не замолкал в ушах. Хотя нет, это была не кукушка. Но что означал этот сухой, отрывистый перестук, понять я не мог. Осторожно, чтобы не потревожить товарищей, выбрался из-под плащ-палатки, вышел из землянки.
Дозорных было двое. Зарывшись в снег, лежал, наблюдая за «тропочкой» сибиряк Вася. А чуть поодаль, возле расщелины, где мы вчера похоронили погибших товарищей из взвода Размадзе, похоронили молча, без салюта – надо беречь патроны, – стоял Ашот Гукасян и бил, бил по скале обломком немецкого штыка.
– Кончай, – сказал ему Вася, видно, уже не в первый раз, – поднял, понимаешь, шум, небось до самого Сухуми слышно.
– Фанерная дощечка до первого весеннего дождя. Или пурга сметет, – отозвался Ашот, не прекращая работу.
– Ты хоть имена напиши. Без имен что же это будет?
– Хачкар будет…
– Чего, чего?
– Как это по-русски… – задумался Ашот. – Крестный камень по-русски. Плита над прахом умерших. У нас говорят: не поставишь хачкар – душа в рай не попадет.
– Ты что, в бога веришь?
– Не верю я в бога, – рассердился Ашот, – в человека верю. В память людскую верю… Только кошки забывают.
– Это точно, кошки не собаки, – Вася скрутил «козью ножку», – на, Ашот, покури, а я подсоблю.
Вася встал, взял из его рук обломок штыка, саданул по нему изо всей силушки и… штык вылетел из рук.
– Эх, Вася, Вася, камень понимать надо. Поймешь, тогда он мягкий, как сыр, станет. Знаешь, что из камня можно сделать? Все. Хочешь – дом. Хочешь – храм.
– А ты что, на гражданке тоже камни бил?
– Каменщик я. И отец и дед… К любому хорошему дому в нашем селе подойди, спроси: кто строил? Гукасяны – ответят. Вот кончится война, приезжай, тебе дом построю. Из розового туфа. Как утро красивый.
– Не-е-е… в горах тесно, голо. Вот у нас в тайге – каждое дерево в лицо узнаешь.
– Невесту тебе найду, – не унимался Ашот. – Знаешь, какие у нас девушки? Помнишь сестру Левона? Все такие.
– Уж больно черна да тонка… Моя Верка погабаритнее.
– Девушка твоя?
– Жена, – широко улыбнулся Вася, – и сынок весь в нее, Василь Васильич. Второй годик. Башковитый мужик…
Неподалеку от землянки меня ждал еще один сюрприз. Лейтенант Гаевой стоял лицом к каменной стенке и, перебирая по ней пальцами, цепляясь за выступы и выемки, тянул свою раненую руку все выше и выше. Боль, видно, стала нестерпимой, потому что он застонал, выругался и сел прямо в снег.
– Ты что, сдурел, у тебя же там осколок!
– Тренируюсь, – смущенно усмехнулся Андрей. – Вот проклятая! Всю душу вымотала. Сиди теперь здесь и жди у моря погоды.
– Слушай, Андрей, разведку поведу я, – сказал как можно решительнее.
– Хочешь, чтобы майор за тебя мне голову открутил?
Но напоминание о майоре Орлове еще более укрепило мою решимость. Я вспомнил тот неприятный разговор в окопах под Туапсе в рассветный час, когда, он прямо сказал: «Боец ты хреновый, занимайся своим делом». А на войне какое дело «свое», какое «чужое»?
– Товарищ лейтенант, – сказал я официально…
– Товарищ старший политрук, – в тон мне отозвался Андрей.
– Между прочим, ты меня ведь по старинке политруком называешь. Институт политруков и комиссаров в армии отменен. Теперь я для тебя просто старший по званию.
– Ну и что?
– Теперь я как старший по званию могу и приказать. – Что же ты хочешь при-ка-зать? – обиделся Гаевой.
– Объяснить мне задачу, поставленную перед отрядом.
– Ну, это пожалуйста, – вздохнул Андрей и перекинул на колени планшет. – Ну, смотри. Вот мы, а вот они. По прямой – рядом. Но это дуриком под огонь лезть, как они давеча. Реальный путь – в обход. Вот по этому отрогу, потом по хребту… Где-то там надо затаиться… На горе Безымянной.
Он перевел взгляд от карты к реальной вершине, макушка которой выглядывала из облаков там, на «фрицевской» стороне.
– Видишь красавицу? Так вот, план минимум – разведать всю ихнюю дислокацию, изучить пути доставки боеприпасов, график смены застав… План максимум: хорошо бы «языка» раздобыть, желательно офицерского звания.
– Ясно. Тогда слушай приказ. Передать в мое распоряжение людей для выполнения задачи. Кого, сколько – на твое усмотрение. А ты останешься тут. Другого варианта нет. Сам посуди.
– Что нет, то нет, – Гаевой потерянно пошевелил рукой…
Моя разведгруппа собиралась в путь, Ашот Гукасян разулся и стал поверх портянок обматывать ноги бумагой-вощенкой, которой переложены в ящике гранаты – «лимонки». Затем снова втиснулся в сапоги, притопнул.
– Молодец, Гукасян, – сказал Андрей, – народная мудрость, так сказать. Всем рекомендую. Никакой мороз не будет страшен.
Пока Гурам, Левон, Вася переобувались, Нюся приставала ко мне просительно, жалобно.
– Товарищ командир, ну возьмите…
– Сказал – нет! Не женское это дело.
– Вот еще! А если ранит кого?
– Это она за Левку своего драгоценного боится, – ехидно бросил Федулов, – везет же пацану на бабью ласку! То одна… то другая…
– Тебя, Федулов, как зовут? – поинтересовался Ашот.
Федулов в ответ повертел пальцем у виска.
– Имя твое как? Мама как тебя называла? – не отставал Ашот.
– Мама? – лицо Федулова вдруг обмякло. – Славик… Славик я, Вячеслав.
– Вот видишь, имя у тебя хорошее, а ты…
– Что «а ты»? – взъярился Федулов. – Все вы тут чистенькие, благородные, героев из себя строите. А Федулов вам – дерьмо на палочке! Выходит, раз в плену был, так всю жизнь не отмоешься? Только я проверенный уже! В штрафбате оттарабанил… По всем правилам. До первого ранения…
– Что ты несешь? – я даже привстал.
– А вы не знали?! В разведку небось таких не берете?!
– Возьму, – отрезал я. – Возьму тебя в разведку. Собирайся.
– Ну, товарищ командир… – опять заныла Нюся.
Но я от нее просто отмахнулся. Сейчас достаточно дел посерьезнее. Снаряжать отряд к альпинистскому переходу высшей категории трудности, да еще зимнему, дело нешуточное. Неучтенная мелочь может обернуться драмой для всех.
Андрей вздохнул, глядя на лежавшую перед ним небольшую горку провизии:
– Да, не густо… Сухари, две банки тушенки… Совсем не густо. А ну-ка, вынимай, что у кого из жратвы осталось.
Бойцы зашевелились, протягивая лейтенанту жалкие остатки пайков. Я вынул и сунул в общий котел злосчастные галеты. Левон вытащил из-за пазухи беленький узелок, развернул его, положил на сухари остатки лаваша и сыра. Нюся подошла к Левону, как-то нежно и осторожно прикоснулась к белой косыночке, в которую был завернут лаваш.
– Хочешь – возьми, – обрадовался паренек. – Это Ануш, сестра, вышивала.
Нюся прыснула, словно он сказал ей что-то очень смешное.
– Нет, ты представляешь: сапоги, шинель, а на голове – косынка! Умора! – Она обернулась, приглашая и нас представить себе эту забавную картину и посмеяться. Но все молчали. Тогда Нюся аккуратно сложила косынку уголок к уголку – и сама сунула снова Левону за пазуху, аккуратно застегнула на нем шинель.
– Потом подаришь. Вернешься – и подаришь.
Андрей тем временем разложил продукты на две равные части. Подумал, отделил от своей еще половину, придвинул ко мне.
– Нам сидеть. Вам идти.
Ну вот, кажется, и все. Ребята медлили.
– Перекурим на дорожку, – сказал Вася и вытащил кисет с махоркой. – У кого завертка найдется?
Все молчали. Тогда я вынул свою неразлучную тетрадку. Вырвал из нее чистый листок. Еще несколько рук протянулось ко мне за бумагой.








