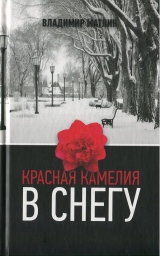
Текст книги "Красная камелия в снегу"
Автор книги: Владимир Матлин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
ПРО ИВАНУШКУ И ЗЛОГО ЦАРЯ
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
Мф. 23:37
В некотором царстве, в некотором государстве, давным-давно правил злой царь по имени Тиран Узурпатыч. Уж такой был злой, уж такой кровожадный – жуть. И не чужих иноземных супостатов, а своих подданных, мужиков да баб, любил больше всего мучить. И четвертовал, и на кол сажал, и до смерти порол, и голову отрывал, и диким зверям скармливал – чего только царь не делал со своими людишками. А еще любил царь выселять крестьян с насиженных мест: возьмет целую деревню – и куда-нибудь на болото! Страдал народ через это неописуемо. Да и трон свой занял царь не прямым путем, а устранив хитростью да обманом законных наследников прежнего правителя. Но никто пенять ему не смел, потому как всякий человек в той стране боялся царя до смерти. И только один Иванушка – по глупости, должно быть, – не побоялся, а взял большую палку, вышел на торжище перед Красным теремом и закричал: «Эй ты, Тиран Узурпатыч! Не боюсь я тебя! Ты зло для народа, а троном завладел обманным путем. Выходи сюда из терема, коли не трус, давай честно силой меряться! Побью тебя при всем народе». Услышал царь такие речи и велел своим опричникам схватить Иванушку и казнить его лютой смертью. Но только не поспели опричники: пока добежали от терема до места, где стоял Иван, глядь – он уже недвижно лежит. Это толпившиеся на площади людишки, мужики да бабы, накинулись на него за дерзкие слова и забили до смерти.
Вот такую примерно сказочку сочинил Володя Степанов, когда учился в десятом классе. И не только сочинил, но и рассказал ее на вечеринке, где присутствовали еще восемь его сверстников, восемнадцатилетних парней и девушек. А было это в Москве в 1951 году…
Вначале следствие пыталось создать дело о контрреволюционной организации, ставившей целью насильственное свержение советской власти. Но даже при всех натяжках и допущениях молодежная вечеринка в квартире у Риммы Назарьянц по случаю дня ее рождения никак не была похожа на конспиративную встречу заговорщиков. Многие участники вечеринки видели друг друга впервые: в то время мальчики и девочки учились в разных школах. Просто Таня Лефтинина, подруга Риммы, сказала ей: «Без мальчишек как-то скучно. Хочешь, я попрошу Володьку привести к тебе на день рождения ребят из их класса? Только чтоб выбрал самых хороших…» Римме идея понравилась, и Володя Степанов, с которым Таня была знакома с детства, действительно привел с собой еще троих одноклассников. То есть хотел он привести четверых, чтоб ребят было столько же, сколько девушек, но кто-то в последнюю минуту не смог, и вот в тот злосчастный вечер в квартире у Назарьянцев оказалось пять девушек и четыре парня.
Римма Назарьянц усиленно выпроваживала родителей из дому, потому что в присутствии предков какое веселье… Мама Назарьянц сначала сопротивлялась, а потом сдалась, уступила дочери, но поставила одно условие: к одиннадцати часам все должны разойтись. Таким образом, в распоряжении девяти тинейджеров (правда, тогда еще этого слова не знали) на весь вечер оказалась двухкомнатная квартира со столом, уставленным изысканной едой (папа Назарьянц был высоким чиновником в правлении Потребительской кооперации). А водку мальчишки принесли с собой.
Следствие во всех подробностях восстановило события этого вечера, хотя особых событий и не было. Никакого веселья не получилось. Хватанув в самом начале по полстакана водки «за виновницу торжества», непривычные к алкоголю подростки тут же опьянели – правда, в разной степени. Ося Гельбергер, например, свалился в углу и провел остаток вечера в отключенном состоянии. Девушки были в лучшей форме, поскольку никто из них свои пол стакана не выпил, водку лишь слегка пригубили и с гримасами («фу, какая гадость») отставили. Мужская же честь такого не допускала, парни должны были на виду у всех в два-три глотка прикончить свою порцию. Так и получилось, что Ося «выпал в осадок», а трое хоть и держались на ногах, но покачивались и говорили запинаясь. Вот тогда-то, желая, видимо, спасти вечеринку от полного развала, Володя Степанов и рассказал свою сказочку про Иванушку и злого царя Тирана Узурпатыча.
Следователей занимал вопрос, как реагировал на клеветническое выступление Степанова каждый из участников контрреволюционного по духу сборища. Выяснилось, что пятеро из восьмерых Володиной сказки вообще не слышали: Ося лежал в углу, а Римма и еще три девушки оживленно обсуждали в соседней комнате сенсацию недели – брак учительницы географии с хромым военруком. Из тех троих, кто слышал Володю, засмеялась Таня Лефтинина и сказала что-то вроде: «Здорово, Володька». Она вообще с восторгом внимала всему, что говорил Володя. Еще один слушавший сказку, Вася Анохин, поулыбался и ничего не сказал – скорей всего, просто не понял. А Юра Котельников отвел Володю в сторонку и шепнул:
– Ты с ума сошел! Разве такие вещи можно говорить? Ты знаешь, что за такую сказочку тебе сделают, если узнают?
Возможно, этой репликой все бы и кончилось, если бы в тот же вечер Юра не поделился происшедшим со своей мамой, которая тут же рассказала все мужу, подполковнику бронетанковых войск Николаю Котельникову. Подполковник не на шутку взволновался. Он разбудил только что уснувшего сына и потребовал, чтобы тот как можно подробнее все пересказал. К концу рассказа подполковник был пунцовым, руки у него дрожали.
– Вот что, – сказал он сыну, – завтра же утром ты пойдешь со мной, куда я скажу, и расскажешь там все как было, во всех деталях. Понятно? Потому что если кто тебя опередит, то ты будешь отвечать перед судом вместе с этим идиотом Степановым. Понятно? Это очень, очень серьезно, тут вся наша семья под угрозой. Надо немедленно действовать!
В результате «немедленных действий» уголовного дела против Юры не возбудили. Всего же привлекли пятерых из девяти: Володю Степанова, которому влепили десять лет; Васю Анохина, так, кажется, до конца процесса и не понявшего смысла сказочки, – ему дали восемь; Таню Лефтинину – семь лет; почему-то получил пять лет Ося Гельбергер, хотя спал весь вечер в углу и ничего не слышал; те же пять лет дали Римме Назарьянц как хозяйке квартиры и организатору контрреволюционного по духу сборища.
Все пятеро были реабилитированы в 1956 году, однако судьбы у них сложились по-разному. Начать нужно с Васи Анохина: он был реабилитирован посмертно, за год до этого погиб в лагере – якобы убит уголовниками. На самом деле кто знает, что там произошло… У Тани Лефтининой в лагере обнаружились признаки психического расстройства, она была помещена для лечения в специальную психбольницу, потом вышла на свободу, пожила некоторое время с матерью и снова попала в больницу. Ося Гельбергер, который никогда вроде не блистал здоровьем, перенес пятилетний срок, можно сказать, вполне удовлетворительно, вернулся к родителям, поступил в Химико-технологический институт, окончил его и уехал по распределению на работу куда-то в Поволжье. Римму Назарьянц родители во время заключения поддерживали, возили посылки, подкармливали и ее, и лагерное начальство. Вскоре после освобождения она вышла замуж за дальнего родственника по фамилии Назарьянц и уехала жить в Ростов.
А теперь – главный обвиняемый по делу, Володя Степанов. У него не было богатых родителей, как у Риммы, его растила мама, школьная учительница. Володин отец погиб в сорок третьем году под Курском. В лагере Володе пришлось тяжело: за Полярным кругом, в ста километрах от поселка Инта, вкалывал на общих работах. Однако вынес – в том смысле, что остался жив, хотя здоровье свое подорвал. Освобожденный за отсутствием состава преступления и восстановленный в правах, он вернулся в Москву, к маме, которая занимала комнатенку в коммунальной квартире. Прежде всего окончил экстерном школу, и тогда встал вопрос: идти работать или продолжать учиться и жить на скудную мамину зарплату. Дарья Алексеевна настояла, чтобы он поступил в «нормальный» дневной институт. «Как жили эти годы, так проживем еще несколько лет, а хорошее образование – это основа основ». Она была человеком традиционных взглядов, а к бедности привыкла с детства.
В августе 1956 года Владимир Степанов был принят на исторический факультет МГУ. Это был совершенно осмысленный выбор: его по-настоящему глубоко интересовала история российской государственности, а еще – история французских революций.
В университете Володя держался несколько особняком: почти все студенты, кроме демобилизованных партийных секретарей, были моложе его на пять лет, а в молодости это существенная разница. Из комсомола он выбыл, пока сидел в лагерях; ему предложили восстановиться, но он ответил: «Что ж я в двадцать четыре года – в комсомол…» С демобилизованными же секретарями у него не могло быть ничего общего хотя бы потому, что, по их представлениям, «у нас зря не сажают», – так они думали, а за глаза так и говорили по поводу Володиной реабилитации.
Учился он превосходно, первые две сессии сдал полностью на отлично, сделал серьезный доклад о принятии Уложения 1648 года на научном кружке, чем обратил на себя внимание профессоров.
Занимался Володя много, все больше читал в библиотеке книги по русской истории, иногда приносил их домой и читал за ширмой, отгораживающей его кровать от маминой. И вот однажды, когда он только-только раскрыл том сочинений Сперанского, раздались три звонка во входную дверь.
– К нам? В такой час? – удивилась Дарья Алексеевна и пошла открывать. Она вернулась в комнату с широко открытыми глазами, будто увидела призрак.
– Там Юра Котельников… хочет с тобой поговорить. Спрашивает, можно ли войти, – сказала она шепотом.
Пожалуй, явление призрака удивило бы их меньше, чем визит Юры Котельникова. С ним Володя не виделся с того самого вечера у Риммы Назарьянц. На суд Юру не вызывали – Котельников-старший настоял на этом, – а только зачитали в суде его показания на предварительном следствии. Собственно говоря, его показания и не были нужны: подсудимые все рассказали сами, а Володя по требованию следователя записал свою сказочку про Иванушку и злого царя; в суде документ не оглашали, а лишь смутно упоминали про «клеветническое сочинение Степанова, носящее антисоветский характер».
– Пусть войдет, раз уж пришел, – сказал Володя. Мать только недоуменно пожала плечами. На протяжении всего последующего разговора она сидела на кухне, вдыхая ароматы соседских супов.
Он вошел, высокий, видный, синеглазый, с волосами цвета спелой ржи – прямо с комсомольского плаката «Станем новоселами и ты, и я».
– Здравствуй. Хотел бы поговорить с тобой. Не возражаешь?
Володя показал глазами на стул, а сам остался сидеть на кровати. Он ощущал, каким жалким выглядит по сравнению с Котельниковым: бледный от постоянного кашля, с жидкой бороденкой, красными от недосыпа глазами, в старой домашней куртке.
– Ну прежде всего я должен сказать, что очень жалею обо всем случившемся тогда, шесть лет назад, – начал Котельников подготовленную заранее речь. – Я совершил ошибку.
– Ошибку, – повторил Володя без всякой интонации.
– Да. Ошибка была в том, что я рассказал матери. А она тут же – к отцу… и понеслось. Он перепугался страшно. Если, говорит, ты не расскажешь, завтра утром расскажет кто-нибудь другой: Анохин или Лефтинина. Или сам Степанов одумается и побежит доносить на себя. И тогда уж всем нам хана, и тебе и мне…
– И ты согласился, – все тем же ровным голосом сказал Володя. Не спросил, а произнес утвердительно.
– Согласился? Отец не очень-то меня спрашивал. Да и как бы я мог отказаться? Он ведь отец. И потом: он же по существу прав.
– Что? Он прав?
– Подожди, не кипятись. Спокойно представь себе ситуацию. Отец мне говорит: а почем ты знаешь, что этот Степанов не провоцировал тебя? Может, у него задание: посмотреть, как сын подполковника Котельникова будет реагировать на антисоветские заявления. Чушь? А ты помнишь ситуацию в тот год? Все дрожали, все ждали ареста. Причем неизвестно за что… А тут на самом деле антисоветские заявления.
– Ты считаешь это антисоветским заявлением?
– Не я, а они, следователи. Ты сам-то понимаешь, про что твоя сказочка…
– Подожди, подожди… – Володя закашлялся, потом с трудом перевел дыхание. – Верховный суд посчитал, что в моих словах не было ничего антисоветского, и реабилитировал меня. А ты, выходит, судишь строже Верховного суда?
– Я не сужу, я не судья. Но твои слова тогда поставили всех нас под удар – и тебя, и всех остальных.
Володя побледнел еще больше, на лбу выступили капли пота. Он старался держать себя в руках.
– Я что-то не пойму. Для чего ты пришел: покаяться, что донес на друзей, или меня обличать? По-твоему выходит, это я виноват во всем: что Анохин погиб, что Таня в психбольнице… Моя вина, да?
– Спокойнее. Я не говорю, что это твоя вина. Если бы не мой отец, то ничего бы, может быть, не случилось. Но согласись, что и ты должен был быть осторожнее. Я понимаю: восемнадцать лет, пацан еще, и выпил к тому же… Но все-таки в той обстановке рассказывать такие истории…
Володя опять закашлялся и некоторое время не мог сказать ни слова. А когда отдышался, хрипло проговорил:
– Вот что, Юра. Ничего ты не понял. И боюсь, не поймешь. Ты и в другой раз сделаешь то же самое: донесешь, предашь, подставишь… На таких, как ты, вся система доносов и держится. Мне с тобой не о чем говорить. Уходи.
Лето 1957 года Володя провел с матерью в деревне на Волге, в Горьковской области. Дарья Алексеевна сама была родом из этих мест, и там у нее еще жили дальние родственники, потомки городецких старообрядцев. Она не без оснований считала, что Володе нужно отдохнуть на свежем воздухе и поесть здоровой деревенской пищи. Надо сказать, с воздухом дело и правда обстояло хорошо, а вот что касается пищи… Деревенские жители питались в основном тем, что привозили из города, причем ездить приходилось далеко – в Горький, поскольку в ближайших городах, Балахне и Городце, магазины стояли пустые. Да и в самом Горьком изобилия не наблюдалось… Правда, картошка, огурцы и тыква были свои, и удавалось доставать молоко.
В общем, все лето Володя питался простой деревенской пищей, купался в Волге, читал и спал. Сверстников его в деревне не было: парни после военной службы домой не возвращались, старались пристроиться в городах, и девушки вслед за ними уходили из родной деревни на работу в промышленные города: в Правдинск, Дзержинск или Иваново. В деревне оставались одни старики.
Второй год обучения в университете пришелся на зиму 1957–1958 годов. Володя опять много занимался, хорошо сдавал зачеты, делал доклады для научного общества. Но в отличие от предыдущего года у него появились знакомые, с которыми он охотно виделся и проводил свободное от учебы время. Знакомые эти были не с его курса и вообще не из университета. Старше Володи, образованные люди, многие из них успели посидеть в сталинских лагерях.
С большинством он познакомился в курилке библиотеки имени Ленина. Эта курилка была, по сути, клубом свободно мыслящих интеллигентов. В атмосфере хрущевской оттепели, наступившей следом за сталинским террором, люди «оттаяли» настолько, что стали более или менее свободно обсуждать проблемы политической и общественной жизни. Критика недостатков велась, как правило, с позиций «правильного», или «чистого» марксизма-ленинизма. Однако находились в курилке и вовсе оголтелые вольнодумцы, которые заговаривали о многопартийных выборах и экономической свободе. От таких разговоров у Володи мороз пробегал по коже… Но первым чувством, охватившим его в этот период, было удивление: оказывается, вопросы, над которыми он мучительно размышлял еще в школе, а потом на лагерных нарах, а потом в деревне на Волге, – все эти вопросы волновали и других людей. Причем некоторые предлагали такие ответы, которые Володе и не снились. Например, один сухопарый очкарик говорил, что корень проблем советского сельского хозяйства заключается в нежизнеспособности колхозного строя, и никакой кукурузой здесь не поможешь. Володя разговорился с ним, рассказал ему о своих летних впечатлениях.
– Вот я и говорю, – закивал головой очкарик, – у людей нет никакой заинтересованности в результатах труда. Они и разбегаются.
Звали его Валерий Андреевич, и был он кандидатом физико-математических наук. Вообще среди людей, обсуждавших в курилке общественно-политические и экономические проблемы, как заметил Володя, преобладали специалисты точных и естественных наук.
В библиотеку Володя отправлялся пешком из университета, сразу после занятий, наскоро перекусив чем-нибудь прихваченным из дома (в университетской столовке давали нечто совершенно несъедобное). В читальном зале он часа два-три занимался, а потом шел в курилку, где проводил еще не меньше часа, так что домой попадал вечером, часам к семи. Дарья Алексеевна была обычно дома и ждала его с ужином.
Однажды зимним вечером, когда они только сели за стол, Дарья Алексеевна сообщила новость:
– Я встретила на улице Лидию Викентьевну, она сказала, что Таня дома. И чувствует себя неплохо, то есть вполне…
Володя поднял голову от тарелки. Лидия Викентьевна была матерью Тани Лефтининой, той несчастной девушки, у которой после суда началось психическое расстройство. Выйдя из лагеря, она дважды попадала в больницу.
Он спросил:
– Что значит «вполне»?
– Ну, Лидия говорит, что поведение нормальное, ко всему проявляет интерес, во всем помогает. Характер, конечно, изменился. Помнишь, какая веселая была, хохотушка… Теперь, Лидия говорит, все больше молчит, думает о чем-то…
– Нам всем есть о чем подумать, – заметил Володя.
Дарья Алексеевна наклонилась к нему через стол:
– Сынок, тебе бы хорошо зайти к ним, проведать Таню. Вы ведь с детства знакомы. А, сынок?
Лефтинины жили в соседнем доме, двор был общий, так что Лидия Викентьевна и Дарья Алексеевна вместе гуляли с детскими колясками, а потом сидели рядом на лавочке, пока их малыши играли в песочнице. Володя действительно помнил Таню столько же, сколько себя. До войны у Володи был отец, военный летчик, командир Красной армии. У Тани тоже был папа, но он находился в длительной полярной экспедиции, откуда невозможно было писать письма. Так объясняла Тане мама. Он отправился в экспедицию, когда Тане было четыре года, но когда-нибудь он вернется, и все узнают о нем как о герое, как о Папанине-Кренкеле-Ширшове-Федорове. Когда Володя стал старше, он догадался, что это за «экспедиция», но с Таней они на эту тему никогда не говорили. Впрочем, в ее судебном деле было официально отмечено, что отец осужден по 58-й статье как вредитель и иностранный шпион…
Что Таня влюблена в Володю, обе мамы понимали – годам к шестнадцати это стало заметно. А как он относится к Тане, понять было трудней.
– Мальчики душевно созревают позднее девочек, я это наблюдаю в школе постоянно, – говорила Дарья Алексеевна, как бы успокаивая Лидию Викентьевну. – А Володя к тому же такой скрытный…
Как все матери на свете, они умиленно смотрели на детей и строили планы, которые, как это хорошо известно, никогда не сбываются…
– …Да, проведать надо, – согласился Володя и вернулся к супу.
На следующий вечер, после их обычного ужина, мать заметила вскользь, как бы между прочим:
– Я тут коробку конфет купила, хорошие, шоколадные. Вот, захвати, когда к Тане пойдешь. Ты когда собираешься?
Володя пожал плечами:
– Да хоть сегодня. Чего откладывать?
– Тогда ботинки почисть и после руки помой как следует, – оживилась Дарья Алексеевна.
Он почистил ботинки, а она погладила брюки и пиджак – еще «допосадочный», единственный, лицованный, штопанный и латанный со всех сторон.
И вот Володя в пиджаке и плаще пересекает двор. Вот этот подъезд, эта обшарпанная лестница с надписями мелом. Ничего не изменилось. Сколько раз там, в лагерях, он вспоминал, как бегал туда-сюда вдоль этой исписанной стены, по этим ступенькам… И, лежа на нарах, спрашивал себя: неужели больше никогда не увижу?..
Лидия Викентьевна всплеснула руками, воскликнула: «Смотри, кто пришел!» – но особенно удивлена не была. Зато для Тани его появление было полной неожиданностью.
– Володька… ты… – только и сказала она.
Он решительно подошел к ней, привлек к себе, обнял. Она безвольно поддалась.
– Здравствуй. Вот и встретились.
Они сели рядом на диван и некоторое время смотрели друг на друга.
– Да, – сказала Таня. – Мне казалось это невозможным… что когда-нибудь увидимся…
Она отвернулась и замолчала. Володя видел, как сильно она изменилась. От веселой розовощекой хохотушки не осталось ничего. Мать не зря его предупреждала. Перед ним сидела немолодая, сутулая, иссиня-бледная женщина с погасшим взглядом и сжатыми серыми губами. Встретил бы во дворе, нипочем не узнал бы.
– Видишь, во что я превратилась, – сказала она, все так же глядя в сторону. Словно перехватила его мысль…
– Лагерь никого не украшает, – проговорил он со вздохом. – Ты все же молодец, другие возвращаются в еще худшем состоянии. А вот Вася Анохин вообще не вернулся…
Оба надолго замолчали. Лидия Викентьевна сказала:
– Я на кухню, чайник поставлю. Попьем с Володиными конфетами.
Они остались в комнате одни. Таня вздохнула и посмотрела на Володю:
– Я слыхала, ты учишься. На историческом? Молодец. А я не могу учиться: концентрация отсутствует, мысли разбегаются. Я, знаешь, болею… Да ты знаешь, конечно.
Работать? Может быть, если что-нибудь подходящее найдется, несложное. А вообще-то у меня инвалидность.
Они опять замолчали. Появилась Лидия Викентьевна с горячим чайником. Расставила чашки, пригласила к столу. Но и за чаем оставалась какая-то неловкая скованность. Лидия Викентьевна попыталась наладить разговор:
– Володя, расскажи про университет. Как там?
– Обыкновенно. Учусь. Вообще-то учиться интересно, я люблю историю. Профессора есть такие – заслушаешься. Но есть и скучные лекции, и ненужные предметы. Ребята? Да ничего вроде. Я, по правде говоря, ни с кем особенно близко не общаюсь. Они моложе меня, и потом… Я такое повидал, им это не понять. А я и объяснять не стану…
– И Танюша ничего мне не рассказывает. А я ведь не посторонняя, я мама. – Это было сказано непосредственно Тане.
– Я тоже маме не рассказываю, – пришел ей на помощь Володя. – Зачем расстраивать? Да и вспоминать неприятно. Единственно, с кем об этом можно говорить, – с теми, кто сам там побывал. У меня есть такие знакомые.
Таня сидела все время с отрешенным видом, глядя в пространство, и непонятно было, слушает она гостя или нет.
– Я выйду на кухню, посуду помою, – сказала Лидия Викентьевна.
Таня вдруг отозвалась:
– Я помою позже, мама.
Но мать все же вышла, и они снова остались одни. Володя решительно придвинулся к Тане и, понизив голос, сказал:
– На процессе ты вела себя молодцом. Мы видели, как тебе трудно, как тебя сбивали, чтобы ты дала показания против меня и Васи. А ты держалась.
– Да? Я суд плохо помню. – Она потерла лоб и глаза. – Я уже в лагерной больнице начала в себя приходить, вспоминать, как что было. И вот что хочу сказать. Если бы ты не стал эту сказку про Сталина рассказывать, ничего бы и не было. Так нельзя, надо о других думать…
Когда на что-то подобное намекнул Котельников, Володя его просто выгнал. И поступил бы так со всяким, кто посмел бы вякнуть что-нибудь в таком духе. Но это была Таня, его друг на протяжении всей жизни, она бесстрашно вела себя в суде, повторяя, что это никакая не контрреволюция, а просто шутка, и что кроме нее сказку никто и не слышал. А тут она такое говорит…
Володя еле перевел дух. Но он не имел права не ответить Тане:
– Я сказал тогда правду – вот что главное. Теперь вон Хрущев говорит об этом с трибуны съезда, а я сказал это тогда, в пятьдесят первом. Где он тогда был, смелый Хрущев? Молча лизал задницу великому вождю и учителю. Таня, если мы будем всегда молчать, то что будет со страной, то есть со всеми нами? Сначала они убили твоего отца, а теперь говорят: «Извините». Потом посадили нас с тобой, теперь говорят: «Извините». А Вася погиб ни за что… Так же нельзя, надо что-то делать.
– Делать, а не рассказывать сказки. Ты же поставил под удар людей.
– Таня, пойми: всякому делу предшествует слово. Кто-то должен сказать: нет, неправильно, надо менять. У нас ведь ни газет, ни радио, мы просто должны говорить друг с другом.
– И Вася, и Римма, и Ося Гельбергер – все пострадали из-за тебя, – сказала Таня тихим бесцветным голосом, словно не услышала его слов. – Ты хочешь быть правдивым и смелым – хорошо, но не за счет других.
– Почему же я виноват?! – Володя почти кричал. – Виноваты те, кто уничтожают людей за слово правды.
Таня посмотрела на него тоскливым взглядом.
– Кому нужна такая правда, если она несет несчастье людям? О людях нужно думать прежде всего.
Когда Лидия Викентьевна вернулась в комнату, Володя поспешно надевал плащ, а Таня молча сидела за столом, все так же глядя вдаль.
– Так скоро? Володя! Посиди, поговорим про университет. В кои веки…
– Нет-нет, мне пора, завтра трудный день. Спасибо за чай.
Володя вышел на лестницу и поспешил вниз. Он точно знал, что видит эти обшарпанные стены с надписями в последний раз.
В конце 1958 года, когда Володя был на третьем курсе, в среде интеллигенции ходило много разговоров о романе «Доктор Живаго» и судьбе его автора Бориса Пастернака, которого официальная пресса безудержно травила за публикацию романа на Западе. В курилке библиотеки имени Ленина мнения спорщиков разделились. Одни считали, что Пастернак поступил неправильно, его поступок на руку врагам Советского Союза, другие говорили, что если произведение отказались печатать у нас в стране, автор имеет моральное право опубликовать его за границей. Когда Володю спросили, каково его мнение, он сказал, что не может об этом судить, поскольку романа не читал. Ему кто-то возразил, что дело не в содержании романа, а в принципе: может ли советский писатель публиковать за границей отклоненное нашими редакциями произведение. Но Володя настаивал, что для ответа на этот вопрос существенное значение имеет содержание произведения.
Несколько позже в коридоре к нему подошел с вопросом Валерий Андреевич:
– Это просто отговорка или вы в самом деле не читали? Я могу дать вам почитать.
И Володя получил пачку папиросной бумаги с бледным текстом.
– Я верну через два дня, – заверил его Володя, но Валерий Андреевич сказал, что возвращать не обязательно и он даже может дать почитать надежному человеку. При этом условие такое: тот человек не должен знать, у кого сам Володя получил текст, а Володя не должен рассказывать, кому отдал этот текст. Никому, в том числе и ему, Валерию Андреевичу.
Так Володя приобщился к самиздату. В течение следующего года он прочел значительное число самизда-товских страничек: «1984» Джорджа Оруэлла, «Слепящую тьму» Артура Кестлера, «По ком звонит колокол» Хемингуэя и много чего еще. Причем источником был не только Валерий Андреевич, и даже главным образом не он.
Через обмен самиздатом у Володи образовался круг новых знакомых, с которыми он обсуждал прочитанное.
Среди них особой активностью отличалась девушка его возраста, звали ее Жанна Агранович (познакомился с ней Володя на почве самиздата все в той же библиотечной курилке). По образованию она была биологом, работала редактором в издательстве «Знание». Она подробно и темпераментно рассказывала Володе о положении в биологической науке, где руководство захватили лысен-ковцы, которых она называла авантюристами и шарлатанами. Выйдя вместе из библиотеки, они часами гуляли по Волхонке, по Каменному мосту и набережной, разговаривая обо всем на свете. Жанна знала о лагерном прошлом Володи, в ее глазах он был героем, пострадавшим за правдивое слово, она много раз просила его рассказать о судебном процессе, «как все было на самом деле».
Постепенно они прониклись друг к другу доверием, стали видеться чуть ли не ежедневно. И единственная причина, почему эти отношения не перешли в любовь, во всяком случае со стороны Володи, – Жанна была внешне непривлекательна. Маленького роста, щупленькая, без сколько-нибудь различимых женских форм, лицо узкое, веснушчатое, обрамленное рыжеватыми волосами. Правда, на лице выделялись выразительные, всегда оживленные карие глаза. Но еще на примере толстовской княжны Марьи все знают, что когда у женщины нет никаких внешних достоинств, говорят о ее глазах… В общем, любви не получилось, но дружба сложилась крепкая, надежная. И когда на допросе в КГБ его спрашивали, обменивался ли он самиздатом с Жанной Лазаревной Агранович, он твердо повторял: «Никогда».
А происходило это так. В ноябре 1960 года Володя получил повестку: следователь КГБ вызывал его в качестве свидетеля. По какому делу – сказано не было. Это могло значить что угодно, даже пересмотр старого дела 1951 года. Володя пытался уговорить себя, что нужно быть спокойным, бояться нечего, но все равно ночь перед допросом спал плохо и явился по указанному в повестке адресу с головной болью.
К его удивлению, это было не учреждение, а обыкновенный жилой дом. Он поднялся на второй этаж и позвонил в обычную квартиру. Дверь немедленно распахнулась, на пороге стоял молодой мужчина в добротном сером костюме.
– Заходите, Владимир Федорович, мы вас ждем, – сказал он тоном радушного хозяина, и Володе стало не по себе. Его впервые в жизни назвали по имени-отчеству.
Второй следователь, пожилой мужчина, представившийся как Петр Николаевич, объяснил Володе, что его вызвали свидетелем по делу Пилипенко и следователи рассчитывают на его, Володину, патриотическую сознательность.
– Кто такой Пилипенко? – искренне удивился Володя.
– Ваш знакомый по библиотеке Валерий Андреевич Пилипенко. Он арестован по делу об изготовлении и распространении печатных материалов антисоветского характера. Постарайтесь припомнить, Владимир Федорович, названия тех произведений, которые вы получали от Пилипенко.
Странно, но в эту минуту Володя перестал волноваться: все понятно, больше нет этой действующей на нервы неопределенности. И Володя ответил уверенно:
– А мне и вспоминать нечего. Никаких печатных материалов антисоветского характера мне Валерий Андреевич никогда не давал.
– Вы уверены? Припомните получше. Например, «По ком звонит колокол»…
– «По ком звонит колокол»? Хемингуэя? Антисоветское произведение? – Володя рассмеялся.
– Видите ли, Владимир Федорович, – сухо пояснил следователь, – распространение на территории Советского Союза всякого произведения, не одобренного Гослитом, считается преступлением. И не будем здесь играть в литературоведение. Итак, «По ком звонит колокол», а что еще? Что еще давал вам подследственный?








