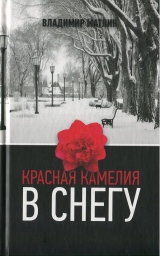
Текст книги "Красная камелия в снегу"
Автор книги: Владимир Матлин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Командовал нашей армией генерал Андерс, который сам до того сидел в советской тюрьме. Нас всех сконцентрировали в Средней Азии, там продолжалось формирование. Сталин не доверял Андерсу и вообще полякам. Первую половину сорок второго года мы сидели в Узбекистане. К середине лета были сформированы шесть дивизий. Советские, как я понимаю, не знали, что с нами делать: все-таки около ста тысяч человек, включая членов семей, – незаметно не перебьешь. А с союзниками Сталин тогда еще вынужден был считаться. В общем, мы Сталину здорово мешали, и он решил нас всех в полном составе выпроводить за границу. Куда? В Иран, который тогда был под властью англичан. Так мы оказались в составе английской армии, хотя, заметьте, присягу мы давали Польше. Еще раньше несколько офицеров во главе с полковником Берлингом откололись от Андерса, ушли к советским и стали формировать другую польскую армию, под покровительством НКВД.
Зубов сделал большой глоток и замолчал. Признаться, я был удивлен, хотя старался не показать вида. Как же так, я прожил всю жизнь в Советском Союзе, где об Отечественной войне говорят постоянно и подробно, а эту интереснейшую историю никогда не слышал?
Мне хотелось узнать, что происходило дальше, как он воевал в составе польского корпуса английской армии, но в тот день он свой рассказ не продолжил, мы допили пиво и разъехались по домам. Я рассчитывал увидеть его у Фишманов, но там он появлялся редко. А в тех случаях, когда я его там видел, мне казалось, что с Айрой у него отношения прохладные, а дочку он даже раздражает.
Встретились мы случайно в библиотеке. Зубов сидел за столом, заваленным книгами на английском и польском и делал какие-то выписки. Я подошел к нему сзади, незаметно, и заглянул через плечо:
– Ага, значит, книга действительно пишется.
Чтобы не мешать другим, мы вышли на улицу и расположились на скамейке у входа.
– На самом деле, – сказал он, – книга давно написана. Это я уже дописки и примечания делаю. Написал по-польски и перевел на английский. С переводом мне помогли.
– Пытались опубликовать?
Он не то хмыкнул, не то засмеялся:
– Пытался неоднократно. Все отказались. Американские издательства просто боятся.
– Боятся? Кого боятся? – Я был недавним эмигрантом из коммунистической страны и полагал, что если нет государственной цензуры, то бояться некого.
– Видите ли, об этих событиях еще никто не писал. Одна Катынь вызывает ужас: «Как такое могло быть? Это нереально, это геббельсовская пропаганда, скорей всего. Мы не можем идти на поводу у антикоммунистов». В их мире высоколобых либералов (а это практически все издатели) прослыть антикоммунистом – страшный позор, все равно что поддержать сенатора Маккарти. Надеюсь, слышали о таком. Еще пытался издать в польском иммигрантском издательстве. У тех свои претензии: «Что вы на каждой странице о польском антисемитизме, хватит уже… А тех поляков, которые спасали евреев с риском для жизни, вы забыли? Такая книга вызовет законное возмущение в польской общине. Нет, нам это не нужно».
Все это удивляло меня, казалось таким странным и неожиданным. Но мне хотелось знать продолжение его истории, я предложил встретиться опять, и он пригласил меня к себе домой:
– Живу я скромно, один, но выпить-закусить найдется.
Действительно, жил он куда как скромно: маленькая квартирка в убогом районе, где мусор постоянно на тротуарах, а полицейский под окнами. Но в квартире было на удивление чисто, цветы на подоконниках, стол накрыт белой скатертью. Казалось, в доме есть хорошая хозяйка, но я знал от Барбары, что жена оставила Зубова много лет назад.
– Я тут тряхнул стариной и приготовил бигус, настоящий, с колбасой, со свининкой.
– Со свининой? – переспросил я.
– А вы соблюдаете кошер, что ли? Да бросьте, настоящее еврейство не в этом.
Под бигус мы славно выпили, и, убирая тарелки, он сказал:
– Так вот, о настоящих евреях. Я уже рассказал вам, как мы, польский корпус, оказались в составе английской армии на Ближнем Востоке. Сначала Иран, потом Ирак, Сирия и, наконец, Палестина. Конец сорок второго года. В Палестине назревает конфликт между евреями и английской администрацией. Чего хотят евреи? Много чего, а в конечном счете – независимого государства. Да, ни больше ни меньше. Я это услышал и только пожал плечами. Кто это даст вам государство, шутники вы эдакие? Хватит жить химерами – социализм, коммунизм, интернационализм, сионизм… Здесь, в польском корпусе, мы воюем с нацизмом, вернемся домой освободителями (кому повезет вернуться), новая жизнь в Польше начнется. Но не все так думали. Большинство евреев – а в корпусе по разным сведениям нас была то ли тысяча, то ли четыре – полагали совсем не так. «Поляки, немцы, русские, украинцы – все нас ненавидят. Нам нужна своя страна – вот именно здесь, в Палестине. И раз уж нам так повезло, что мы оказались здесь, какого черта идти еще куда-то. Англичане обещали нам национальный очаг в Палестине, а теперь от всего отказываются. С какой стати нам служить в английской армии?» И они потихоньку уходили из корпуса. Многие ушли. Но были и другие. Помню одного – такой щупленький, губастый очкарик, в чем только душа держится. И вот он заявляет: «А я принципиально не хочу уходить из корпуса самовольно, чтобы потом меня всю жизнь дезертирством попрекали». И вместе с четырьмя другими солдатами подает официальное прошение: отпустите нас из польского корпуса, хотим бороться с нацизмом в рядах своей национальной армии. Дело дошло до командующего, до генерала Андерса. И что вы думаете? Он их отпустил. Больше того: тех, кто ушел без разрешения, то есть дезертиров, он распорядился оставить в покое и не преследовать. Как это понять? Генерал сочувствовал идеям сионизма? Или не хотел видеть в корпусе евреев? Непонятно… Да, а этого принципиального очкарика сегодня все знают: премьер-министр Израиля Менахем Бегин. Не зря старался…
Мы пересели на продавленный желтый диван, и Зубов разлил приготовленный кофе.
– А в боях корпус Андерса участвовал? – спросил я и по его взгляду понял, что сморозил ужасную бестактность.
– Вы когда-нибудь слышали такое название: Мон-те-Кассино? – ответил он вопросом на мой вопрос.
– Нет, не слышал.
(Не будем забывать, что разговор происходил где-то в семьдесят седьмом году, я только недавно выбрался из Советского Союза.)
Он сокрушенно покачал головой:
– Так-то вот. Почти никто не слышал. Оно и понятно: кто расскажет? Англичане – все про свой героизм, американцам вообще все до лампочки, а в Польше мы враги, предатели социалистической родины. Вот если бы моя книжка вышла… А повоевать нам пришлось, еще как пришлось. И на Ближнем Востоке, и в Африке, но главное – в Италии. Нас туда перебросили в начале сорок четвертого. Союзники готовили наступление на Рим, а дорогу им преграждала «линия Августа». Немцы держались там крепко. (Вы, конечно, помните, что к тому времени Италия была оккупирована немцами?) Главным опорным пунктом «линии Августа» была крепость Мон-те-Кассино, это примерно на полпути между Неаполем и Римом. Крепость представляла собой гору со склоном длиной примерно пятьсот метров, а наверху – развалины монастыря. Кто его разрушил, не знаю: может, какие-нибудь средневековые варвары, а может, американская авиация за неделю до нашего прибытия. В этих развалинах немцы установили пулеметы и артиллерию и простреливали весь склон насквозь, каждый сантиметр. До нас британцы и американцы трижды штурмовали монастырь, но были отброшены с большими потерями. Их неубранные трупы покрывали весь склон. Так мне гора и запомнилась: трупы и камни.
И вот мы получаем приказ взять крепость штурмом. Штурм этот длился семь дней, с 11 мая по 18-е. На седьмой день над развалинами монастыря был поднят польский красно-белый флаг. Это была большая победа, и цена за нее уплачена большая. Наш 2-й батальон, к примеру, начинал штурм в составе девятисот шестидесяти человек, к концу штурма осталось тридцать восемь. После боя подсчитали, что продвижение корпуса вверх по склону на каждый метр обходилось потерей восьми человек. Позже сочинили песню «Маки на склонах Монте-Кассино пьют не росу, они пьют польскую кровь». Не знаю, может, маки там сейчас и растут, но когда я там был – одни камни и полуразложившиеся трупы.
Конца боя увидеть мне не довелось: на третий день был ранен и отправлен в госпиталь. А произошло это так.
Я отвечал за связь. В моей команде три солдата, я командир, мы тянем телефонный провод. Ползем на брюхе под непрерывным огнем от камня к камню между трупами британских солдат. Уже на второй день нас осталось двое, на третий – я один. Ночью весь склон освещается ракетами и обстрел не прекращается. К концу третьего дня перебило провод. Недалеко, метрах в тридцати от нас, вниз по склону. Делать нечего, ползу назад. Все камни и трупы знакомы: познакомился утром на пути вверх. Дополз благополучно, починил повреждение, надо ползти обратно. А немцы минометный огонь по этому участку открыли. Лежу за камушком, затаив дыхание, пытаюсь вдавиться в землю. Но ведь надо ползти назад, там майор ждет связи, материт меня последними словами, наверное. Я осмотрелся, и вот мне показалось, что если взять чуть левее, то через несколько метров попадешь под защиту большого камня, вроде валуна – там можно отсидеться некоторое время. Успешно дополз до камня. Смотрю, там два трупа солдат лежат: один новозеландец, другой темнолицый, индус, наверное, – в британской армии все колонии представлены. Вот тебе и раз, думаю, значит, валун не очень-то защищает. Только я подумал, как тут же метрах в пяти от меня разорвалась немецкая мина. Надо сказать, что на этих проклятых камнях не так страшны осколки самой мины, как кремневые осколки – мелкие, острые и летят тучей…
Меня всего так и обдало. Врачи потом двадцать два ранения насчитали – в голову, грудь, ноги… Сознание сразу потерял, полностью отключился. Как меня оттуда вытащили, не почувствовал, пришел в себя только в госпитале. А кругом все говорят по-английски. Поправлялся я медленно, и, видя, что хромота останется и в строй я не вернусь, врачи переправили меня в Англию. Так кончились мои боевые подвиги.
На улице стемнело, и Зубов включил свет. Грязноватые тени заплясали на стенах комнаты. Зубов извлек из шкафчика над плитой бутылку бренди. Налил в чайные чашки.
– Выпьем за гостеприимную Англию. Я болтался там весь сорок пятый год, лечился и отдыхал, а в сорок шестом польский корпус распустили. Всех демобилизовали. У польских солдат был такой выбор: остаться в Англии или вернуться в Польшу. Нам очень скоро стало известно, как новый польский режим относится к нашим людям: как к врагам. Многие наши примкнули к действовавшей в Польше антикоммунистической Армии Крайовой. И еще кое-что: стали доходить слухи о еврейских погромах. Несчастные, чудом оставшиеся в живых евреи возвращались в свои местечки и там становились жертвами диких погромов. А в Кельце вообще пустили слух, что пропал мальчик, а значит, виноваты евреи – ритуальное убийство. Мальчик потом нашелся, но к тому времени сорок два человека были растерзаны толпой. Польша остается Польшей…
Желание вернуться на родину быстро испарилось. Губастый очкарик, выходит, был прав… Но к тому моменту у меня появилась третья возможность: Америка. Произошло вот что. В сентябре сорок пятого на праздник еврейского Нового года я пошел в местную синагогу. Должен признаться, дома я в синагогу не ходил, наверное, ни разу после бар-мицвы. С чего меня потянуло туда, понять можно: после всего, что я видел и слышал, захотелось побыть среди подобных себе… Народу там набилось много – и внизу, и наверху, на женских местах. А выходя, я познакомился с сержантом медицинской службы американских ВМС Эйдой Бирнбаум. В той же синагоге в феврале сорок шестого мы обвенчались под хупой. Так я попал в Америку – как член семьи американской военнослужащей. Давайте выпьем за Америку, страну, которая всех готова приютить и ни от кого ничего не требует.
Из чайных чашек мы выпили бренди за Америку.
Вскоре после той встречи в моей жизни произошли изменения: я устроился на работу по специальности, а до того кормился всякими случайными работами. У меня начались командировки, сверхурочные, авральные и тому подобное – в общем, свободного времени не стало. С Фишманами мы почти не встречались, разве что изредка, по большим праздникам. С дедушкой Зубовым обменивались редкими телефонными звонками. Он всегда говорил одно и то же: все по-прежнему, жив пока. Так прошли годы. Я успешно продвигался на службе, жена получила диплом бухгалтера и тоже работала, Катя училась в предпоследнем классе, а старшая девочка Фишманов уже была на первом курсе колледжа. И вот однажды поздно вечером неожиданно позвонил Зубов и сказал, что очень хочет встретиться со мной. Я предложил приехать к нам, но он возразил:
– Я бы хотел поговорить с вами с глазу на глаз, мне нужно объяснить вам кое-что.
Договорились встретиться у него в воскресенье днем. Он предложил было бигус, но я сказал, что обедать должен дома, семью редко вижу.
И вот я снова в его чистенькой бедной квартирке, сижу на продавленном желтом диване. За эти годы ничего не изменилось, разве что диван еще больше просел. В руках мы держим чашки с бренди.
– Выпьем на дорогу, – говорит он. – Пожелайте мне успехов в новой жизни.
Я смотрю на него, обалдев:
– Вы уезжаете? Куда?
– В Польшу. Навсегда.
Я чуть не выронил чашку.
– ??? – от удивления я не мог вымолвить ни слова.
Он, напротив, держался спокойно:
– За тем я и позвал вас, чтобы объяснить свой поступок. – Он отхлебнул и поставил чашку на стол. – Вы знаете, что я к Америке отношусь хорошо – добрая страна и все такое… Но, откровенно говоря, я здесь никогда не был счастлив. Понимаете ли, я здесь никто, как есть никто, хромой старик с иностранным акцентом – и все. Я даже не инвалид войны, потому что этот статус подразумевает, что человек воевал за Америку, тогда он весьма уважаем. А я воевал за Польшу. Кто знает, что такое Польша? Меня не раз спрашивали: «На чьей стороне Польша была во время войны – за нас или за немцев?»
В Америке у меня, можно сказать, нет никакого социального статута. И так было с самого начала. Мы с Эйдой, бывшей женой, прибыли в Америку в конце сорок шестого. Надо устраивать жизнь. Эйда как демобилизованная имеет привилегии при поступлении на работу, но она на пятом месяце беременности. А позже у нее на руках ребенок, Барбара. Средства на жизнь должен добывать я, так ведь? А что я могу? Языка тогда я не знал, к простой физической работе был непригоден из-за хромоты. Попытался торговать подержанными автомобилями – не пошло. Даже кассиром в супермаркете не смог. Маленькую пенсию мне платило британское правительство, но на это не проживешь. (Пенсию от американского правительства я тогда еще не получал.)
А у меня амбиции: мне страстно хочется поведать миру, как это было, как мы воевали, как победили и как обошлась с нами родная страна. У меня внутри пожар горит, пепел убитых товарищей стучит в мое сердце. Я начинаю писать статьи – по-польски, конечно, других языков не знаю. В редакциях не берут, смотрят на меня как на опасного чудака. А дома плохо, жить не на что, Эйда на пределе… Она права, я понимаю. И вот однажды вечером, когда она уложила Барбару, мы сели на этот диванчик, я взял ее руку и сказал, что наш брак – ошибка, что я не гожусь в мужья и отцы, хуже того, не вижу, как эта ситуация может измениться, и сочту ее правой, если она возьмет Барбару и уйдет. Она заплакала, проплакала всю ночь, сидя здесь, на этом диване, а утром собрала ребенка и уехала к родителям в Пенсильванию. Больше я ее не видел. Знаю, что жила она у родителей, работала медсестрой в больнице и однажды, возвращаясь ночью с работы, погибла в автомобильной аварии. Уснула за рулем.
С Барбарой я восстановил отношения, когда она уже стала взрослой и по счастливой случайности приехала с мужем жить в наш город: муж получил должность в местном университете. Отношения у нас вполне хорошие, но… вы, наверное, заметили. Как бы сказать?.. Без особой родственной теплоты. Скорей всего, она не может простить мне развала семьи, считает меня безответственным эгоистом. Может быть, по-своему она права… Над моим желанием распространять правду о польских событиях они подтрунивают. Я вам говорил, что у меня есть английский перевод, но нет большого желания давать им читать. Вот я и сказал, что пишу книгу по-русски. Они отнеслись к этому скептически. Тот случай с русским языком – помните? – при нашем знакомстве… Они хотели поставить меня в неловкое положение, разоблачить. Но благодаря вашей доброте и находчивости это у них не получилось. Айра, между нами, человек ехидный, да и очень уж другой по своим взглядам: жгучий либерал с явными прокоммунистическими симпатиями. Ну, вы знаете – типичный университетский профессор…
А в Польше – вот там как раз с коммунизмом разобрались. Все меняется. Официальные догмы мертвы, отношение к прошлому пересматривается. Мы, солдаты Андерса, герои, истинные патриоты. Я списался с комитетом ветеранов – меня там помнят! Приезжай, пишут, тебе пенсию и награды дадут, ты же участник штурма Монте-Кассино, национальный герой! Книгу мою готовы издать хоть сегодня, только дай! Мог ли я мечтать, что доживу до такого дня: из «пархатых жидов» в «национальные герои»… Конечно, я понимаю, что вековой польский антисемитизм не исчез в одночасье, я не так ослеплен. Но лучше пусть ненавидят меня польские антисемиты, чем не замечают добродушные американцы. Я больше не хочу быть никем.
Так мы расстались, и он уехал. Я живу по-прежнему, семья в порядке, много работаю, с Фишманами почти не вижусь, а о Зубове думаю часто. Как он там? Счастлив ли в этой своей Польше, которую ненавидит и без которой жить не в состоянии?
Может быть, когда-нибудь узнаю.
СОБАЧКЕ ЖОРЖ ЗАНД
Музыка доносилась из глубины галереи.
Над стеклянным куполом сгущались сумерки, на столах зажигались светильники, и пустота за перилами, потемнев, превратилась в бездну. Время от времени на противоположной стороне бездны проносилась ярко освещенная прозрачная кабина лифта, пассажиры внутри нее выглядели артистами на сцене.
Белый рояль был установлен на небольшой возвышенности вроде эстрады. Пианистку они видели в профиль – прямая спина, рассыпанные по плечам рыжие волосы.
Они сидели за столиком возле самых перил.
– Та-та-та, та-та-та… Узнаешь? Что же ты, в самом деле! Я тебе это играла. Прислушайся: та-та-та…
Ее пальцы двигались по мраморной поверхности стола, перебирая воображаемые клавиши. Узловатые, с желтыми пятнами пальцы. Он смотрел на них и думал о том, как сильно сдала она за последнее время. Это уже не просто возраст…
Он помнил это движение пальцев всю жизнь – не по клавишам, а по поверхности стола, как сейчас между чашкой остывшего кофе и рулетом.
– Та-та-та… Ну?
Он несмело улыбнулся:
– Кажется, Шопен.
– Ясно, Шопен, но что именно?
– Ты же знаешь, мне медведь на ухо наступил.
– Оставь, слышать не хочу! – Она сделала свой обычный протестующий жест, словно отталкивая что-то ладонями. – Людей без слуха не бывает, только надо уметь его развить. Конечно, не всякому дано стать профессионалом, но в какой-то степени…
Она замолчала, прислушиваясь к музыке, пальцы застыли, лицо приняло отрешенное выражение.
– Все расползается, нет фразы, – проговорила она сокрушенно. Потом оживилась. – Я этот вальс репетировала с тобой на коленях для выпускного концерта.
– Ты мне рассказывала много раз – концерт не состоялся.
– Отчего же не состоялся? Наверняка состоялся, только без меня. Они сразу же сообщили в консерваторию. К тому же я осталась без рояля, когда они опечатали большую комнату. А нас с тобой – в проходную. – Она помолчала, потом вздохнула. – Впрочем, это было только начало…
Он знал все эти подробности, она не скрывала от него, как это делали другие матери в подобных обстоятельствах, не говорила, что отец погиб на фронте или, там, уехал в экспедицию на Северный полюс. Он знал, что случилось с отцом, он рос с этим знанием.
– Это очень грустная вещь. Не светлая грусть, нет, здесь безнадежность, почти что отчаяние, прикрытое меланхолией. Ведь неслучайно он посвятил вальс не ей самой, не Жорж Занд, а ее собачке. Он не верил ее любви, вот в чем дело, – она скорее сострадала, чем любила. А когда она его оставила, он умер от тоски. В тридцать девять лет… И все это рассказано здесь, этими звуками. Слышишь? Та-та-та, та-та-та…
Не слушая ее слов, он следил за ее пальцами, перебиравшими воображаемые клавиши.
…Воняло подпорченной рыбой.
Из своего угла под прилавком он видел бочку, из которой ее пальцы время от времени выхватывали рыбину и бросали на весы. Несмотря на холод, руки были заголены по локоть, и прежде чем бросить рыбу на весы, она стряхивала с пальцев бурую жижу. От этой соленой жижи, он знал, руки пухли, покрывались пузырями. Дома она смазывала руки постным маслом, и запах постного масла навсегда соединился в его памяти с запахом ее рук. Несколько раз, просыпаясь ночью, он видел, как, сидя полуодетая на топчане, она разглядывала свои руки и плакала. «Тебе больно?» – хотел он спросить, но не мог пересилить сон.
Из своего угла под прилавком он не видел очереди, а только слышал нестройный гул. Он выделял в этом гуле какой-нибудь голос и прислушивался, как этот голос приближался от входа в магазин к прилавку. То и дело в очереди вспыхивали скандалы. Его пугала ненависть, с которой люди орали друг на друга. Когда вопль становился особенно громким, она прекращала работу (он видел опущенные руки) и, стараясь перекрыть их голоса, выкрикивала: «Прекратите! Отпускать не буду, пока не прекратите!» И крик стихал – постепенно, нехотя.
Но иногда объектом ненависти становилась она сама, и это было особенно страшно. Затевал чаще всего какой-нибудь инвалид.
– Гляди, с гулькин хрен ложит. С гулькин хрен ло-жит бумаги на весы, а на заворотку – вон сколько, простыня! – начинал он, как бы рассуждая вслух. И тут же срывался на крик: – Это же за наш счет! На кажном-то весе – посчитай сколько… А тут на одну инвалидную пенсию!..
– Ладно вам, – пыталась она урезонить, – бумага и бумага, кто ее мерит? Хватит вам…
– Ничего не хватить! – орал инвалид еще страшнее. – Глаза твои бесстыжие, блядские! Грабить людей прямо на виду! Ужели терпеть будем?
В такие минуты казалось, что толпа вот-вот опрокинет прилавок и бросится на мать и бочонок с рыбой. Холодея от ужаса, он замирал в своем углу. В последний момент из конторы появлялся завмаг Фомичев – в потертом военном кителе с медалями, пустой рукав заколот булавкой.
– Чего шумим, кореш? – говорил он негромким хриплым голосом. – Вот далась тебе эта бумага, делов-то… Да брось ты, ей-богу! Скажи лучше, где воевал-то? Не на Втором Белорусском? А то, может, соседи были? Заходи сюда, поговорим.
Он уводил инвалида к себе в контору, бросив на ходу:
– А ты, Исаевна, не стой, отпускай. Погорячились и будет…
В очередь инвалид не возвращался. Он уходил через черный ход, нетвердой походкой, и долго прощался в дверях с Фомичевым:
– Дай пять, кореш! Ты правильный мужик.
Фомичев вызывал противоречивые чувства. С одной стороны, с ним была связана последняя надежда на защиту от толпы. Но когда тот же Фомичев, дыша в лицо вином, начинал учить его «уму-разуму», за что-то отчитывая, даже непонятно за что, то и дело поминая, что в его возрасте уже работал, помогал семье, ему становилось мучительно неловко. «Балуешь парня, Исаевна», – говорил Фомичев матери, а та отвечала виноватым голосом, что мальчонка-то неплохой, учится хорошо, не озорует. Его угнетал этот жалкий тон и то, что, разговаривая с завмагом, она употребляла несвойственные ей слова: «мальчонка», «озорует», «кажный»…
Однажды, когда он проснулся среди ночи, ему показалось, что он видит Фомичева спящим на топчане. На следующий день он спросил мать, верно ли, что он видел ночью на топчане Фомичева, но она громко засмеялась, воскликнула «что ты?», словно отталкивая ладонями нелепое предположение, и сказала, что это ему, должно быть, приснилось, не иначе.
– Узнаешь? Та-та-та… Это этюд си-минор, знаменитый. Впрочем, они все знаменитые. Узнаешь? – И после паузы: – Техника у нее как будто неплохая, но совершенно не чувствует, что играет.
– А для кого ей, собственно говоря, стараться? – Он повел рукой, приглашая убедиться. В разных концах галереи за столиками сидели несколько пар, занятых кофе и булочками с корицей; они разговаривали, смеялись, и кофейные чашки уютно звякали о мраморную поверхность стола.
– Что ты говоришь! Это же все равно публичное выступление, концерт! – И со вздохом добавила: – Концерт, пусть хоть какой…
Она думала о своем, покачивая головой в такт музыке. Он придвинулся и заговорил:
– Если для тебя это было так важно… то есть, я знаю, что всегда было очень важно. Я только хочу спросить, почему ты не попыталась заняться чем-нибудь, связанным с музыкой? Ну, преподаванием, например.
Она посмотрела на него удивленно:
– Преподавать? Да кто бы мне позволил – жене врага народа!
– Ну, частные уроки…
Она рассмеялась. Он подумал, что смех у нее совсем молодой – такой, как был всегда.
– Вспомни, где мы жили. В тех местах и гармони приличной не было, а ты – рояль…
Он тоже засмеялся, представив себе рояль «в тех местах».
– А позже, когда папу реабилитировали?
– Слишком «позже»… Мне уже было за сорок – опять в консерваторию поступать? А на что жить? Может, если бы мы в эту страну приехали не год назад, а лет тридцать…
Она взглянула на свои руки и спрятала их под стол.
Неожиданно музыка оборвалась. Пианистка покрутилась на своем сиденье, вытянула из-под рояля сумочку и быстрым шагом направилась к выходу, лавируя между столами. Крышку рояля она оставила открытой.
– Что это она вдруг? – Он вопросительно взглянул на мать, но та не ответила: она внимательно рассматривала рояль.
– «Стейнвей». Звук дивный…
Опершись о стол, она резко поднялась – так резко, что он вздрогнул, – и решительно двинулась по проходу между столами. Она шла, ссутулившись, переваливаясь на непослушных ногах и задевая сидящих за кофе людей. Он поспешил за ней. У возвышенности произошла заминка: она не смогла преодолеть с ходу ступеньку, но, попытавшись опять, все же справилась, поднялась на эстраду и подошла к инструменту. Некоторое время она разглядывала клавиши, потом осторожным движением протянула к ним руку, дотронулась… Он знал этот ее жест: так она гладила его волосы; ему даже показалось, что он ощущает запах ее рук, смешанный с запахом постного масла.
Она медленно опустилась на сиденье.
– Нет, нельзя! Слышишь? Это не для публики!
Он стоял у края эстрады и махал руками, пытаясь привлечь ее внимание. Она его не слышала или делала вид, что не слышит. Устремив взгляд вверх, к темному куполу, она расправила плечи, выпрямила спину и заиграла – уверенно и громко. Он сразу узнал шопеновский вальс – тот, про который она говорила, посвящен собачке Жорж Занд.
После ареста отца у них никогда не было рояля, но несколько раз он все же видел ее за инструментом. В Ленинграде у нее была давняя знакомая, подруга по консерватории, которая каким-то чудом пережила в своей довоенной комнате с пианино сталинские чистки, войну, блокаду, реконструкцию города и все остальное. Примерно раз в месяц мама ездила к этой подруге. После чаепития они играли весь вечер, по очереди садясь за инструмент. Иногда мать звала его с собой. И хотя ехать было далеко, а беседовать за чаем довольно скучно, все же он отправлялся, понимая, как ей хочется играть для него.
…Привлеченные громкими звуками, люди за столиками затихли, повернулись в сторону рояля. С явным интересом рассматривали они неизвестно откуда взявшуюся старую женщину, которая играла с таким упоением.
Вдруг он увидел, как от входа к ним быстро движется рыжая пианистка. Лицо ее выражало недовольство, на ходу она делала протестующие жесты. Он сразу понял, в чем дело. Перемахнув через эстраду, он бросился ей наперерез. За несколько шагов до рояля он преградил ей путь в проходе между столиками.
– Пожалуйста, не прерывайте ее. Ей необходимо… У нее нет инструмента! Я сейчас объясню… – Он старался говорить негромко, чтобы не привлекать внимания публики.
– Я должна ее остановить! Это не разрешается!
Она попыталась протиснуться мимо него, но он схватил ее за руку.
– Отпустите немедленно! – Она смотрела на него жалкими от беспомощности глазами, ее веснушчатое лицо покрылось пунцовыми пятнами.
– Пожалуйста, не сердитесь. Это моя мать, она музыкант, но никогда не играла… я имею в виду, публично не играла. Я сейчас объясню… – Когда он волновался, язык словно застревал в английских словах.
– Что вы говорите? Чушь какая-то. Я здесь отвечаю за рояль. Прекратите немедленно, или позову охрану!
В этот момент музыка оборвалась. Он оглянулся на мать. Она сидела, понуро опустив голову, и рассматривала свои руки. Спина ее снова ссутулилась. Она с трудом поднялась, подошла к краю эстрады и попыталась спуститься. Он поспешил на помощь. Она тяжело опиралась на него, когда они шли к выходу, сопровождаемые недоуменными взглядами.
В лифте она сказала:
– Пальцы не слушаются.
– Ты просто давно не играла.
– Нет, дело не в этом. Совсем по-другому не слушаются…
В ее голосе была горечь.
Уже на улице их окликнули:
– Подождите, пожалуйста! Одну минуту!
От бега пианистка задыхалась.
– Еле догнала. Извините. – Веснушчатое лицо выражало смущение. – Я не хочу, чтобы вы подумали, что я… Мне ведь не жалко, но я не имею права пускать посторонних, я за это отвечаю.
Он перевел ее слова матери.
– Какой это язык? – оживилась пианистка. – Русский? В самом деле? Как интересно! А знаете, по игре вашей мамы можно догадаться – русская школа. Серьезно. Так, знаете, патетично…
– Мама спрашивает, вы студентка?
– Да, заканчиваю здешнюю консерваторию. Вообще-то я из Оклахомы. Вот, подрабатываю по вечерам, три вечера в неделю. Я здесь маленький человек, поймите мое положение…
– Не беспокойтесь, все в порядке. Мама даже не заметила, что вы протестовали. Не беспокойтесь.
– Подождите, вы, кажется, сказали, что ей не на чем играть? – Она порылась в сумочке и протянула ему карточку. – Сюзан Келлог, мое имя. Тут телефон и адрес. У меня есть рояль. Не мой, правда, но неважно. Приходите как-нибудь, пусть играет. Позвоните и приходите. Про Россию расскажете. Вот страна, где я мечтаю побывать…
Ее лицо светилось белозубой улыбкой.
Он перевел ее слова матери, и та не сразу смогла понять:
– Как это? Незнакомых людей – в гости?
А когда поняла, неожиданно обняла Сюзан и поцеловала в обе веснушчатые щеки.








