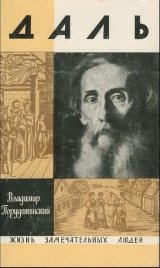
Текст книги "Даль"
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
ШАТКИЕ ВРЕМЕНА
1
Седьмого июня 1849 года Владимир Иванович Даль был назначен управляющим Нижегородской удельной конторой.
И сразу же встают вопросы неизбежные, когда в жизни человека происходят перемены, притом весьма решительные и весьма неожиданные, – почему и зачем.А перемена в жизни Даля (с девяноста ступенек над Невским проспектом – министра правая рука! – и, можно сказать, «в глушь, в Саратов», да не каким-нибудь вице-губернатором нижегородским, а всего управляющим конторою) – решительная и неожиданная. Мельников-Печерский (тогда еще просто чиновник нижегородский Мельников) поистине изумленнопишет Далю, узнав о его решении, о перемене этой, о поворотев Далевой судьбе: «Получив от Вас последнее письмо, Владимир Иванович, я и удивился, и порадовался. Удивился как чиновник, – как, подумал я, с того поста, который Вы занимаете, при Вашем чине, орденах и проч. и проч. идти на должность директора ярмарочной конторы? Так будут удивляться, так будут говорить все чиновники,если исполнится Ваше намерение. Но мертвецам хоронить своих мертвецов. Я порадовался и за Вас, и за литературу, и за себя… Если Вы поживете у нас в Нижнем, Ваш труд подвинется вперед быстро, и литература и Русь скорее дождутся Вашего дорогого подарка, который Вы посулили им» [83]83
ПД, № 27353/CXCVI б. 7.
[Закрыть]. Но в конце письма снова изумление: сам губернатор не верит, что такое важное лицо пойдет на эту должность, что Лев Алексеевич Перовский такого человека отпустит. Но «лицо» пошло, и министр отпустил.
2
Почему?
У историка Бартенева, издателя журнала «Русский архив», читаем: «Утомленный службою, в июле 1849 года Даль испросил себе сравнительно более легкую должность управляющего удельною конторою в Нижнем Новгороде». Ошибка в дате (июнь или июль) здесь значения не имеет – важна причина, тем более, что в январе 1849 года сам Даль писал Погодину: «Хорошо вам, заугольникам, и писать письма, и отвечать вовремя, – а как день за день, не зная воскресенья, сидишь с утра до ночи за такими приятностями, что с души воротит, так вечером и пера в руки взять не хочется». Ну сколько можно жить письмоводом Осипом Ивановичем в чине статского советника – взял и уехал!..
Вот и сослуживец Даля [84]84
Это А. Д. Шумахер. Он прослужил в министерстве внутренних дел 38 лет! Шумахер вспоминает, между прочим, о поражавшем его несоответствии: Даль – «влиятельное» и «значительное» «лицо со столь выдающимися разносторонними способностями», а «по виду… весьма невзрачный чиновник с короткими брюками, в куцем вицмундире».
[Закрыть]вполне объясняет историю отъезда его из Петербурга: «Служба его при Перовском была самая изнурительная: с 8 часов утра до поздней ночи он постоянно был призываем по звонку, нередко с 4-го этажа, где была его квартира, во 2-й, где жил министр, так что, наконец, несмотря на всю необыкновенную выносливость его натуры, он не мог долее продолжать эту поистине каторжную жизнь и просил о назначении его управляющим удельною конторою в Нижний Новгород».
Незадолго перед отъездом из столицы, но когда все уже было решено, Даль по просьбе министра придумал ему девиз для графского герба (Лев Алексеевич стал графом в 1849 году): «Не слыть, а быть». Думается, девиз не просто свидетельство, но также и пожелание; в девизе словно бы «урок» Перовскому и личность Даля.
Когда в трудную для Перовского пору (сам он заболел, доверенных сотрудников рядом не оказалось) Даль предложил, что ненадолго приедет из Нижнего в столицу, чтобы помочь в делах, министр отказал ему вежливо, но достаточно определенно и резко. Об этом стоит вспомнить, принимаясь за Мельникова-Печерского.
3
«В 1848 году граф Перовский, находившийся тогда в сильной борьбе с графами Орловым и Нессельроде, сказал однажды Далю: «До меня дошли слухи, которые могут быть истолкованы в дурную сторону… Что у вас за собрания по четвергам и какие записки вы пишете?» Владимир Иванович с полною откровенностью рассказал все графу Перовскому, которому записки были вполне известны; он все их читал и даже многое сообщал Далю для их дополнений. Министр удовольствовался объяснением, но сказал: «Надобно быть осторожнее». С того дня четверги прекратились, а драгоценные записки погибли в камине. Впоследствии Даль часто жалел об утрате этих драгоценных материалов для нашей истории тридцатых и сороковых годов, но всегда прибавлял: «…Попадись тогда мои записки в недобрые руки, их непременно сделали бы пунктом обвинения Льва Алексеевича». Затем Мельников-Печерский очень трогательно рассказывает, как Перовский «и слышать не хотел об удалении из Петербурга… самого преданного друга» (!); однако здоровье Даля так «сильно пошатнулось», что министр склонился «на самую тяжелую, как он выразился, жертву».
Как видим, Мельников-Печерский, объясняя причины отъезда Даля из столицы, к «утомлению служебными трудами» добавляет «историю» с запрещением «четвергов» и сожжением записок. Мельников-Печерский бесспорно прав в своих обоснованиях, но нельзя не подивиться принятому им ходу доказательств. Желание всячески выказать наипреданнейшую дружбу Даля с Перовским делает рассуждения биографа попросту бессмысленными. «Какие записки вы пишете?» – спрашивает министр, «которому записки были вполне известны; он все их читал» и даже… дополнял, да еще таким образом дополнял, что они, записки, становились «пунктом обвинения» против него же самого – куда дальше!.. Надо полагать, и про Далевы «четверги», на которые, по словам современника, «захаживало» «все повиднее, посолиднее из петербургского и приезжего миров», Перовскому тоже было известно.
Да и есть ли хоть какие-нибудь основания предполагать, что на приемах у Даля по четвергам была та «крамола», было то «непозволительное» и «предосудительное», которое могло вызвать неудовольствие министра и перепуг Даля? У нас нет полного списка посетителей «четвергов», да таких постоянных гостей скорее всего и не было. Лазаревский припоминает, что встречал в доме Даля литераторов Панаева, Краевского, Григоровича и профессора, историка и юриста Кавелина; видимо, заходили Владимир Федорович Одоевский (Даль тоже бывал у него на «пятницах»), Надеждин, Никитенко, Гончаров, Майков; навещал старого приятеля Пирогов (Даль участвовал в собраниях пироговского врачебного кружка – «ферейна»); известно, что Даль часто встречался с членами Географического общества – Левшиным, Литке, Врангелем, с филологом Срезневским, естественниками Бэром и Брандтом. Состав посетителей смешанный и разнородный, взгляды каждого из них, взгляды и сдержанная осторожность хозяина исключали возможность какой-либо «предосудительности» Далевых «четвергов».
Домашний круг Даля – это прежде всего специалисты, знатоки своего дела – этнографы, словесники, литераторы, натуралисты. На «четвергах», безусловно, разгорались беседы и споры на темы общественные, не могли не разгораться – людям необходимо откликаться на то, что творится вокруг, – но основное содержание приемов у Даля, видимо, составляли профессиональные (дельные!) разговоры о событиях научных и литературных. Не случайно же публицист Ю. Самарин писал из Петербурга: «Был я на двух так называемых литературные вечерах у Даля. Нет, это не то! Нет той свободы, той веселости, той теплоты. Съезжаются люди чиновные, не глупые, но убитые службою…» Причина резкого отзыва, наверно, в том, что попал он, Самарин, на «четверги» из раскаленных политическими спорами московских гостиных, со всех этих «вторников», «сред», «пятниц» у Грановского, Чаадаева, Боткиных.
То же и с записками, об утрате которых мы, потомки, можем искренне пожалеть. Даль начал вести их в тридцатые годы.
Мельников-Печерский, никогда записок Даля не видавший, потратил две страницы плотного печатного текста, пересказывая их содержание; если поверить ему, то Даль один написал подробнейшую географическую, этнографическую и политическую историю России в тридцатые и сороковые годы девятнадцатого столетия. В перечислении Мельникова упомянуты вещи, которые действительно способны были доставить неприятности «летописцу»: «характеристики почти всех тогдашних государственных деятелей», сведения «о лжеимператорах Константинах», «закулисные интриги» в высших правительственных учреждениях. Не вполне понятно, однако, зачем понадобилось Далю уничтожать (и как могли повредить «благодетелю» Льву Алексеевичу) страницы записок, где речь шла о «киргизской степи», «добывании соли на Илецкой защите», «рыбных ловах в Урале, Эмбе и Каспийском море» или о «хозяйстве латинских монастырей». Но Даль сжег все. Добавим, что «попадись мои записки в недобрые руки» (если Мельников-Печерский верно пересказывает слова Даля) должно означать обыск.
Автор предисловия к сочинениям Даля, вышедшим в 1883 году, Петр Полевой про «четверги» и записки ничего не сообщает, но причину отъезда Владимира Ивановича из столицы видит в «кознях врагов» против Перовского и в усталости Даля, вынужденного день и ночь «опровергать их клеветы». Перовский, понятно, «слышать не хотел», чтобы они расстались, и согласился на это «с сокрушенным сердцем».
4
Но вот совсем иное обоснование решительной перемены в жизни Даля, обоснование, тоже хорошо известное современникам.
15 ноября 1848 года председатель тайного «Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений» – его называли иначе (по дате основания) «Комитетом 2-го апреля» – Бутурлин сообщал министру народного просвещения Уварову: «При рассмотрении помещенной в десятом нумере «Москвитянина» повести Даля под названием «Ворожейка», в которой рассказываются разные плутни и хитрости, употребленные цыганкою проходившего через деревню табора для обмана простодушной крестьянки и покражи ее имущества, комитет 2-го апреля остановился на заключении этого рассказа… Находя, что двусмысленно выраженный в словах: «заявили начальству – тем, разумеется, дело кончилось» – намек на обычное будто бы бездействие начальства ни в каком случае не следовало пропускать в печать, комитет полагал сделать цензору, пропустившему эту неуместную остроту, строгое замечание. Таковое заключение комитета Государь Император изволил утвердить».
Историк М. К. Лемке, приведя этот документ, прибавляет: «Вскоре же Казак Луганский был переведен в Нижний Новгород…» В этом «был переведен», которое звучит здесь как «был сослан», – передержка вполне понятная: Лемке писал историю русской цензуры, передержка от сосредоточенности на своейтеме.
Даль не был сослан за «неуместную остроту», за проговорку в одном словечке только («разумеется» сродни «конечно» в юношеском морском дневнике – императорский вымпел с орлом подняли на мачте конечновниз головой), но дело о «Ворожейке» не ограничилось замечанием цензору. «Неприятностей, кроме высочайшего выговора, мне не было; но, вероятно, будут со временем, когда захотят доброхоты припомнить, что он-де уже попадался.В чем – это все равно; был замечен,и довольно», – писал Даль к редактору «Москвитянина» историку Погодину. В дневнике осведомленного Никитенко читаем: «Бутурлин представил дело государю в следующем виде: что хотя Даль своим рассказом и вселяет в публику недоверие к начальству, но, по-видимому, делает это без злого умысла, и так как сочинение его вообще не представляет в себе ничего вредного, то он, Бутурлин, полагал бы сделать автору замечание, а цензору выговор. Последовала резолюция: «сделать и автору выговор, тем более что и он служит» (сохранился полный текст царской резолюции, которого, понятно, не мог знать Никитенко: «Справедливо, а г. Далю сделать строгий выговор, ибо ежели подобное не дозволяется никому, то лицу должностному и в таком месте службы еще менее простительно»). Перовский, согласно рассказу Никитенко, призвал Даля к себе, «выговорил ему за то, что, дескать, охота тебе писать что-нибудь, кроме бумаг по службе, и в заключение предложил ему на выбор любое: «писать – так не служить; служить – так не писать».
Выбор был предрешен: каково жить литературным трудом, Даль хорошо знал (по самой истории с «Ворожейкой» – весь рассказишко-то восемь страниц! – он имел случай об этом судить), а «у меня за стол садятся одиннадцать душ», – писал он однажды, прося гонорара, когда туго стало с деньгами. Выбор был предрешен – статскому советнику надо было служить и дослуживать. «Как ни тяжела и скучна жизнь петербургская, но до времени надо терпеть в надежде найти под старость покой», – признался он однажды» [85]85
ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 5, ед. хр. 1.
[Закрыть].
Историю с высочайшим выговором Никитенко предваряет горестным возгласом: «Далю запрещено писать. Как? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и он попал в коммунисты и социалисты?»
«Запрещено писать» – сказано несколько преувеличенно, однако выбирать Далю приказано.
«Пожалуйста, удостойте, это необходимо», – просит Даль исключить его имя из списка сотрудников «Москвитянина». Вельтман, старый приятель Даля, подтверждает: «Писать он не намерен». Даль в письме к Погодину: «Времена шатки, береги шапки… Я теперь уже печатать ничего не стану, покуда не изменятся обстоятельства». Через год примерно Даль, успокоясь, пошлет рассказы свои и в «Москвитянин», и в «Отечественные записки», и в «Современник», но пока: «У меня лежит до сотни повестушек, но пусть гниют. Спокойно спать: и не соблазняйте… Времена шатки, береги шапки».
5
…Был год 1848-й, год европейских революций, год-веха. «Пока я жив, революция меня не одолеет», – заявил император Николай и призывал «обращать самое бдительное внимание на собственный край».
Был год 1848-й. Год 1848-й, похоже, и оказался главной причиной Далева «бегства» из Петербурга: год-веха стягивает воедино все названные причины его решения круто переменить судьбу, сводит концы. В 1848 году, как никогда прежде, почувствовалась изнурительность бесполезной письмоводной службы. И «закулисные интриги в высших правительственных учреждениях», интриги не столько вокруг Перовского, сколько при его участии, интриги, в которые министр втягивал «преданного друга» и помощника, становились в 1848 году особенно опасными и невыносимыми. И хранение «предосудительных» сочинений (а про Далевы записки, видимо, знали многие его знакомые) могло привести к весьма тяжелым последствиям – не оттого ли решил Даль не оставлять никаких «следов»? И шпионство: были взяты «на прицел» домашние кружки, эти «вторники» и «пятницы», – не отсюда ли резкое и безоговорочное решение Даля «закрыть» свои «четверги»?..
Время шаткое – мало ли кто да что мог сказать (проговориться), пересказать, донести. Даль не знал, видимо, что Бутурлин доложил о нем царю как о человеке «благомыслящем», но он знал про высочайший строгий выговор, он знал, что министр Перовский, который передал ему царское неудовольствие, хотя и «борется» с начальником Третьего отделения Орловым, однако вместе с ним обсуждает для представления государю записку (опять записку!) о мерах к предотвращению дальнейшего распространения в России «пагубных сочинений».
Времена шатки – год-веха словно в фокусе соединил все на первый взгляд несхожие причины Далева решения поворотить жизнь. Даль положительно решил уберечь шапку. Но только ли это – усталость, осторожность, наказание, страх – двигало им, когда он захотел переломить судьбу? Только ли от чего-тоубегал он в Нижний или еще и зачем?
6
Зачем?
Даль не «бежал» сломя голову из столицы; от неприятностей с «Ворожейкой» до отъезда – более полугода: мысль о «бегстве» вызревала неспешно. «Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим» – в столице Далю сиделось нехорошо. Перовскому, наверно, и впрямь не очень хотелось отпускать такого работника (хотя и не «сокрушался», не «приносил жертву») – министр потребовал равноценной замены. Даль искал преемника – предложил свою должность Вельтману, тот отказался («Да ведь это кабала, а ведь я не совсем себе враг»); согласился московский профессор-юрист Редкин, старый товарищ Даля по Дерптскому университету (Перовского замена устроила). Редкин, соглашаясь, спрашивал Даля: «Может ли моя деятельность принести пользу – не мне и не отдельным лицам, а целому сословию?» Не знаем, что ответил Даль, но он уезжал из столицы с тем же вопросом.
Мельникову он писал, что намерен в Нижнем жить «тихо» и «с пользой»; писал также, что собирается основательно заняться словарем. Как раз в конце сороковых годов Далю пришла в голову дерзкая и великолепная мысль – соединить словарь и пословицы, влить пословицы в словарь – мысль, им осуществленная. В Нижнем Даль значительно продвинул главный свой труд: обработал большую часть накопленных запасов, определил способ составления словаря, приступил к подробному толкованию слов. В Нижнем Даль подготовил к печати собрание пословиц. Если б лишь ради этого перебрался Даль в Нижний, если б тихую жизнь с пользой видел он лишь в главном деле своем, если б во имя его избрал незаметную службишку на стороне, для виду, чтобы не служить, а жалованье получать, – он бы и в этом случае был оправдан потомками.
Но Даль отправился в провинциальную контору и вправду служить:служить так, как не удавалось ему в Петербурге, – чтобы приносить пользу «целому сословию»; он еще надеялся, что, служа, можно не бумаги писать, а дело делать. Он не сумел этого «во всероссийском масштабе» – сила солому ломит, – он надеялся, что возьмет свое в глуши, в губернии, где будет вершить дела даже не «в губернском масштабе», а лишь дела находившихся под управлением его конторы удельных крестьян. Он надеялся, что там будет сам себе хозяин и сам себе слуга, без благожелательных Перовских и тонкостей «закулисных козней», – он и крестьяне; там сможет он судить да рядить обо всем по своему разумению (а в столице, как он полагал, его ценят и уважают – считай, что заручился поддержкой). Даль ехал в Нижний дело делать – скромное, тихое, но дельноедело: «Сами в себя должны мы углубиться, проснуться, очнуться, и тогда узнаем, как быть и что делать; но не взрыва нужно нам, который легко вызвать, словно напоказ, и который скоро остывает, нужно блюсти зарок тихо и свято в себе, делать неутомно, ровно и стойко, тянуть налогом лямку свою, не сдавая, хотя бы этого никто не видел, никто не знал…» Нужно иметь право сказать: «Я любил отчизну свою и принес ей должную мною крупицу по силам!»
В душном 1848 году Казак Луганский не выдержал и потянулся «на волю». Ему казалось, что на волю. Он спустился с девяноста ступеней, на высоту которых оказался однажды вознесен судьбою, и вышел на простор. Ему опять казалось, что на простор. Едва появившись в Петербурге, он почувствовал столичную духоту, мечтал – на Волгу, на Украйну, в Москву. На Украйне промчались его детство и юность, в Москве он окончит дни свои. Летом 1849 года Владимир Иванович Даль отправился на Волгу.

ЯРМАРКА
И по долженству хощу и всячески тщатися буду… искать всегда самые сущие истины и самые сущие правды.
Духовный регламент
Торгуй правдою, больше барыша будет.
Пословица
«ГДЕ ЖИЗНЬ КИПИТ КРУГОМ»
1
Где Волга и Ока сливаются волнами,
Где верный Минин наш повит был пеленами,
Где Нижний Новгород цветет и каждый год
Со всех концов земли гостей к себе он ждет,
Где жизнь кипит кругом, торговля процветает… —
одним словом, мы с Далем на знаменитой нижегородской ярмарке, в плотной и жаркой толпе, где все движутся, но каждый идет куда ему надо, где толкают друг друга, обгоняют, останавливают, пересекают один другому дорогу, кружат, попадают не туда, возвращаются на прежнее место. Где смешались, закрутились несущейся каруселью армяки, поддевки, мундиры, кафтаны, сермяги, сарафаны, накидки, пестрые шали, платки, картузы, шляпы прямые и бурлацкие – с круглым верхом, и ямские – приплюснутые, с загнутыми круто полями, и красные колпаки скоморохов. Где черные черкески с газырями и курчавые папахи кавказцев, шелковые халаты и золотые тюбетейки казанских татар, желтые рубахи цыган, белые чалмы восточных купцов, похожие на огромные кочаны, и соблазнительно яркие платья «сомнительных женщин». Где голоса, слова, разноязычные крики смешались, спрашивают совета, торгуются, ссорятся, спорят – одновременно; купцы нахваливают товар, услужливо мечутся вдоль полок ловкие приказчики, им помогают (однако держась степеннее) хозяйские сынки, старший «братан» и младший – «брательник», оба с припухшими глазами и помятыми лицами – на долгом пути от дома до ярмарки веселы и бессонны ночевки на «вдовьих хуторках», там угощенье хмельное и девицы бесстыдны и визгливы. Мальчики у дверей лавок зазывают покупателей, бойкие лоточники сыплют прибаутками. «Вот сбитень, вот горячий: пьет приказный, пьет подьячий!»; «воздушный цирюльник» за три копейки на ходу и бреет и стрижет: «Постричь, поголить, ус поправить, молодцом поставить»; цыганки хватают проходящих за руку: «Дай погадаю», – требуют гортанными голосами. А над толпою, над площадью, стоят на деревянных неструганых балконах раешники в расшитых рубахах с яркими заплатами-ластовицами под мышками, стоят гимнасты, обтянутые желтыми в черную клетку трико, танцовщицы в розовых юбочках-пачках – стоят и, перекрывая нескончаемый гул, дудят в золотые трубы, трещат трещотками, колотят в огромные барабаны, по круглому корпусу которых намалеваны красные и желтые треугольники: «Спешите! Спешите! Замечательное представление!..»
В смешении народов и языков словно ожило сказание о башне вавилонской: в пятидесятых годах прошлого столетия число жителей в Нижнем составляло 30 789 человек, а с 15 июля по 15 августа съезжалось на ярмарку 120 тысяч – четыре Нижних Новгорода толкалось и кричало одновременно на семистах тысячах квадратных саженей ярмарочной площади!..
В каменных корпусах гостиного двора торгуют сразу две с половиной тысячи лавок; а вокруг жмутся друг к другу еще многие тысячи деревянных строений, и сбитых основательно и наскоро сколоченных, – лавки, лавчонки, склады, сараи. В Железных рядах продают до четырех миллионов пудов уральского железа, на Хлебной пристани выгружают шестьсот тысяч четвертей хлеба, от Гребневских песков тянет с барж крепким рыбным запахом, близ пристани Сибирской высятся горы чайных цибиков – на девять миллионов рублей серебром (чай – товар дорогой, его везут из далекой Кяхты до Перми на лошадях, а из Перми на судах по Каме и Волге; торговцы-«чайники» ставят на столы свежезаваренный чай разных сортов – покупатели идут вдоль столов, прихлебывают из чашек и после каждой пробы споласкивают рот холодной водой, чтобы не утерять вкус). Персиане и бухарцы неподвижны и зорки, кавказцы горячи и шумливы: с востока доставляют на ярмарку каракуль и шемаханские шелка, кофе и корицу, индиго, марену, дорогое сандаловое дерево. А вот наше, российское, – меха лисьи, бобровые, куньи, холсты «разной доброты», шапки, чулки, валенки, рукавицы (из села Богородского – рукавицы кожаные, привозят на ярмарку сразу полмиллиона пар); яловые кожи из губерний Владимирской, Симбирской, Казанской, Вятской, Костромской, также из Нижегородской, где производятся в Арзамасе, Выездной слободе, в деревне Тубанаевке и окрестных селениях Васильевского уезда; юфть из Казани, Сызрани, из Слободского, Мурома, с заводов Московской губернии. Золотые скирды мочалы сверкают под солнцем, словно поставленные прямо на землю соборные купола; конский волос переливается черными струями – гривы продают пудами, хвосты поштучно. Сгрудились на краю ярмарки новые телеги, пахнут дегтем – уперся в небо частый лес оглобель. Сундуки, сибирские и павловские, простые и окованные, одноцветные, темные и расписные, громоздятся стеной, тянутся рядами, как дома в городе, образуя улицы и переулки; привозят сюда двести тысяч сундуков – особый спрос на макарьевские: шесть сундуков вкладываются один в другой, как матрешки.
Торговый оборот на нижегородской ярмарке – 86 миллионов рублей серебром.
2
Идет по ярмарке нижегородский чиновник Владимир Иванович Даль; в миллионных оборотах участие его грошовое; разве купит и опустит в карман цибик чаю, выторгует у лоточника шейный платочек кисейный или серебряное колечко с бирюзой – потешить дочку, или задержится возле офени и со знанием дела отберет для себя лист-другой лубочных картинок. Впрочем, однажды – свидетельствуют документы – Далю было пожаловано девятьсот рублей за «безвозмездноеучастие в выгодной продаже на ярмарке алтайской меди».
Даль идет мимо Главного дома, где находится летняя квартира губернатора и зала для общественных собраний (здесь на приеме у губернатора Александр Дюма встретился с живыми героями своего романа «Учитель фехтования» – декабристом Иваном Анненковым и его женой, последовавшей за ним в Сибирь, Прасковьей Егоровной, урожденной Полиной Гебль, француженкой; Даль мог быть свидетелем необычной встречи). Он идет мимо православного собора, магометанской мечети и армянской церкви (купцы-старообрядцы имели на ярмарке тайные молельни, за каждую службу платили полицмейстеру сто рублей и частному приставу – пятьдесят). Он идет мимо балкона, на котором появился, обозревая торжище, полицмейстер (Нижнему не везло на полицейских начальников – а какому городу везло? – помнили однорукого Махонина, который за немалую мзду записывал купцов в потомки Минина, – был высочайше назван «дураком» и пожалован генеральским чином; помнили аккуратного взяточника фон Зенгебуша; наконец, наводящий ужас громадными кулаками и разбойными приемами Лаппо-Старженецкий; среди нижегородцев родилась поговорка: «Один брал одной рукой, другой – двумя, а третий лапой загребает», – Даль знал ее, наверно); Даль идет мимо балкона, не подымая головы, – с полицмейстером он не в ладах. По знакомой одежде он различает оренбургских казаков – их призывали ежегодно для охраны ярмарки; на ярмарке оренбургское воинство не зевало: недаром говорилось, только крикни «караул» – враз казаки примчатся, помогут грабить. Даль идет мимо пожарной части – ярмарке случалось гореть, но не в дни торга (за курение и возжигание огня в лавках сажали на гауптвахту), а больше в осенние и зимние месяцы; сгорало до сотни зданий, тревожное зарево освещало Нижний (в городе пожары тоже были не редкость; Даль писал из Нижнего князю Одоевскому: приключился пожар, полдома сгорело, но сами целы, значит, горевать нечего, – «Три дочери, внезапно поднятые ночью пожаром, были так же покойны, как сидя на Ваших пятницах»). Даль идет мимо ресторанов, трактиров, дешевых харчевен; сотни людей знакомых встречались негаданно на нижегородской ярмарке, сотни людей, впервые увидевших друг друга, здесь знакомились.
В начале пятидесятых годов приезжал на ярмарку увлекшийся хозяйственной деятельностью Николай Огарев, встречался со знакомыми Даля – мог и с ним увидеться. В 1857 году появился в Нижнем сын актера Щепкина, Николай Михайлович, распространял некоторые заграничные издания Герцена – Даль с Николаем Щепкиным вряд ли не были знакомы. В 1855 году литератор П. В. Анненков привез на ярмарку для продажи изданное им и сразу прославившееся Собрание сочинений Пушкина, – Даль, надо полагать, раскошелился с охотой и удовольствием.
3
Но Даль приходит на ярмарку не торговать, не покупать…
На семистах тысячах квадратных саженей – в «вавилонском» смешении народов и языков, в бесконечных разговорах, спорах, возгласах, крике, кличе, в прибаутках, присказках, байках, в разнообразии говоров, в непрерывной круговерти одежд, вещей, красок, – в буйном кипении жизни – на этих семистах тысячах квадратных саженей лежал перед Далем как бы оживший вдруг его словарь.
Нужно только расчленить шум толпы, слитный гомон торговых рядов, разъединить на слова симбирские, казанские, костромские, ухватить новые имена давно известных предметов – и оттого сам предмет нежданно увидеть по-новому. «На рынке пословицы не купишь», но надо услышать, надо запомнить к слову сказанную пословицу – «Пословица недаром молвится». Надо потолкаться в трактире, послушать, как торгуются купцы – «делают подходцы», – каждый норовит «обуть» другого. Надо заглянуть в дощатый балаган, когда алым пламенем взметнется занавес, и наслаждаться потешными байками раешников. («А вот господин чиновник. Служит в винном департаменте, построил себе дом на каменном фундаменте!») Надо приметить мужика-скомороха, того, что бродит по ярмарке с волынкою из цельной телячьей шкуры, веселит народ, свистя всеми птичьими посвистами и разговаривая один за троих, – приметить и узнать от него, что на медяки, собранные в дурацкий колпак, он содержит семью, из них же платит подати.
…Больше месяца шумит, поет, торгуется ярмарка. Ходит по ярмарке Владимир Иванович Даль. Дома вынимает из кармана цибик чая, кисейный платочек или колечко бирюзовое, главное же – каждый вечер приносит он домой несметные сокровища, единственные, за которые не берут на ярмарке денег – только подбирай. Дома он раскладывает слова по полочкам в своих хранилищах; каждую пословицу переписывает дважды на «ремешки»: один пойдет в словарь как пример для пояснения слов (подобно Оке и Волге, сливаются воедино два бесценных Далевых труда), другой – в тетрадь, предназначенную лишь для пословиц. Таких тетрадей уже сто восемьдесят, и надо что-то делать с ними…
Даль знал, что с ними делать, и мы знаем, что сделал с ними Даль, – перед нами труд его «Пословицы русского народа».








