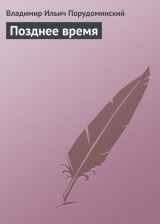
Текст книги "Позднее время"
Автор книги: Владимир Порудоминский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Я поймал руку Г.З. и задержал в своей. «Мне очень дороги наши беседы», – сказал я тихо. Г.З. осторожно, но быстро отнял руку и взглянул на меня печально и недоуменно. «Неужели это ответ? – подумал я. – Но я так много знаю об этом человеке, чего он, скорей всего, и сам в себе не предполагает, я так долго и близко общался с ним, так много сокровенного между нами сказано... Неужели все это и впрямь соткано из ничего?.. И так ли уж обязана моя жизнь ограничиваться пространством, верноподданным здравому смыслу, этим прямоугольником кровати, обтянутом больничной простыней?..»
В отчаяньи надежд бесцельных // высокий ум поведал нам // способность линий параллельных // вдруг пересечься где-то там, // где за неведомой стеною// иная осень и весна, // где время движется иное, // пространств иная кривизна... // Мечта взамен путей прямых // ведет дорогой рудознатца // к пересечению прямых, // рожденных не пересекаться...
Г.З. заклеил что-то пластырем в ямке на моем правом плече, стянул резиновые перчатки, печально улыбнулся мне на прощанье, – почудилось, сейчас что-то скажет, но не сказал.
«...Нам еще предстоит открыть все то, что наше нынешнее ограниченное знание исключает как невозможное, – пишет К.Г.Юнг. – Наши понятия о пространстве и времени очень приблизительны, и существует огромное поле для всякого рода отклонений и поправок. Зная все это, я не могу не прислушиваться к странным мифам моей души...» Он вспоминает «некие предупреждения» из этого неведомого нам поля пространства и времени, предупреждения таинственные, подчас узнанные, уясненные лишь задним числом, его вывод протягивает руку надежде: «Отвергнувший миф шагает в ничто». Когда я прочитал это, подумал: если однажды попробую описывать все, что со мной происходит, возьму эпиграфом.
3
«...Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле»... Манящая поэзия псалмов...
Чаю до утра обычно не хватает. Надо заваривать новый. С вечера я завариваю только на одну кружку, после чего тщательно мою заварочный чайник. Я пью остывший чай из кружки, но никогда – из чайника, в котором, когда сливаешь остывшую жидкость, остается на стенках бурый осадок. (Есть, впрочем, ценители, считающие такой осадок необходимым компонентом хорошей заварки. Я к ним не принадлежу.)
Я свешиваю ноги с кровати и остаюсь сидеть, неспешно утверждая на полу непослушные ступни. Болезнь научила меня наперед обдумывать каждое движение: теперь это чаще привычка, чем необходимость. Я стал двигаться медленно, как бы заранее разделяя движение на отдельные кадры. Марк Галлай, известный летчик-испытатель, говорил, исходя из опыта своей опасной работы, что быстрота не в торопливости движений, а в отсутствии промежутков между составляющими процесса. Испытывать самолеты я бы теперь не мог (впрочем, и раньше тоже, по другим причинам). Я сижу на краю кровати и прикидываю, что и в какой последовательности буду делать дальше. Надену толстые носки (они заменяют тапочки, в которых мне ходить неудобно)... Слегка выставлю вперед левую ногу (никогда прежде не знал, что, если ноги по-разному нехороши, то, поднимаясь, надо выдвигать ту, что получше), придерживаясь за стол, встану в рост... Дойду до гвоздя, справа от двери, на котором висит халат... Накину халат... Сделаю шаг в коридор... Включу свет... Поверну направо – в кухню... И т.д. В отличие от летчика-испытателя я не подгоняю одно движение вплотную к другому – медлю, останавливаюсь, задумываюсь. Затягивая пояс халата, могу, например, заглядеться на картинку, висящую рядом на стене: берег Немана, хвойный лес, тревожное облачное небо над водой... Акварель сделал мой друг Адельбертас, литовский художник.
В Порудамины – 16 километров южнее Вильнюса – я попал лет двадцать назад. Местечко, наверно, сильно пострадало от войны: едва не все дома отстроены заново. Было осеннее дождливое утро, остро пахло землей и какими-то травами, которыми заросли улицы и дворы. Вокруг ни души: оказался – удивительно кстати – католический День Поминовения; древняя сгорбленная крючком старуха, говорившая по-польски, единственная, кого я встретил, объяснила мне, что народ в костеле, куда и она брела, опираясь на высокий, выше головы, посох. Костел в Порудаминах просторный. С деревянными некрашенными полами и белеными стенами, расписанными неведомым литовским Пиросмани. Потрескивали свечи, массивные (сравнительно с теми, что в православных церквах), похожие на комнатные, – я затеплил свою от огня у кого-то стоявшего рядом, расплавленный воск стекал на пальцы и застывал теплыми ломкими струйками. После службы жители местечка отправились на кладбище. Еврейских могил там не имелось. В годы войны в Порудаминах был еврейский рабочий лагерь: людей отсюда увозили убивать на Понары, литовский Бабий Яр. Старые могилы сжевала война и людское недоброжелательство. Я еще раз прошелся по местечку. Во дворах, остро пахнувших осенними травами, не видать было шагаловских синих петушков, желтых коз, белых лошадей и девушек с такими же, как у коз и лошадей, доверчивыми глазами...
Бессонница никогда не мучает меня. Я так же охотно не сплю, как и сплю, – думаю, вспоминаю, утишаю разумными доводами фантомные боли от пережитых обид, мечтаю, так, как мечтал мальчиком, наивно, несбыточно. Мечтаю, как стану замечательным вратарем и, подобно литературному герою моего отрочества Антону Кандидову, не пропущу ни одного гола. Или – конечно же, тоже замечательным, пианистом (тут – простор представлять себе, что и как мог бы сыграть). Или – математиком, бьющимся над решением сложнейших задач. Мечтаю именно о том, что не было мне дано, даже хоть отчасти предуготовано в прожитой жизни. Еще моделирую свою судьбу, как она могла сложиться, если бы...
...Если бы, к примеру, мои родители в 1920 году уехали в Штаты – они тогда работали врачами в госпитале американского Красного Креста...
Или в 1922 году – в Берлин: отцу предложили отправиться туда для усовершенствования...
Если бы отца арестовали в 1937 году, что вполне могло случиться, или в 1952-м, во время охоты на врачей-убийц, чего лишь чудом не случилось (дело было уже заведено)...
Если бы в 1941-м милицейский капитан, по такой же неведомой случайности, вдруг в последний момент не переменил в нашем с отцом пропуске в Вильнюс (для посещения недавно присоединенной Литвы тогда требовался не только билет, но и пропуск), если бы этот нежданный ангел-хранитель, горбившийся над канцелярским столом в неуютном милицейском кабинете, по причине, оставшейся для нас тайной, не переменил дату выезда, к нашему огорчению, с 19 июня на 26-е: мы отправились бы прямо навстречу немцам и вместе со всей семьей отца были расстреляны на Понарах...
Среди расстрелянных был мой двоюродный брат. Я никогда его не видел: он жил в Вильне, Вильнюсе, в Польше (последний перед войной год – это уже Литва) – заграница. Наша первая встреча должна была состояться 22 июня 1941 года. («Двадцать второго июня, ровно в четыре часа // Киев бомбили, нам объявили, // что началась война», – песенка тех лет на мотив популярного «Синего платочка»...) Нас было всего два мальчика в нашем поколении рода: только он и я как бы оказались призваны продолжить род, нести дальше фамильное имя. У меня это не получилось – дочери. Впрочем, задача продолжения рода, помнится, никогда меня не занимала. Хотя, кто знает... Если бы уцелел сын, который должен был родиться (мы уже называли его Сережиком)... Но я не о том. Просто случайно свернул мыслью в другой переулок – вспоминаю, думаю, перебираю варианты. Прошлое полнится сослагательными наклонениями, притом, что каждый отдельный вариант причинно обусловлен. Но расклад причин и следствий начинается чуть позже, отстает от «монтажа аттракционов», создаваемых воображением. Ночь упрямым ветром наполняет паруса памяти, гонит корабль. Стариковская память подобна обратной перспективе. В иконе. В сновидении. Чем дальше, тем неохватнее ширь и глубь. Случайно оброненное в мыслях слово выстраивает цепь картин, ему предшествующих.
(Мы уже давным-давно не вспоминали тот пасмурный осенний день, когда ты, Радость моя, облазив все пункты заброшенной Богом российской глубинки, обозначенные в командировочном удостоверении, шагала в городского покроя пальто и высоких резиновых сапогах по обочине с незапамятных времен размолотой в кашу дороги. Автобус в обещанный час не пришел, сказали, его нынче и вовсе не будет, испортился, а ты спешила в райцентр, к вечернему поезду. Водитель попутной полуторки пожалел тебя (трояк, который он попросил, наверно, также укрепил в нем благое чувство жалости к ближнему). В кабине, рядом с водителем уже сидел кто-то, ты полезла в кузов. Машина, подобно дороге, была разбита временем и небрежением. Ее подбрасывало на ухабах, швыряло из стороны в сторону, доски кузова скрипели и грохотали, поддавали тебе в спину или вдруг исчезали из-под тебя, оставляя тебя как бы в невесомости, в ту, докосмическую эпоху еще немодной. Казалось, еще немного, грузовик рассыплется и посреди дороги останется лишь железный остов, как скелет верблюда в пустыне (такие тебе случалось встречать в Монголии). В поезде тебе стало худо, но нас воспитали людьми (по большей части бессмысленного) долга: с вокзала ты не поехала ни домой, ни к врачу – отправилась в редакцию. Там в уборной ты скинула. Продолжателю рода было бы теперь под шестьдесят...)
А двоюродного брата немцы расстреляли погожим летним днем, оставляя Вильнюс. Гетто к этому времени давно было ликвидировано, добивали рабочие лагеря, где еще держали живыми специалистов, приносивших пользу рейху. Когда Красная армия захватила город, тела расстрелянных лежали не тронутые тлением в незасыпанном из-за спешки рву. Надо полагать, машины, доставлявшие людей на расстрел, были в добром порядке – всё подогнано, закреплено, смазано, где необходимо.
Наверно, мой двоюродный брат в последнее мгновение жизни, перед тем как принять пулю, успел поднять глаза, взглянуть на небо, на вершины деревьев, озаренные молодой зеленью. Очевидец многих расстрелов рассказывает, что приговоренные в ожидании выстрела обычно смотрят вверх (конечно, если расстреливают «на воле», а не под сводами подвала, воровски, в затылок). Когда я был на Понарах и представлял себя на месте брата, я тоже смотрел на небо. Больше всего на небо и смотрел. Не на камень. Не на проволочный овал прислоненного к нему, потрепанного венка. Правда, день был безотрадно тоскливый. Струи дождя падали на мое поднятое лицо и по шее стекали под воротник. Но у меня было много времени. А на расстрел тратилось гораздо меньше времени, чем на обслуживание грузового автомобиля. К тому же палачи руганью, понуканиями, ударами прикладов умышленно создавали суматоху. Здесь пусть не страх действовал – опаска, инстинкт: проще расстреливать людей перепуганных, мечущихся, чувствуешь сознание своей силы и их ничтожество. И все же мне хочется верить, что, расставаясь с жизнью, брат успел увидеть небо.
Недавно старая женщина прислала мне семнадцать торопливо исписанных крупным почерком листков. Бумага случайная – вырванные страницы блокнота, какой-то учетной книги. Это письма моего двоюродного брата к этой женщине, написанные из гетто и рабочего лагеря шестьдесят с лишним лет назад. В ту пору женщина, приславшая письма, только-только вступала в мечтательный возраст девичества, брат был в нее влюблен. Они подружились в гетто. Потом девушке удалось бежать. Ее прятала у себя в доме одна польская семья. Образовалась даже возможность иногда перекинуть к ней письмецо... Время объело края листков, прорезало их на сгибах, в некоторых местах стерло след карандаша. Я перебираю листки, меня не оставляет мысль, что эти письма мог написать я. У Марка Твена есть странно смешная история: человек рассказывает про брата-близнеца, который утонул в раннем детстве, когда их вдвоем купали в ванне, но в конце выдает тайну – на самом деле утонул не брат, а он...
Я подолгу с любопытством читаю начертанные в воображении письмена несостоявшейся, но возможной судьбы, и, читая, продолжаю писать их, переиначивать, пополнять...
...Я стою посреди пустынного – ни души – продуваемого ветром проспекта. Прямой, как стрела, проспект вычерчен выстроившимися по обе его стороны почти одинаковыми серыми прямоугольниками многоэтажных домов. Слева, откуда-то издалека, слышатся звуки военного марша. Барабан отбивает бодрый такт шага. Немецкая армия вступает в город. Я жду последний автобус, который должен – точнее: вроде бы еще может – появиться и увезти меня. Обернувшись налево, я нетерпеливо и тревожно всматриваюсь в дальний конец прямого, как стрела, будто упирающегося в закатное небо проспекта. Моя судьба зависит от того, что там покажется раньше, – желтый корпус автобуса или военная колонна. Я прижимаю к груди небольшой пакет с натянутым на подрамок холстом Шагала...
Когда бы ни проснулся, я сразу же замечательно точно, почти до минуты угадываю, который час. Привычка к ночи.
Древние евреи делили двенадцать ночных часов (от шести вечера до шести утра) на три стражи по четыре часа в каждой. Потом был принят римский счет – четыре стражи по три часа. Начало третьей стражи по древнееврейскому делению совпадает с ее окончанием по делению римскому (с двух до трех); к этой поре страхи, генетически погребенные в глубинах человеческой души как след растерянности, угнетавшей наших древних предков с наступлением темноты, сменяются пробуждением покоя, ныне уже незамечаемым ощущением безопасности после перенесенной тревоги, тем настроением утра, которое вечера мудренее (знаю по себе, хотя сам человек вечерний, ночной, «сова», по принятому теперь делению людей на «сов» и «жаворонков», – тучи на душе снова начинают сгущаться не в третью стражу, в более поздние часы). В третью стражу время для человека, спящего глубоким, здоровым сном, проносится легко и неприметно. «...Перед очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, как стража в ночи...» – говорит Псалмопевец.
В нашей семье долго была в употреблении простая фарфоровая прямоугольная чайница с навинчивающейся медной крышечкой (и сейчас, сломанная и некрасиво мною склеенная, лишь бы не развалилась, таится где-нибудь в кладовке). Если ее перевернуть, на дне – старинным шрифтом – дата: 1824. Чайница могла быть у Пушкина в Михайловском. Я любил представлять себе, как Пушкин отвинчивает крышку, длинными пальцами захватывает щепотку душистого китайского чая, бросает в чайник или кружку. Время от этого сжималось. Старшая дочь Пушкина менее десяти лет не дожила до моего рождения. Я встречал людей, которые ее застали. Я был в добрых отношениях с семейством, в котором сошлись потомки Пушкина и Гоголя (племянник Гоголя был женат на внучке Пушкина).
«...Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет...»
Средний возраст русского писателя 18 –19-го веков – времени русской классики – 57 лет. Высчитано весьма старательно. Вопреки расхожим представлениям о трагической судьбе служителей муз и, соответственно, о свыше им отпущенной недолговечности, лишь малая часть из них (6%) оставила мир в молодости, до тридцати лет. Возраст «большей крепости» – восемьдесят – пережило почти вдвое больше.
Двадцати двух лет расстался с жизнью Дмитрий Веневитинов. Ему оказалась не по силам «тяжесть атмосферы» (как выразился – не о Веневитинове, конечно, – мудрый Гете, сам выдюживший под этой тяжестью до девятого десятка и на семьдесят пятом году жизни вознамерившийся жениться на девятнадцатилетней девушке). Молодой русский поэт умер от меланхолии, от страсти безотрадной и от того, что, выходя с бала, простудился. Его обогнала лишь феноменальная Елизавета Кульман, опочившая и вовсе лишь семнадцати годов от роду. Девушка знала одиннадцать языков, на восьми говорила и чуть ли не со стольких же переводила стихами и прозой. В одной из эпитафий на ее надгробии (а их было сделано одиннадцать по числу знаемых ею языков) высказано предположение, что Бог послал ее на землю не для того, чтобы оставить здесь, а чтобы только показать миру. Умерла она тоже от простуды – ее брат праздновал свадьбу, когда началось знаменитое петербургское наводнение, описанное в «Медном Всаднике».
Число «37» в табели писательского века не смотрится роковым: это Пушкин, да сто лет спустя Маяковский сделали его таким, – имеются числа, которые повторяются чаще...
Острослов Сергей Довлатов, услышав, как сетуют эмигрантские мамаши, что их обамериканившиеся дети не станут читать Достоевского, отозвался весело: «Пушкин тоже Достоевского не читал – и ничего». Проживи Пушкин средний писательский век, он успел бы прочитать «Бедных людей» и «Двойника», «Белые ночи» и «Неточку Незванову», сотрудничал бы – или отказался сотрудничать – в некогда им основанном, но перешедшем в руки Некрасова «Современнике», не камер-юнкером, конечно, камергером, возможно, сенатором, следовал бы за гробом Николая Первого, дождался бы возвращения из Сибири друга бесценного Ивана Пущина.
Среди добрых приятелей Пушкина находим Федора Глинку, писавшего огромные поэмы, в том числе и мистические, но оставшегося в памяти народной песнями «Вот мчится тройка почтовая» и «Не слышно шума городского». Федор Глинка испытал гонения, был в ссылке, даже в крепости сидел, что не помешало ему стать одним из главных долгожителей русской литературы. Федору Глинке отпущено было 94 года: родился тринадцатью годами раньше Пушкина, умер сорока тремя годами позже. Его девяносто четыре как бы сумма среднего возраста русского писателя и лет прожитых Пушкиным. Если бы Пушкину достался век его старшего приятеля (а ведь могло случиться – друг Вяземский дотянул до восьмидесяти шести), он – только представить себе! – ушел бы из жизни в 1893 году: пережил бы едва не всю отечественную классику, ныне ведущую от него родословную, – и Достоевского, и Некрасова, и Тургенева, прочитал бы «Войну и мир», «Анну Каренину» и многие иные сочинения своего четвероюродного племянника Льва Толстого, да что там – он и с Чеховым имел бы случай познакомиться. Сам же Чехов, ежели бы одолел средний писательский возраст как раз сумел бы хватить 1917 года; вздумай же он подражать все тому же Федору Глинке, скромно доживал бы в Париже, возможно, – не по умыслу, а по решению жюри, – отнял бы у Бунина нобелевскую награду, а то, глядишь, задержался бы в Москве, помалкивал бы и подремывал на заседаниях секции прозы в Союзе писателей, как помалкивали и подремывали его задержавшиеся современники Телешев или Вересаев...
По-настоящему хорошо заварить чай здесь невозможно – мешает высокое содержание извести в воде. Как ни фильтруй, вода, едва закипает, становится белесой от клубящейся в ней известковой пыли. Район Кёльна, расположенный на восточном берегу Рейна, называется Кальк (в переводе – известь); когда-то Кальк числился отдельным городом – так он обозначен в старинных лексиконах. Положенный в чайник кусочек белого мрамора (так тут иногда делают, если не заводят фильтра) помогает немного. Между тем известь не только влияет на вкус воды: пока кипяток отстаивается, он теряет необходимую для правильной заварки температуру.
Я колдую у плиты и поглядываю в окно. По ночному небу с заметной скоростью плывет месяц. За ночь он огибает дом: с вечера появляется в одном окне, под утро меркнет в другом, глядящем в противоположную сторону. Здесь почему-то, как ни спохватишься, ни посмотришь в окно, почти всякий раз полнолуние. Может быть, потому, что месяц, как утверждал Гоголь, делается в Гамбурге, то есть вовсе недалеко, и не успевает по дороге сюда стереть края о плотные облака (хотя, по свидетельству того же Гоголя, месяц изготовляет некий кривой бочар, и прескверно делает). Мои внуки отмечают полнолуние заведомо реже, чем я.
Кружку с чаем я приношу на ночной столик, забиваюсь под одеяло и, хотя самая лучшая заварка не отбивает привкуса жесткой воды (к тому же от извести слегка першит горло), радуюсь густому бодрящему напитку. Приятно также, обхватив кружку, греть слегка замерзшие руки. Я не спешу выключать свет: он не мешает мне засыпать, как темнота не мешает бодрствовать.
...Я долго плутаю ночью по плохо освещенному заводскому району среди глухих кирпичных стен, угрюмых темных корпусов, приземистых одноэтажных мастерских, на закопченных окнах которых кое-где рдеет отсвет печи. Под ногами склизкая жидкая грязь. Я чувствую спиной сырость, висящую в промозглом воздухе. Темные улицы пересекают одна другую, как на чертеже лабиринта. Наконец я вижу вдали желтый фонарь и под ним несколько черных силуэтов. Я спешу туда и оказываюсь на трамвайной остановке. Люди вокруг чугунного фонарного столба стоят неподвижно, как манекены, отчужденно отстраняясь один от другого. Помню старуху с большой клеенчатой кошелкой, серый суконный платок, наброшенный на голову, охватывает крест-накрест ее плечи и грудь и завязан узлом на спине. Неподалеку от нее худая накрашенная девица в маленькой шляпке, коротком пальто и высоких резиновых ботах. Рабочий в фуражке с лакированным козырьком глубоко засунул руки в карманы черной кожаной тужурки. Люди неприязненно поглядывают друг на друга, взгляды их узки, остры и, чудится, серого цвета стали. Только у накрашенной девицы широко открытые удивленные глаза – ей, наверно, трудно удерживать распахнутыми ресницы, нагруженные даже в темноте заметным толстым слоем краски. Все это похоже на инсценировку романа из жизни пролетариата периода экономического кризиса конца двадцатых – начала тридцатых годов. Такие романы, переведенные с немецкого и английского в те годы охотно издавали в Союзе. Дребезжа звонком, подходит трамвай – старинный красный вагон моей юности с разноцветными фонариками над кабиной водителя (каждый цвет соответствовал цифре, чтобы издали узнавать номер маршрута). На моем вагоне фонарики – красный и синий. Из-под выгнутой петлей дуги, касающейся провода, вылетают потрескивая ослепительные голубые искры, от которых ломит скулы (раньше считалась, что это признак нервности). Мы одолеваем высокие ступеньки и протискиваемся вглубь набитого вагона. Старик-кондуктор с кожаной сумкой на груди дергает веревку под потолком – подает сигнал к отправлению, – в кабине водителя звякает колокольчик. В вагоне пахнет отогревшейся в тепле сырой одеждой, теплым дыханием. Постук колес, неяркий густой свет продолговатых лампочек завлекают в уютную дрему. Лица пассажиров понемногу разглаживаются. Старуха с кошелкой на коленях слегка подвигается на скамейке, отводя местечко для узких бедер накрашенной девицы в ботах. Рабочий, взявшись за козырек, снимает фуражку, тыльной стороной руки утирает лоб, оглядывается и улыбается...
Я лежу в палате, спать не хочется, я мерзну. В темноте за окном мерцают белесые звезды, в подступивших к самому стеклу ветвях я различаю на фоне темного неба силуэт моего Медного Всадника. У меня недостает сил вытащить из-под одеяла руку, протянуть ее к звонку и попросить ночную сестру накрыть меня еще одним одеялом. Я начинаю отчаиваться, но в такие минуты снова и снова, дребезжа, мерцая в темноте красным и синим огоньками, подходит спасительный трамвай, я скорей спешу туда, в человеческое тепло, в неяркий желтый свет, плавающий в теплом дыхании...
Я давно не задаюсь вопросом, почему, тем более, зачем нам даются испытания: звучащий в книге Иова голос Господа из бури убедил меня в тщете попыток постичь неисповедимое.
«Кто сей, омрачающий поведение словами без смысла? // Препояшь ныне чресла твои, как муж: // Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай Мне.
Где был ты, когда Я полагал основание земли? // Скажи, если знаешь. // Кто положил меру ей, если знаешь?.. // На чем утверждены основания ее, // или кто положил краеугольный камень ее?.. // Давал ли ты когда в жизни приказания утру // и указывал ли заре место ее?.. // Нисходил ли ты в глубину моря // и входил ли в исследование бездны? // Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?..»
Каждая строка богодухновенного создания разметает нашу гордость первооткрывателей, как ветер разметает песок в Иудейской пустыне. Мним себя создателями и провозвестниками нового, тогда как всё даже самое великое из открытого человечеством не более как узнавание того, что когда-то и зачем-то создано, извлечение подробностей, рассеянных в вечном. Наши самые ошеломительные открытия – лишь крошечный шажок в простирающееся перед нами вечное.
«И продолжал Господь, и сказал Иову: // Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить?.. //
И отчечал Иов Господу, и сказал: // Вот я ничтожен, что буду я отвечать Тебе? Руку мою налагаю на уста мои...»
Вместе с перекрывающим шум бури голосом Господа, разгневанного нашим стремлением присвоить знание, которое нам не принадлежит, в ушах моих звучит тихий голос случайного знакомца, встреченного когда-то на тахан-мерказит – иерусалимском автовокзале. По тогдашнему неведению я оказался там в субботу в середине дня, не предполагая, что ближайший автобус отправится в путь лишь с появлением первой звезды. Площадь автовокзала смотрелась современном вариантом сказки об уснувшем царстве: разомлевшие пустые автобусы, едва не уткнувшиеся носом в землю, затворенные двери магазинов и киосков, черные слепые окошки билетных касс, дремотный воздух, напоенный запахом пыли и бензина, и вдали на подернутом дымкой полотне неба замершие в неподвижности сиреневые и розовые купы миндаля и иудиного дерева. Была ранняя весна, но солнце уже припекало по-здешнему жарко; вдоволь насладившись им в первые часы ожидания, я бродил из-под одного навеса под другой в погоне за перемещающейся тенью. На прижавшейся в укромном уголке скамье я приметил еще одного ожидающего автобус пассажира, – это был маленький, заросший седой бородой старичок в мятом чесучевом пиджаке и видавшей виды белой кепочке. Старичок был давним эмигрантом, еще 20-х годов, но русский не забыл. Оживившись от того, что я всем своим видом изъявил готовность его слушать, он поведал мне свою историю. Погром в украинском местечке, учиненный то ли махновцами, то ли буденновскими конниками, – он спрятался, а родители погибли. Трудный путь в Палестину – полтора года не имел крыши над головой, нищенствовал, два раза сидел в тюрьме. Тяжелая работа в кибуце – прокладывал дороги. Жена давно болеет, лежит неподвижно, приходится ходить за ней, как за ребенком. Старшая дочь живет с ними – умная, добрая, но семейная жизнь не задалась. Младшая – наоборот, удачно вышла замуж, но муж увез ее в Канаду, шесть лет не приезжает, – в Мексику ездит отдыхать, а к родителям не выберет времени. Был внук, необыкновенный мальчик, окончил университет, прочили, будет профессором, – погиб в Ливане. Уже после войны: машину обстреляли, ехали вшестером, никого даже не задело – только он. Старичок замолчал. Он комкал бороду в ладони и смотрел на меня светлыми слезящимися глазами, будто ожидая ответа. А я?.. Что мог сказать ему я с моим счастьем и удачей?.. И, не зная, что сказать, глупо посетовал: как однако нелепо, что автобусы не ходят по субботам: право же, какое отношение имеет Бог к уличному движению!.. «Слушайте, – старичок выпростал из длинноватого чесучового рукава темную руку с крепкими, рабочими ногтями, положил мне на колено. – Зачем рассуждать о том, что мы знать не может?» Он говорил доверительно, будто просил о чем-то лично для него дорогом и необходимом. «Поглядите вокруг. Бог подарил нам такой прекрасный мир, а попросил так немного: в седьмой день до звезды не ездить в автобусе. Так что? Мы должны отказать ему в этом?..» Тени на земле сделались длинными. Со стуком открылись оконца билетных касс. В киоске слева зажегся свет. Очнувшись, заурчали, зачихали дымом первые автобусы. На тахан-мерказит вдруг появилось много народа, у калиток с указателями разных направлений выстроились очереди. Солдаты с тяжелыми заплечными мешками, автоматами на груди возвращались из субботней побывки в свои части. Девушки в военной форме все как одна казались очень красивыми. Старичок подхватил холщовую торбочку, лежавшую рядом с ним на скамье, и суетливо поспешил к выходу на Реховот. Я возвращался в Петах-Тикву. Прощай, Иов!..
Придавленный болезнью к постели, я не спрашивал: «Почему?», «Зачем?» Не то что бы сдерживал себя, отгонял привязчивую мысль – просто в голову не приходило. Перед самой болезнью, мне казалось, я, как редко прежде, окреп в вере, но теперь понимаю: самую лучшую, самую глубокую веру принесла именно болезнь. И не потому, что я надеялся на Бога, мысленно вручал себя Ему, а потому, что, пока вновь не почувствовал земного притяжения, вовсе не думал о Нем, при этом – не умом, не памятью, а всем существом ни на мгновение Его не теряя. Он незамечаемо присутствовал в воздухе, во мне самом, в людях, с которыми я общался, даже в предметах, которые меня окружали. Он был небом за окном, деревьями на фоне неба, моим Медным Всадником, понемногу отдававшим ветру, который тоже был Он, свои пожелтевшие к осени листья. Всем существом я знал, что Он есть, и ни разу не затруднился мыслью отдать себе отчет, что знаю это.
В течение всей жизни не обделенный любовью, я никогда с такой очевидностью не чувствовал любовь ко мне людей, как в тяжкую, но благодаря этой любви прекрасную пору болезни. Близкие и друзья, врачи, сестры, санитары, соседи в палате, самые разные люди, знакомые и даже незнакомые, все вместе и каждый на свой лад, делом, словом, взглядом, улыбкой выказывали мне свою любовь, и я, как никогда прежде легко, радостно, безотчетно, любил всех, кого видел, о ком слышал, о ком думал, о ком никогда не слышал и не думал, но знал, что они есть, где-то там, за окном, на ближайшей трамвайной остановке, в Москве, в Риме, в Порудаминах, в Австралии. Критический взгляд, ирония, подозрения, зависть, несоответствие и несогласие – всё развеялось, ничто во мне не омрачало моей любви, так же, как – я был убежден в этом, всем существом это чувствовал – не омрачало любви людей ко мне. Надо ли было приставать к Провидению с дурацкими «Почему?», «Зачем?» Разве мало всеобъемлющей любви в себе, вокруг, которую мне посчастливилось испытать? Разве осознание такой любви само по себе не есть и смысл, и цель, и назначение?..
...Два санитара быстро катят мою кровать в операционную, сестра спешит рядом, придерживая одной рукой положенные мне на ноги папки с записями историй моей болезни, рентгеновскими снимками, результатами обследований. По коридору – в лифт и на первый этаж, который здесь именуется не «первым», а «эрдгешосс», наземным (а первый – наш второй), и снова по коридорам, пустым и светлым, автоматические двери распахиваются нам навстречу и снова затворяются за нами следом. Санитары почти бегут, подбадривая друг друга энергичными восклицаниями, мне уже приходилось видеть в здешних больницах эту скоростную, слаженную работу и любоваться ею, я, кажется, и на этот раз отдал должное бодрой силе, с которой ладные ребята гнали мою кровать в этой залитой чуть зеленоватым светом дневных ламп пустоте, я не ведал, что они старались обогнать убегающую из меня жизнь.








