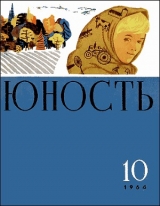
Текст книги "Тучи над городом встали"
Автор книги: Владимир Амлинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Значит, и отец твой был...
Почему-то во всем моем рассказе его заинтересовал только мой отец.
– Да, и отец был. Кстати, хочешь вечером к нам прийти?.. В шахматы сыграем, может, отец подойдет.
Он усмехнулся сумрачно, недобро, глаза его ожили и блеснули.
– Твой отец все в шахматы играет. Все в шахматы играет, в поддавки играет... Да? И на демонстрацию ходит. Да?
Он все продолжал неестественно, напряженно улыбаться, а я не понимал, чего он хочет.
– Твой отец скоро чемпионом будет, – продолжал он, а я уже почти не слушал его, а только как-то смутно угадывал, что сейчас он скажет что-то такое, чего уже не взять обратно, не поправить, что-то очень скверное, страшное, такое, из-за чего я должен буду ударить его, такое, из-за чего можно убить человека.
Но, словно отрезвев, он замолчал, вернее, заставил себя замолчать, потому что ему хотелось сказать это. Губы его еще шевелились, но беззвучно, и он втянул шею в плечи, что-то давя в себе. И так сидел, наверное, минуту, насильственно, напряженно молча.
Потом он снова опустил голову на руки и крепко сцепил пальцы.
Я увидел, что голова его мелко, почти незаметно дрожит. И вот уже эта дрожь передалась плечам, и плечи тоже затряслись, только не мелко, а круто, резко, волнами.
– Что ты, что ты! – быстро сказал я.
Он шевельнул плечами, словно сбрасывая с себя эту дрожь, но она не уходила, она разламывала его и качала из стороны в сторону.
– Отца!.. – крикнул он ломающимся, незнакомым мне голосом и жестко ударился лицом в крышку парты. Затем с огромным усилием он поднял маленькое, серое, помертвевшее лицо. – Отца, отца... – повторил он и что-то еще хотел добавить, но не смог.
Потом он задохнулся и замолчал, и щеки у него свело. Он встал из-за парты, повернулся к окну, не глядя на меня, тихо, тускло сказал:
– Отца семнадцатого апреля убили. Мать еще не знает.
Он аккуратно достал из кармана своей бесцветной гимнастерки листочек бумаги, развернул его, совсем близко поднес к глазам и внимательно прочитал, точно проверяя правильность сказанного. Затем он так же аккуратно сложил листочек вдвое и бережно положил в карман.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оркестры на площади еще играли, в тишине их было слышно очень отчетливо.
Глава 13
– Ты спишь, пацан?
Я его не вижу в темноте. Только слышу, как он возится в коридоре, снимает плащ, ботинки, как натыкается на алюминиевый таз, стоящий под умывальником, и как таз долго, противно звенит.
– Нет, я не сплю.
– А что ты делаешь!
– Думаю.
– Ты большой русский мыслитель? Да?
Настроение у него хорошее. С чего бы это? Получил хорошее письмо от нее? Или просто так. Уже я не помню, когда у него в последний раз было хорошее настроение. И всегда так получается, что у нас все наоборот: ему хорошо – мне плохо.
Он входит в комнату, подходит к моей раскладушке, склоняется надо мной.
– Пацан, я по тебе соскучился, мы с тобой почти не видимся.
Я что-то бурчу в ответ. А сам думаю: раньше надо было по мне соскучиваться. Когда еще она была. А теперь-то что!
– Хочешь, зажжем коптилку, будем жить, а не спать. Все-таки праздник.
– Мне спать охота... Мне завтра в школу.
– А мне завтра в Большой театр? Ладно, дрыхни, маленький, скучный старичок.
Он в темноте стелет себе постель. Он это ловко делает в темноте. Привык приходить, когда я сплю.
– Ты Хайдера помнишь? – неожиданно говорю я.
– Да. Которого ты сюда приводил. Он еще в шахматы ничего играл.
– Да. У него семнадцатого апреля отца на фронте убили. Сегодня повестку получил.
– Жалко парня.
Отец ложится, долго устраивается, выбирая удобное место, кровать издает какой-то звонкий, жидкий звук.
Я вспоминаю белое лицо Хайдера, его неожиданный, страшный горловой крик «отца... отца», мне хочется забыть это, скорей уснуть, но я знаю: уснуть не удастся. И еще я вспоминаю то, что он не договорил: то, из-за чего я мог бы убить его. То, о чем я не думаю только потому, что не позволяю себе... То, о чем я никогда не спрошу отца.
Почему ты здесь, а не там? Я понимаю, ты нужен здесь, ты работаешь в госпитале, на тебе лица нет, ты проводишь там круглые сутки. Кроме того, ты ведешь занятия со студентами. Война войной, но студенты-то должны учиться, а то у страны не будет врачей. И мне хорошо, что ты здесь, а не там, что ты рядом.
Но я не хочу, чтобы Хайдер, чтобы я сам так мог подумать о тебе. Поэтому я спрашиваю тебя: почему ты не на фронте? Я спрашиваю тебя мысленно. У меня нет сил спросить тебя вслух. Я не имею права спросить тебя вслух. Если бы я не верил тебе, если б я не знал, какой ты, я просто подошел бы к тебе и сказал: отец, почему ты не на фронте?
– Что ты там бормочешь?
– Так.
– Ты спи.. Конечно, жалко этого мальчика. Всех этих мальчиков жалко. Понимаешь, каждый день тысячи мальчиков получают эти извещения.
– Других я не знаю. Я Хайдера знаю.
– Ну, и что теперь делать? Хныкать, не спать? Вчера в госпитале тоже... трое. И их мальчики еще ничего не знают. Даже еще извещения не оформлены. И это будет каждый день, и завтра, и послезавтра...
– Всю жизнь?
– До тех пор, пока мы не победим.
Пока мы не победим. Пока вы не победите. Сидя здесь. За три тысячи километров от фронта. И опять, почти вслух, я говорю ему: отец, почему ты...
– Ты чего? – сонно спрашивает он. – Что ты все вертишься на кровати? Спать, спать!
– А у меня, может, бессонница...
Глава 14
Хочу забыть обо всем на свете. О Хайдере. О его отце. О Шеле. Хочу забыть об эвакуации, о холодах, об этом городе, о том, что ребята грызут на уроках жмых. О том, что от матери третий месяц нет писем... Обо всем на свете. Хочу забыть о войне.
Войны нет. Весна. Да еще какая! Лето в мае. Восемнадцать градусов, всюду мокро, весь город – огромная блестящая лужа.
Вечером иду в кино, в клуб. «Дети до шестнадцати лет не допускаются». Идиотская надпись, уравниловка... Смотря какие дети. Недоразвитых и в восемнадцать не надо пускать.
– Мальчик до шестнадцати, сейчас вечерний сеанс.
Это билетерша. У нее низкий, мужской голос.
– Я вам не мальчик.
– А кто же ты?
– Гражданин.
– Видали таких граждан? А ну, пошел отсюда!
– Я билет купил за семь рублей. Мне шестнадцать лет. И вообще, чего вы грубите!
– Я тебе не грублю, я тебе по-русски говорю.
Попробуй объясни ей... А мне хочется в кино, я уже давно в кино не был. И потом семь рублей...
Я делаю равнодушные, невидящие глаза и иду мимо нее, как мимо столба. Это старый прием. Идешь быстро, но очень спокойно. Голову держишь высоко. Равнение на надпись «Запасной выход». И вдруг, когда билетерша устремляется за тобой (а она помешкает секунду-другую обязательно, потому что люди проходят за тобой мимо нее), ты сжимаешься и делаешь короткий, прямой бросок в зал. Как мячик. Раз – и в ворота. А в зале уже гаснет свет и ищи-свищи ветра... Да и кому охота этим заниматься!
Это старый коронный прием мальчиков-безбилетников с Чистых прудов (они «прикреплены» к «Колизею») и с Пушкинской (эти шуруют в «Художественном»). Работа эта не лишена риска. Но мальчики-безбилетники любят рисковые дела. А я не безбилетник – и это придает мне сил. Я купил билет за семь рублей, но что поделаешь, если контролерша такая стерва.
– Эй, пацан! Может, милицию позвать? Пацан, остановись!
(«Пацан» – как по-разному это звучит! Отец ведь тоже иногда называет меня так.) Насчет милиции это она загнула. В городе всего несколько женщин-милиционеров и один усатый старик, похожий на городового. Они далеко, и их не тратят по пустякам.
Вот я уже и в зале. Показывают журнал «Битва под Москвой». На экране генерал Рокоссовский осматривает позиции. Это молодой, стройный генерал, и у него походка наполеоновского маршала. Так, может быть. Ней ходил или Даву. И вообще Рокоссовский мне нравится. Он дал немцам под Москвой! И потом он действительно похож на генерала. Бывают такие толстые, маленькие генералы, не поймешь, то ли повар, то ли генерал (правда, Кутузов тоже толстый был). А этот шагает легко, властно, смело, как и подобает генералу. И он стрижен ежиком. И у него прищуренные зоркие глаза. И у него фамилия какая – Р о к – оссовский – роковая для фашистов фамилия. Он мне с самого начала понравился, с первых военных киножурналов. С тех пор я за него «болею» и даже собираю про него вырезки.
Генерал Рокоссовский осмотрел позиции и уехал в маленькой бронированной машине, а наши орудийные расчеты дали залп по врагу, и киножурнал кончился. В зале загорелся свет. Я подумал, что сейчас контролерша будет меня искать. Но ничего подобного. В зале было много пацанов, особенно в первых рядах, – настоящие безбилетники, но попробуй, всех перелови и выведи. А может, она их по-соседски пускает, а я в этом кино первый раз.
Когда зажегся свет, я решил пересесть поближе. Оглянулся – вижу, в четвертом ряду сидит девушка лет шестнадцати-семнадцати. С затылка ничего. Стрижена коротко, как студентка. Но на студентку, пожалуй, не тянет – так класс девятый или десятый. Я минуточку поколебался... Садиться рядом или нет! А потом думаю: ладно, чего я теряю? Не понравится она мне – буду кино смотреть.
Заготовил две фразы. Первая: «Я вам не помешаю?» Вторая: «Здесь, кажется, свободно?»
Я немного помешкал, а тут и свет погас. Я сел и спросил тихо:
– Я вам не помешаю?
Но спросил так тихо, как будто я сам с собой разговариваю. Она даже не повернулась. Это мне не понравилось. Я не люблю таких, которые не поворачиваются, которые делают вид, что ничего не произошло, которые как будто не понимают, что к ней специально подсели, которые сидят неподвижно, с напряженным профилем. Знаете, такой каменный, как барельеф, не отвечающий, напряженный профиль... Но, может, она просто подумала, что я воришка или псих, который только и ждет, когда в зале станет темно и можно будет разговаривать самому с собой. Я решил обождать. К тому же я ее еще толком не разглядел. Свет погас, а кино не начиналось. В задних рядах уже кричали:
– Сапожники, сапожники!
Наконец пыльный струящийся луч потянулся к экрану, и звук заработал со страшной силой и хрипотой.
После первых кадров, улучив паузу в этом неразборчивом, гулком хрипении, я сказал, довольно четко и явно обращаясь к ней, а не к самому себе:
– А фильм-то черно-белый (это в специальной книжке, которая у отца была, я вычитал, что нормальные серые фильмы называются черно-белыми)!
Она опять не ответила. Теперь я разглядел ее профиль. Профиль был ничего, симпатичный. Она была курносенькая.
– Да, черно-белый фильм, – повторил я, чувствуя, что начал не с того, слишком научно.
– А какие еще бывают? – не поворачиваясь, прямо держа устремленный на экран и тем не менее довольно симпатичный, но несколько напряженный профиль, сказала она. – Черно-красные или серо-буро-малиновые?
– Бывают черно-белые, трехцветные или цветные. Бывают также немые, звуковые или звуковые с одной музыкой.
– Что-то я таких не видела.
– Например, «Огни большого города». Чарли Чаплин протестовал против звука и сделал одну музыку.
– Да?.. Ну давайте смотреть этот черно-белый, как вы говорите, фильм.
– Давайте.
Но в том-то и дело, что смотреть я уже ничего не мог. Я внимательно глядел на экран, но не мог понять, что там происходит, потому что обдумывал свою следующую фразу. Но поскольку я не мог смотреть фильм, то и говорить мне было не о чем. Нелепо же во время сеанса вести отвлеченные разговоры, не относящиеся к фильму. Я смотрел на экран тупо и напряженно, пытаясь понять, что там происходит, кто кому кем приходится и чего они в конце концов хотят друг от друга. Фильм был довоенный, музыкальный. В конце концов это надоело мне, и я вовсе перестал смотреть на экран, а стал все чаще и дольше глядеть на свою соседку. Казалось, нет для нее ничего более интересного, чем эта музыкальная картина. Ее глаза прямо-таки вцепились в черно-белый квадрат экрана. Иногда, в самых интересных местах, она громко смеялась или говорила сдавленно: «Ой, не могу!»
А я все смотрел на нее. Не отрывая глаз от экрана, она сказала:
– Вы бы лучше туда смотрели. Гораздо интереснее.
Я хотел сострить, но не нашелся и пробормотал еле слышно:
– Это смотря на чей вкус.
Теперь мне вообще нечего было делать. Смотреть на экран не хотелось, на нее – неудобно. Я закрыл глаза.
– Может, тебе подушку дать? – прошелестел чей-то старческий голос. Это была моя соседка слева.
– Дайте, – сказал я, не открывая глаз. – Только с чистой наволочкой.
– Пускают таких хулиганов на вечерний сеанс, а они дрыхнут, – продолжала старуха.
– Не мешайте, я слушаю музыку, – сказал я.
– Тише, товарищи, мешаете смотреть! – Это уже курносенькая вмешалась.
Я чуть-чуть всхрапнул, чтобы позлить старуху, а затем стал смотреть конец картины. Но вот и сеанс кончился.
Курносенькая встала и оказалась довольно высокой, почти с меня. Высокой и взрослой. Вряд ли она была ученицей. Да и студенткой тоже. Скорее всего она работала на заводе.
При свете я с ней не мог разговаривать, хотя мы вместе двигались по узкому, сырому, как бомбоубежище, коридору выхода. Мы вышли на улицу. Она пошла в сторону, прямо противоположную моему дому. Я – за ней. Сам не знаю, зачем. Нельзя сказать, чтобы она мне понравилась. Она шла впереди, я сзади примерно на метр. Там, в полутьме зала, в мелькании кадров, в музыке, я чувствовал себя все же легче, чем здесь, на ночной пустынной улице. Наконец, я догнал ее и пробормотал:
– Ничего, если я вас провожу?
Она чуть сбавила ход и сказала:
– У вас в Москве все такие... смелые?
«Ничего себе смелый», – подумал я. Вот это смелость – идти сзади, мучиться и молчать.
– Нет, это только в 81-й школе на Арбате такие. Да и то не все. А откуда вы знаете, что я из Москвы?
– Видно.
– По чему же это видно? Форма черепа, разрез глаз, особенности голеностопного сустава? (Теперь я словно на свободу вырвался. Разговаривать стало легко и весело. Раньше я как будто плыл со связанными руками. Теперь веревки сброшены, и я плыву по знакомой реке.)
– Да нет, не форма черепа. Я вам даже объяснить не могу... Ну, разговор у вас московский, что ли...
– А, панятна... аканье. Я акаю, ачевидно, как все масквичи. Патаму что раз масквич, значит, акает.
Она засмеялась.
– Да нет, вы нормально говорите.
– А вообще все остальные москвичи разговаривают ненормально, да? Подвывают, заикаются, иногда даже рычат... Да?
– Да нет. Ну, как вам объяснить... Москвичи какие-то свободные слишком. Их сразу узнаешь – легкие они на знакомство.
– Так это плохо?
– Не знаю. По-моему, не очень хорошо.
– Ну да, вам нравится молчание. Молчание – золото. А знаете, что молчание очень часто – признак тупости? Молчат те, кому нечего сказать, у кого мыслей нет. (Это была одна из отцовских фраз.)
– А у вас есть мысли?
– Есть.
– Что-то не видно.
Я хотел обидеться, но быстро передумал. Если бы я обиделся, мне пришлось бы уйти. А мне не хотелось. Мне нравилось провожать ее.
– А вы учитесь? – спросила она.
– Да.
– В каком?
– В десятом, – быстро сказал я.
Она посмотрела то ли с уважением, то ли с недоверием. В темноте я не понял.
– А вы?
– Я уже отучилась. Девять окончила, пошла на завод. В тот день, как отца проводила на фронт. А у вас отец на фронте?
Я помешкал... Мысленно сказал: да.
– Нет. Он здесь.
– Инвалид?
– Нет. Врач.
– А мать?
– Мать в Ташкенте.
– Чудно. Сын в Сибири, мать в Ташкенте.
– Бывает.
Мы оба замолчали. Теперь мы шли по узенькой улочке. По обе стороны ее стояли серые, как будто ободранные дома. Около дворов толкались какие-то пацаны, курили махру, сплевывали, посмеивались и глазели на нас. По-моему, они скучали.
Мы шли, как сквозь строй. Один из них сказал очень громко, на всю улицу, высоким ломким голосом:
– Варька жениха на фронт проводила, теперь только с малолетками... – Он выругался и оглядел своих корешков, ожидая смеха.
Кто-то хмыкнул, но вообще было тихо, и только наши шаги быстро и неловко стучали по земле.
Что делать? Драться? Их было слишком много. Да и настроения не было, злости, завода. Для того, чтобы драться, нужно завестись. Но и прощать такое хамство я не мог. Еще скажут слово, полезу, решил я.
– Варька, ты его обучи. Он еще салага, необученный, – снова зазвенел над узкой сонной улицей высокий, чуть истеричный блатной голос.
Варя болезненно сморщилась. Я остановился и пошел назад – к тем, что стояли у двора. Они гурьбой с готовностью пошли мне навстречу.
– Чего надо? – сказал я.
– Ничего не надо, кроме шоколада, – кривляясь, сказал тонкоголосый. – Шоколад любишь, на, выкуси!
Он протянул ко мне маленькую грязную руку, сложенную кукишем. Я ладонью сверху ударил его по руке. Кукиш разжался.
– А по ха не хо?! – тихо сказал он (это означало: «А по харе не хочешь?!»). – Сейчас хохотальник почистим.
Сзади слышалось чье-то взволнованное, прерывистое дыхание. Это была Варя. Она бежала ко мне. Она бежала тяжело, чуть переваливаясь, шла грудью на всю эту банду. Лицо у нее было красное, яростное, нос как-то особенно вздернут, как маленький, но беспощадный клювик. Она походила на наседку, защищающую цыпленка.
– А ну, брысь, погань, шпана несчастная! – кричала она на них. – Хулиганье бесстыжее! А ты отойди. – Она рванула меня за рукав.
– Вишь, как Варька разволновалась из-за своего хахаля, – сказал тонкоголосый.
Вдруг чья-то знакомая рослая фигура выдвинулась из темноты, из заднего ряда, где, по-волчьи поблескивая глазами, стояло несколько низкорослых малолеток.
Это был Фролов. Он, прищурившись, поглядел на меня, точно удостоверяясь, я ли это, затем перевел взгляд на Варю и сказал лениво и повелительно, обращаясь к тонкоголосому:
– Ладно, отзынь... Я его знаю. Из нашего класса. Хайдеров корешок.
– Хайдеров? – недоверчиво переспросил тонкоголосый и посмотрел на меня с удивлением.
– Закурить есть? – сказал он почти дружелюбно.
– Нет.
– Ну, извини в таком разе.
Они отошли, а мы с Варей двинулись дальше. Я уже был почти совершенно спокоен и готов был продолжать разговор о чем угодно, а она вся кипела. Женщины вообще злопамятные. Я не знал, чем отвлечь ее, и молчал. Эти гады испортили нам все.
Она остановилась у углового домика и сказала:
– Ну, все. Вот здесь мы и живем.
Дальше был пустырь, а оттуда дул теплый ветер с легким запахом гари.
– Еще рано идти, – сказал я. – Время детское.
– Вот именно, детское. – Она усмехнулась и посмотрела на меня.
Потом она помолчала и протянула мне руку. Рука у нее была узкая, теплая и легкая, как у маленькой девочки. А мне казалось, у нее должны быль так называемые «трудовые руки». Я хотел чуть-чуть задержать ее руку в своей, но мне стало неловко, я вспомнил тех пацанов и разжал пальцы.
– Пойдемте завтра в кино, – тихо сказал я.
– Завтра я не могу.
– А послезавтра?
– И послезавтра тоже.
– А когда?
– Когда-нибудь.
«Когда-нибудь» – это значит «никогда». У «когда-нибудь» такой смысл. И еще «когда-нибудь» – это значит «не хочу». «Когда-нибудь» – это значит: мне неинтересно с тобой, ты мал для меня, ты школьник, шпингалет, ученик 10-го класса, а вернее всего, 9-го или 8-го, а у меня есть настоящий жених, и он на фронте... Вот так я понял это «когда-нибудь».
– Ну что ж, ладно... когда-нибудь, – сказал я и пошел назад.
Она еще стояла, не уходила. Я не слышал ни шагов, ни движения.
– Подождите! – крикнула она.
Что-то дрогнуло во мне, и я остановился в ожидании чего-то нового, удивительного. «Подождите... Я люблю вас», – проговорил я мысленно те слова, которые она должна была произнести.
Она подошла ко мне и сказала быстро, шепотом:
– Обещай мне, что ты не станешь связываться с ними... Что ты не будешь им отвечать. Я боюсь отпускать тебя... Одного.
– Вот как! – Я даже присвистнул.
Она удивительно походила на пионервожатую. Когда я учился в младших классах, к нам прикрепляли пионервожатых. Им полагалось бояться.
– Вы не бойтесь. Меня не убьют. И мы, может, даже увидимся. Когда-нибудь. Спокойной ночи!
Я снова засвистел и пошел. Сначала быстро, потом совсем медленно, чуть притаив дыхание. Может быть, она еще раз окликнет меня? Но пионервожатые окликают только раз. Когда уж очень боятся. Они заботливые. Такая у них профессия. И у них у всех есть женихи, которых они тоже окликают, только по-другому.
Какая-то тяжесть была внутри. Я шел, не оглядываясь, но я чувствовал спиной: она не ушла.
Глава 15
Улица серела, я грудью ощущал пронизывающий ветер, пустоту и все нарастающее с каждым медленным шагом одиночество. А может, это было что-то другое – вязкое, горькое, отрывающее тебя от всех людей от всех еще горящих окон, от всех запирающихся на засовы дверей... Чего я ждал от этого провожания? Ничего. Просто познакомился, проводил – и домой. А все-таки чего-то ждал. И вообще чего-то ждал каждый день, ждал чего-то. Черт его знает... какой-то дурацкой любви, что ли? Да нет, просто ждал, просто ждал вот чего-то такого, что например, бывает, когда слушаешь пианиста: он талдычит по клавишам какого-нибудь Шумана, а тебе скучно, ты засыпаешь, и вдруг что-то остановилось в тебе, перевернулось, и ты замер, как суслик на дороге, – и такая необъяснимая надежда на что-то... И от стихов это иногда возникает, только реже, а чаще всего просто так – на улице, вечером, весной. Наверное, у старых этого не бывает.
Сейчас это мешало мне, я выругался вслух и пошел уже быстрее. И вдруг слышу: по мокрой, жидкой земле – чап-чап, кто-то бежит. Не оборачиваюсь. Иду.
Она дергает меня за руку. Я останавливаюсь.
– В чем дело? – говорю спокойно, будто и ждал ее.
Она запыхалась, лицо в пятнах, дышит шумно.
– Ты, я вижу, их боишься. Идешь еле-еле, ногами шаркаешь, как контуженный.
– Боюсь, – говорю. – Ты же видела, как я их там боялся.
– Они тебя измордуют так, что своих не узнаешь.
– Узнаю. А вы чего волнуетесь?
– Сейчас только помешанные гуляют. У нас тут чего хочешь бывает. На днях одного эвакуированного раздели и шлепнули.
– Страсти какие! Короче, в чем дело?
Она все шла рядом со мной и все говорила, говорила и вдруг замолчала. Я снова засвистел художественным свистом «Санта Лючию». Она сказала:
– Если хочешь, идем ко мне. Рассветет – уйдешь. А не боишься этих – иди дальше. Дело твое.
– Боюсь этих, – быстро сказал я.
– Как хочешь, в общем. – Голос у нее вдруг стал сердитый. – Можешь у меня переждать, пересидеть на табуретке часа три до рассвета. Диванов всяких у меня нет. А не хочешь – иди домой, только я за тебя не отвечаю.
Я быстренько соображал. Отец будет психовать. Ладно. Пусть. Не все же ему возвращаться на рассвете. И вообще... Да, конечно... Иду к ней, хотя...
– Ты, я вижу, сам не знаешь, – сказала она. – В общем, привет, я пошла.
Я молча двинулся вслед за ней. Было зябко, мы шли быстро. Прошли двор, она первая поднялась на ступеньки, стала открывать дверь. Ключ долго лязгал, руки у нее, что ли, дрожали...
Наконец открыла. Коридор темный, узкий, длиннющий.
– Идем. – Она меня подтолкнула, но я на что-то наткнулся, то ли таз, то ли ведро, что-то загремело долгим жестяным тренькающим звуком. – Какой ты неловкий! – громко, сердито прошептала она. – Пошли.
Она пошла вперед, дала мне руку. Я крепко сжал ее руку. Чудесная у нее была рука, гладенькая, маленькая, как шоколадка. Она идет вперед, я за ней, вцепился в ее руку так, что ей неудобно идти. Она чиркает спичками. Коридор весь заставлен каким-то хламом. Вдруг из-за закрытой двери кто-то странным, плачущим голосом спрашивает:
– Степушка, это ты?
Она, не моргнув, спокойненько отвечает:
– Я, мамаш, я.
Я ей шепчу:
– Ты чего?
Она машет рукой: мол, потом. Наконец подходим к ее двери. Она открывает ключом, на этот раз быстро. Входим в комнату. Холодно здесь, как в погребе. Кто-то спит на полу под одеялом и тулупом.
– Это сестренка, – говорит она. – Нас уплотнили, все в одной комнате. Мы с ней на полу, а мать на кровати.
– А где сейчас мать? (Этот вопрос я давно хотел задать, но не решался: раз она не беспокоится, чего же мне?..)
– В ночной смене. В шесть придет.
Мне показалось, что она еще что-то хочет добавить насчет того, чтобы я в шесть смылся... Но она не добавила. Может, она матери не боится, а может, она и не думает ничего такого. И я не стал ни о чем таком думать.
– У вас тут Северный полюс.
– Да, мы уж привыкли. Мать вторую неделю бьется, ходит в завком: нету угля, и все. Хочешь, свет зажгу?
Я не ответил, а она уже зажигала какую-то лампадку. У них топливо совсем плохое было, фитилек еле горел на каком-то жире, все время загасал.
– Жмыху хочешь? – сказала она.
– Давай.
Она ушла, должно быть, на кухню, и теперь я мог разглядеть комнату. Комната походила на пенал: длинная и узкая. Неясно белела печка с толстой, уходящей куда-то под потолок трубой. Казалось, весь холод исходил от этой бездейственной, тускло светящейся, будто большой сколок льда, печи. Печи, которые не топятся, всегда так и тянут холодом.
Еще я заметил иконку, на нее косо падал свет из окна, и она золотилась на стене. В коридоре послышались шаги, и снова чей-то совиный, резкий голос спросил:
– Степушка, это ты?
– Я, – послышался Варин голос, а через секунду она отворила дверь в комнату.
– Слушай, кто это тебя Степушкой называет?
Она протянула мне кусочек жмыха и сказала:
– А это соседка Марфа Дмитриевна. Она всех, кто ночью придет, окликает... У нее младший сын был Степка, в пятом классе учился, отдыхать уехал куда-то в Россию, чуть ли не под Москву, а потом возвращался домой, и поезд немецкие самолеты накрыли. Вагон загорелся, а он как сиганет из вагона! И никто его больше не видел. Марфе Дмитриевне рассказали – так она ничего, даже не заплакала, только побелела сильно. И на работу пошла. А ночью все вскакивала и все окликала: «Степа, Степушка!» И с тех пор окликает, только теперь не встает, а на кровати лежит, шаги чьи услышит ночью, думает, ее Степа, и зовет... Ну, не станут же ей объяснять, в чем дело, откликаются... А днем она совсем нормальная, только ночью окликает.
Она замолчала и села на материну кровать, кровать заскрипела, застонала, сестренка сказала глуховато во сне: «Ты чего?» – и перевернулась на другой бок.
Варя встала, отдернула занавеску, в комнате посветлело, и икона перестала блестеть.
– У тебя что, мать верующая?
– Да нет. Так... Иногда. Об отце говорит иной раз, перекрестится.
Она замолчала, и я молчал: не знал, о чем говорить. По-моему, она хотела спать, она молчала как-то сонно, устало, а я молчал в странной и неприятной напряженности. Хотелось чего-то другого, чем то, что было, других разговоров, другой тишины. Но так уж пошло, и эта старуха с ее совиным голосом, и этот холод, и ледяная печка... Пожалуй, надо было идти домой. Я почему-то вспомнил тот вечер, когда Шеля уходила на фронт, как я пил спирт, и как мне было легко, горячо, и как я с ней танцевал. Сразу другим становишься, когда выпьешь, будто из другого теста тебя сделали. Вся тяжесть уходит, и ты как бы на коньках скользишь. Вот сейчас бы немного спирту!
– У тебя выпить нету?
– Откуда же? У нас не пьют. Вот когда Костю провожали – пили.
– Костя – это жених?
– А тебе что?
– Да так... А сколько ему?
– Сколько есть, все его.
Я представил себе, как в этой комнате было светло, горело несколько таких коптилок на жире, может, и керосину раздобыли для такого случая, и как они кричали, пели, а что они пели, не знаю, может, «Если завтра в поход», а может, «Тучи над городом встали...». Лучше бы пусть они пели «Тучи над городом встали...»: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, за далекой за Нарвской заставой парень идет молодой». Нет, лучше другой куплет, он больше подходит:
Приходи же, друг мой милый,
Поцелуй меня в уста.
И клянусь, что тебя до могилы
Не забуду никогда.
Вот я вижу, как они поют, а у него голосок ломкий, а глаза влажные, и весь он светленький, лет ему восемнадцать, всего на два с половиной года старше меня... Но он уходит на фронт, она ему поет и не плачет, держится, а все орут, голоса у них дикие, пьяные, я знаю такие голоса, а ее мать украдкой крестится, и какая-нибудь лампада все время гаснет, а он пьет спирт мелкими глотками, как Шеля... А что делаю я? Он уходит на фронт – это ясно, а что делаю я? Два с половиной года нас разделяют. Два с небольшим. Почему? Я не хочу. Почему не мне она поет, почему ему восемнадцать, а не мне, почему он уходит, а не я?
И вот я вижу, как голос у нее становится влажный, разбухший от слез, но она все еще поет, а слова не идут, а текут, как вода. И он ее целует, и тогда только она замолкает, и он ее снова целует в мокрые, блестящие щеки, в опухшие губы, в глаза. Целует так же, как, наверное, отец – Шелю, когда она уходила. Не знаю, как целуют, когда провожают на фронт... А что делаю я? Сижу в сторонке, пью кисель из порошка. Может, не кисель. Может, он расщедрится, даст мне наперсток спирту.
– Варя, а сколько ему все-таки лет?
Не отвечает. Я встаю со своего холодного табурета, подхожу к ней. Она как бы отъехала от стены, шея и плечи утыкаются в стену, а тело неудобно, нескладно, свисая, лежит поперек кровати. Она спит. Неудобно так спит. Руки лежат на коленях... Мне хочется чуть повернуть ее: ей ведь неудобно, очень неудобно так спать... И вот я неожиданно решаюсь, одну руку просовываю между стеной и ее плечами, другой беру ее за щиколотки и довольно легко приподнимаю. Она бормочет придавленно, неясно: «Ты чего, ты чего?» – но тело ее не сопротивляется, и какое-то мгновение я чувствую ее нетяжелую, теплую тяжесть. Я быстро кладу ее вдоль кровати. Я отхожу. Платье у нее задралось. Я подхожу и закрываю ее голые колени. Все это будто бы не я делаю, а кто-то другой, а я им только мысленно управляю.
Она постанывает чуть-чуть, я наклоняюсь над ней и подкладываю под ее голову подушку. Она дышит на меня каким-то детским теплым, молочным запахом. Мне ее стало вдруг ужасно жалко. Спящих всегда жалко. А ее особенно. Но на черта я ей нужен? Теперь я ее положил, подушку под голову подсунул, и можно мне идти домой... Небось, она думает: малолетка, ребенок... А я вот старше ее на тысячу лет, на целую огромную жизнь, вот сейчас она малолетка передо мной. Жалкая, спящая малолетка! И дышит, как малолетка. Молоком. Молоко на губах не обсохло... Рука свесилась вниз. И рука тоже как у малолетки, легкая, беспомощная. Ее руке, наверное, неудобно так висеть, надо взять ее руку и положить вдоль тела. Только положу руку и уйду...
Беру ее руку, очень так осторожно, как стеклышко. И вдруг чувствую какая-то дрожь проходит по всему ее телу, она сонно, слепо тянется ко мне. Я сажусь у изголовья кровати, задеваю торчащую из-под ее головы подушку, и подушка легко шлепается на пол. Что-то меня сдавливает, я снова вижу эту светлую комнату в неровном колебании десятка коптилок, и этого жениха, который целует ее в мокрое лицо, и я беру ее голову, кладу на свои колени. Секунду я сижу неподвижно, мне неудобно, странно и тяжело. Она поворачивается, ей, видно, тоже неудобно, она ложится на мои колени не затылком, а щекой. Я опускаю голову и утыкаюсь в ее теплую, с нежными вмятинками от упавшей подушки щеку и замираю так, и какие-то мысли быстро, ненужно, как пустая мельница, крутятся в моей голове. Они мешают мне. Если б не они, я бы замер навсегда в этой теплой, чуть пушистой щеке. Я приподнимаю ее голову на уровень своей груди и вижу губы, крупный четкий, красивый рот. Что-то меняется, я забываю нежность и слабость ее щеки, я вижу только этот неподвижный, темный рот, и я целую его долго, жестко, неумело, потому что не чувствую ничего. Только легкий привкус крови. И вдруг она обвивает руками мои плечи, быстро и сильно притягивает меня к себе, к своему лицу, к своим засверкавшим маленьким глазам.








