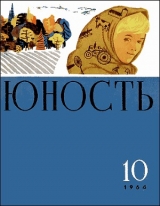
Текст книги "Тучи над городом встали"
Автор книги: Владимир Амлинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Глава 9
Я почти бежал по темным улицам, под ногами моими хрустела слабая пленка льда. Я давил ее, из нее, как сок, вытекала вода, и студеные черные ручейки бежали по неровной, ухабистой мостовой. Скрипели под ногами застывшие желтые листья, свернувшиеся в трубку, железные, как давние кладбищенские цветы на окраине города. Безлюдно было, тихо, только завод был слышен, он гудел натужно, нарастающе, как кипящий чайник. Там собирали танки, потом их грузили на окружной станции днями и ночами, потом они стояли на платформах, тупо-бесформенные, не опасные, в зеленых чехлах, словно бы притворившиеся не танками, а тракторами или комбайнами. Их было много – длинные, как улицы, составы. Много, а все не хватало. Ох, как не хватало. И все-таки, когда я смотрел на них, меня успокаивало, что их так много. Это на одной нашей станции столько, а сколько же на всех тыловых станциях страны... Я знал: я сплю, а этот огромный чайник все пыхтит, и в нем что-то закипает, из этого кипения выходят танки утром, днем, вечером, ночью, каждый час по танку, без праздников и выходных дней.
Но и там, за много тысяч километров отсюда, в немецких городах, где дома белые, крыты красной добродушной черепицей (так они мне представляются), в Руре (я помню, мы учили про железный Рур), тоже днем и ночью за высокими оградами шумят их заводы, и рабочие, может быть, чуть-чуть похожие на нашу полунемку, собирают танки. И какой-то мальчик, ученик 8-го или 9-го класса, идет мимо железнодорожного узла и видит платформы, на которых стоят покрытые зелеными попонами танки. Он одет лучше, чем я, у него за спиной ранец, у него на ногах гольфы, а под ногами – не тронутая бомбами земля... И он радуется, наверное, и улыбается, но не смеется. Боится все-таки смеяться. Ведь смеется тот, кто смеется последним...
Вот еще квартал, и будет мой дом. Здорово холодно. Пахнет зимой. Как это полунемка продержится без топлива... А снег еще не выпал, говорят, будет лютая зима... Это тяжело для нас, но об этом мы все мечтаем. Говорят, они хотели закончить все до зимы... Танки у нас, и танки у них, но зима за нас – и против них. Вот она, зима, рядом, она уже под ногами, и деревья уже зимние, голые, скрючившиеся. Небо белое, беззвездное, будто и на небе выпал снег и все звезды засыпал.
В Москве я любил возвращаться домой поздно. Мне нравилось, что я один и не один. Я был один, никто со мной не разговаривал, никто не шел рядом, никто от меня ничего не требовал и не просил, я ни от кого не зависел. Я был один и мог думать о чем угодно или не думать вообще. И я был не один, потому что люди выходили из метро и некоторых я знал в лицо, они здесь жили, на Кропоткинской, на Волхонке, а сейчас возвращались домой. Шли троллейбусы, с шипением рассыпая над дугами искры, какие-то парочки неподвижно стояли у забора, огородившего котлован строительства Дворца Советов, знакомый старик из нашего дома прогуливал своего боксера с брюзгливой, слюнявой мордой, боксер хотел казаться свирепым, но был на самом деле добрым.
И сейчас я подойду к подъезду и позвоню, лифтерша откроет мне и покачает головой с укоризной, и в ее сонных, тусклых глазах я прочту: маленький, а туда же... шляться по ночам.
Затем гулко и отчужденно прошумят шаги по пролетам лестниц, промелькнут по-ночному таинственные двери чужих квартир, и на пятом этаже в квартире № 19 кончится мое одиночество.
А здесь я тоже один возвращался, но здесь одиночество было другое: настоящее. Но вот и наш двор. Я поднимаюсь по узкой лестнице со ступенями, сбитыми, как старые подошвы. Открываю ключом дверь, вхожу. В коридоре темно, в комнате колеблющийся полумрак. В комнате отец и она. Комната освещена коптилкой. Они сидят за столом, и вид у них странный. Они какие-то неправдоподобно веселые. Смеются, так смеются, что не поймешь: смеются или плачут. Она нарядная, будто у нее день рождения. Он как всегда. На окне стоит патефон и шпарит «Челиту»: «Звонко она хохочет и делает то, что хочет. Ай, ая-яй,яй... Нет, нет, не ищи ты: на целом свете ты не найдешь другой такой Челиты».
– Ну, садись, старец, – говорит отец. – Где ты был и что ты видел?
Мне не хочется принимать его шутливый тон. Я дал себе слово не злиться, но когда я вижу их обоих... Молча сажусь. Она смотрит на меня очень внимательно и почти ласково. Коптилка то разгорается, то гаснет, а патефон по-прежнему наяривает «Челиту». Я изо всех сил делаю приветливую физиономию, чтобы не превратиться в мрачного типа с вечно каменной мордой. Она пододвигает мне большой ломоть хлеба и тоненький кусочек сала.
– Ого, – говорю я. – Сало! Вот это жизнь!
– Да, – говорит отец. – Сегодня живем. Есть также и что выпить, но детям до шестнадцати лет...
– А мне как раз почти шестнадцать.
– Нет, пацан, я-то знаю, сколько тебе. Хоть ты и самостоятельно мыслящая личность, но водку пить тебе рано.
Шеля достает из сумки какую-то странную бутылку медицинского вида, наливает отцу и себе.
– Ну, за что выпьем? – говорит она.
– Ну, давай за моего сына.
Она кивает головой, и они чокаются кружками. Они пьют, а я закусываю – разделение труда. Она пьет так, как будто это чай, мелкими глоточками. Отец залпом, и выражение лица у него такое: мол, ни в одном глазу. Но я-то знаю, что его всего передергивает с водки, всегда передергивает, он ее терпеть не может, его всего корежит от этого, но он только улыбается и делает вид, что он самый счастливый из смертных, и глаза у него становятся крошечными, будто заплывают, а лоб краснеет. Но пьяным я его видел только один раз. Это было как раз перед его отъездом на два года... Он пришел тогда совершенно пьяный, с неподвижным, как маска, лицом, пальто у него было измазано известкой, а на лбу красные полосы, будто шапка была ему узка. Он вошел, долго смотрел то на меня, то на мать, смотрел тяжелым, неживым, но все понимающим взглядом, смотрел, точно у него были не глаза, а рентген, и он хотел проникнуть в наше нутро и увидеть что-то важное ему одному. И он улыбался. Вот эта улыбка на бледном, лишенном выражения лице меня тогда поразила. А потом началось нечто еще более странное. Он все продолжал улыбаться, как-то деланно, нарочито, точно изображал кого-то. Мы с удивлением и страхом глядели на него: таким мы никогда его не видели. Мать начала стаскивать с него пальто. Пальто никак не хотело слезать с его негнущихся, как бы замерзших рук, и вдруг он снова начал смеяться. Сначала почти беззвучно, потом громче, еще громче, и вот уже это был бурный, беспричинный бешеный смех посреди дрогнувшей квартирной тишины. Он хохотал в голос и бормотал что-то вроде: «Они думают, меня так легко прижать... нет уж, я им покажу...»
Я не знал, кто это «они» и зачем они будут его прижимать и к чему прижимать. Я только смотрел на него, и все мне казалось, это он нарочно, чтобы нас удивить, это он просто притворяется. Этот хохот, белое, застывшее лицо, бормотание так не походило на него: на его обычную сдержанность, на его презрение ко всяким истерикам и вообще к «чувствам», на его спокойную, привычную иронию к себе и к нам. Казалось, он изображает кого-то, притворяется неловко, до неприличия неумело, как это делают люди, не привыкшие актерствовать. Потом хохот его перешел в ожесточенное короткое рыдание. Первый раз в жизни я видел его плачущим, он плакал и ругался, ругался скверно, тяжело; ругаться он, впрочем, любил, но не зло, не всерьез, весело, а здесь он ругался как бы из последних сил, с ненавистью и отчаянием. Всю ночь мы не спали, мы следили за ним, слышали, как он мечется, как замолкает и трезвеет на некоторое время и вдруг начинает кричать: «Лбом стену не прошибешь... Но я знаю, где правда! Гады, гады!» Потом неожиданно, без всякого перехода, он заснул, одетый, в новом коверкотовом костюме, с беспомощно-жалко свесившимися с дивана ногами, с запрокинутым, смертельно усталым, обострившимся лицом. Утром он проснулся, как всегда, в семь и, не притронувшись к завтраку, ушел на работу.
Это было с ним только один раз и больше не повторялось никогда. Правда, я не видел его два года, и я не знаю, что было с ним там. Об этом я вообще ничего не знаю. Но я думаю, что это было с ним только один раз. И вот теперь всегда, когда он выпивал, я смотрел на него с тревогой; я боялся, что это повторится.
– Ну, что смотришь жалкими глазами, – говорит отец. – Выпить, что ли, хочешь?
Я молчу.
– А знаете, если он и выпьет капельку, так ничего не будет. Наоборот – профилактика простуды.
Придумают тоже – «профилактика простуды»...
– Ну, ладно, – соглашается отец. – Пусть выпьет, но только капельку.
Они думают, что я очень страдаю без их выпивки. Отец наливает мне немножко в стакан.
– Ну, выпьем, каждый, за что хочет.
Они выпивают. Я подношу к губам стакан. Ничем не пахнет, разбавленный спирт, что ли? Мне и пить-то, честно говоря, неохота. Но раз уж оказали такую честь...
Пью. Сначала не чувствую ничего. Только что-то горькое, что-то химическое, будто из пробирки в школьном кабинете, трудно и неприятно входит в меня.
– Ну, за что ты пил? – спрашивает отец.
– За победу, – говорю я каким-то неожиданно перебитым, сломанным голосом.
– А вы, Шеля?
Опять он ее то на «вы», то на «ты»...
– И я это загадала...
Вот именно загадала.
Это загадка. Загадка, когда еще будет победа... В газетах написано, что она не за горами. Может, и не за горами, но уж, наверное, за морями. За красными морями... За кровавыми морями. «Там за горами горя солнечный край непочатый». Что это со мной? Что-то выскочило из меня. Какой-то винтик, который все держал. А теперь ничего не держит. Теперь все болтается, все на свободе, ничем не затянуто, ничем не скреплено. Теперь... за горами горя...
– Дайте мне еще капельку, – говорю я. – Это профилактика.
– Только капельку, – строго говорит Шеля и заботливо наливает мне двадцать граммов. – Чтобы тебя как следует прогрело.
Ишь, как она заботится. Чтобы меня прогрело. Меня и так греет. Я согрет вашим теплым дыханием... Выпиваю. Мне тепло. Давно я уже не выпивал. Последний раз летом на даче, в день рождения. Белый портвейн, крымский. Две рюмки официальных, одну по-тихому. Было тепло, но по-другому, чем сейчас. Была одна студентка-первокурсница. Я ее провожал. Мне всегда нравятся те, кто старше. Она со мной шутила и смотрела на меня, как на малолетку. Но когда я ее захотел поцеловать, она дала понять, что можно. Вроде как бы шутя. Но я раздумал... Я был свободен в тот вечер. Я говорил то, что думал. А думал так, как хотел... Когда я возвращался один, было пусто, уже электрички перестали ходить. Тепло было, тихо. В траве что-то шуршало, звенело, словно бы цикады. Где-то крутили приемник, в Абиссинии бои и в Европе. Но это было далеко. А здесь все спали – и уже электрички перестали ходить. На волейбольной площадке, прижавшись к столбам, стоял кто-то широкий, как бы двугорбый. Я подошел ближе и увидел: двое обнимаются. Я громко прочитал из «Мцыри»: «Обнявшись крепче двух друзей, упали разом – и во мгле бой продолжался на земле...» У меня было отличное настроение.
Но спирт действует не так, как портвейн. Обжигает? Меня он не обжег. Второй раз вошел хорошо, спокойно и снова выбил из меня самый последний маленький болт, который еще что-то пытался скрепить. А теперь я без болта. Разболтанный. И здорово. Пью. Наливаю себе еще. Все отлично. Как в лучших домах Филадельфии.
ОТЕЦ. Ты чего это, пацан?
Я. А вы чего?
ОТЕЦ. Мы так просто. Нам можно.
Я. Вам, конечно, все можно.
ОТЕЦ. К сожалению, не все... Но это нам можно.
Я. Ну и мне тоже. Ты же всегда говорил, у отцов перед сыновьями нет привилегий. Полное равенство.
ОТЕЦ. Привилегий нет, есть только обязанности. А, значит, нет и полного равенства.
Я. Свобода, равенство, братство – да здравствует Французская революция!
ОТЕЦ. Пацан, ты, кажется, уже перехватил.
Я. Лучше «пере», чем «недо». Лучше переесть, чем недоспать. Долой всякие «недо»!
Он хмурится, отнимает у меня спирт, но я и так достаточно тяпнул. Я встаю, что-то раскачивает меня. Будто кто-то влез в мое существо и теперь всем своим весом поворачивается во мне то в одну, то в другую сторону. Теперь я юнга на корабле. Заспиртованный юнга. Юнга в баночке. Завожу патефон. Иголки тупые и ржавые. Руки дрожат, а пластинка блестит, как маленькое черное озерцо. «Ай-ай, Челита, на целом свете ты не найдешь...»
Шеля стоит в стороне и что-то шепчет отцу. Она высокая, у нее крупные руки, крутая грудь, волосы уложены в пучок, лицо серьезное. Она похожа на невесту декабриста. Они тихо выпивают с отцом еще по полстакана. У отца очень грустные глаза. И вдруг меня осеняет: а может, это свадьба. Может, это у них свадьба. У меня холодеет нутро, будто туда напустили сквозняку. Я подхожу к ним, говорю отцу, Шеле.
– Давайте выпьем. Я очень люблю свадьбы.
– Я тоже, – говорит Шеля, – но только у меня их не было.
– Правда?
– А я тебе разве врала?
– Нет, не врали. Вы мне только суп готовили. Гороховый.
– Ну, супа мы с тобой так и не сварили. А в общем, ты на меня не сердись...
Она тоже сильно пьяновата, потому что, кажется, начинается откровенный разговор. А на черта нам откровенные разговоры. Нам совсем не нужны всякие откровенности. Свадьбы нет, и на том спасибо...
– Спасибо.
– За что?
– Да это я не вам. Это я хотел чихнуть и заранее себе сказал: спасибо.
Я внимательно ее рассматривал. Она какая-то непохожая на себя. Она словно бы что-то порывается сказать, – то ли мне, то ли отцу, – и не может. Словно бы что-то давит в себе. Не так-то просто дается откровенность. Мы все трое сегодня откровенны. Спирт – лучший друг откровенности.
– Лучший друг, – говорю я вслух.
– Да, лучший, – тихо говорит она. – Он мой самый лучший, самый большой и единственный друг. Что ж тут поделаешь...
«Кто он? – дурашливо думаю я. – Спирт?» Но я не говорю этого вслух, потому что понимаю то, что она хотела сказать, и боюсь этого. Но если уж так началось, так пусть будет откровенный разговор, пусть будет откровенный разговор.
– И мой, знаете ли, единственный друг, – говорю я. – Мой единственный друг. У меня больше нет друзей, кроме него. Еще Хайдер, но он просто товарищ. И потом он слишком жесток. А он мой друг. А отцы редко бывают друзьями, – так что ничем не могу вам помочь.
Она зачем-то кладет руку на мою голову, будто она священник, а я паства, потом наклоняется ко мне, и мне становится тепло, тревожно от ее дыхания.
– Он твой друг, и отец, и мать, и все. Ты для него больше, чем все на свете.
– И чем вы? – говорю я с надеждой.
Она смеется.
– Ты дурачок, хотя и умный. В тысячу, в миллион раз. Я для него – это так.
Она машет рукой, словно сметает пыль...
Я не знаю, почему, но мне становится больно и тепло, и я говорю, стараясь перекричать все: ржавое скрежетанье Челиты, и гул, который внутри меня, и молчание отца, стоящего у окна.
– Нет, нет, вы не знаете его...
Она все смеется узкими зеленовато-серыми глазами, потом сильно, властно берет меня за руку и притягивает к себе.
– Пойдем танцевать. Ты умеешь?

Мы начинаем танцевать. Я веду ее. Мне жарко. Музыка всюду. Только музыка. В каждом углу по Челите. А с ней можно танцевать. У нее сильная, легкая, теплая талия... Отец понимает. «Нет, нет, не ищи ты, на целом свете ты не найдешь другой такой Челиты...» А я и не ищу. Я танцую. Иголки – ржавые черти. Ну, да все равно слышно музыку. Спирт гораздо лучше белого портвейна.
А коптилка только помаргивает, а пол поскрипывает, и пусть он даже провалится, а мы танцуем, как звери. Назло врагу, себе на радость. И это не Челита вовсе. Это Яна, к которой я пришел за книгами, и она говорила: «Лучше раньше, чем никогда». Нет, это студентка, которую я провожал, которую я хотел поцеловать, и она была согласна, но я передумал... Чепуха, я все это выдумал. Просто это Шеля, у нее родители погибли в первые дни войны, и она врач и ходит к нам в гости, потому что отец – ее друг. Все мы друзья, все мы друзья по несчастью.
Но вот ее теплая талия, так послушная моим рукам, выгнулась, застопорив наше общее слаженное движение, напряглась и застыла. И, подняв глаза, я увидел ее лицо, резко повернутое назад. Она смотрела на отца. Она смотрела на него, забыв про танец, про меня и про все; смотрела пристально и остро, точно своими глазами фотографировала его, чтобы ничего не упустить и не забыть, чтобы фотография получилась точной, потому что ей надо сохранить эту фотографию навсегда.
Отец стоял у окна, очень прямой, статный, каким он бывал в последнее время нечасто, стоял, чуть склонив молодую густоволосую, растрепанную голову, и смотрел вниз. Не знаю, что он там видел. Тот пролет, по которому он ходил к ней, короткий пролет улицы, и с третьего этажа кажется, что человек идет не туда, куда ты думаешь. Коротенький пролет – три-четыре дома, булыжная мостовая, а дальше не видно... А дальше-то уже ясно, куда человек пойдет... Маленький, грязный кусочек улицы в бедном, скудном снегу, словно он не выпал с неба, а от холода пророс сквозь булыжник.
Не знаю, что еще отец там увидел. Впрочем, он любил стоять и смотреть просто так...
– Мы больше не будем танцевать? – спросил я у нее.
– Нет, на сегодня хватит.
Глава 10
Отец ушел ее провожать, а я заснул. Что-то во мне еще гудело и билось, шум был прерывистый, будто я засыпал не в комнате, а на морском берегу. Я засыпал на морском берегу в Геленджике над бухтой, там, где я был с отцом за несколько лет до войны.
Утром мы с ним ходили в чебуречную, обжигаясь, ели вздувшиеся, с желваками жира золотистые чебуреки, потом пили теплую воду, вяло струившуюся из фонтанчика, потом шли на «дикий» пляж. Но там дикости было мало, повсюду валялись смятые в гармошку стаканчики из-под мороженого, бумага, пыльные газеты, и толстые женщины лежали, вывалив груди, так что мне становилось страшно, и я закрывал глаза и скорей бежал купаться. Потом мы шли в шашлычную, отец запивал шашлыки вином «Мукузани», а я малиновой водой, потом мы медленно двигались на самый дикий из всех «диких», пляжей, там было почти пусто и валялись всего лишь две-три бутылки из-под водки, а толстых женщин не было, так как добраться сюда пешком или вплавь они не могли.
Отец не хотел полнеть и поэтому старался не спать после обеда, и делал стойку на руках, и стоял так минуты две или три, так что мне становилось не по себе. Мускулы у него вздувались. Казалось, сейчас они лопнут. У него был очень светлый загар, и мускулы были желтые, как два круглых окаменевших бруса сливочного масла. Потом я хотел делать стойку, но он не велел, так как у меня не было склонности к полноте. Я ложился на спину, камни были уже не горячие, теряли жесткость, теперь они были теплые, словно бы размягчившиеся за день. И я засыпал мгновенно, хотя и не собирался спать, и во сне маячило желтовато-черное теплое пятно; только потом я понимал, что это солнце пробивается в закрытые глаза. Сон был прерывистый; тихо – громко, прибой – отлив, удар – тишина, и это не давало заснуть до конца, до глубины, это и желто-черное пятно солнца. И мне нравилось, что я сплю и не сплю, что я как бы живу во сне и чуть что могу вскочить на ноги. Я не любил и боялся глубокого сна, где ты становишься на несколько часов мертвым, и все люди и вещи отделяются от тебя, ты уже ни в чем не принимаешь участия. Утром я всегда удивлялся, что все продолжается... Чем я становился старше, тем меньше я об этом думал, а во время войны, в Сибири, мне и вовсе было все равно, как мне спать, – лишь бы выспаться как следует, чтоб башка не трещала. Чем ты меньше, тем больше думаешь о всяких таких штуках, тем больше боишься всякой чепухи, а когда взрослеешь, думаешь только о деле.
Потом, когда я просыпался, было почти темно, море зеленовато-красное, по-вечернему ярко мерцающее – солнце уже влезло в него довольно глубоко. Пляж совершенно опустел и казался гораздо просторнее, чем днем. Отец кричал мне: «Сонная тетеря!» – и бежал к морю, а я за ним. Мы оба ложились на спину, лежали на теплой, податливой волне, оба разом переворачивались и одновременно плыли к флажку. Мы доплывали до флажка, и я поворачивался. Отец кричал нарочито строго: «Не смей поворачиваться, не трусь, такой-сякой, плыви в открытый океан!» Он подсмеивался надо мной. Он знал, что я плаваю хорошо, но когда заплываю за флажок, начинаю трухать. До флажка мне казалось – одно море, а за – другое. До – было разрешенное море, а значит, в нем нельзя утонуть, за – неизвестное, запрещенное, именно в нем-то и тонут...
Отец издевался надо мной. Он кричал, гоготал, махал руками, выдумывал всякие прозвища: «Трусище! Трусогузка! Генерал Трусилов!» Я колебался всякий раз. Берег был не близок, но и не далек. Он был ощутим. Он был магнитом, а за флажком сила магнитного поля кончалась. Я колебался. Отец хохотал, я видел его забрызганное водой, загорелое лицо. Я боялся моря, но я боялся и другого. Потерять уважение отца. Я знал: сейчас он уважает меня... А если я стану трусом, он перестанет меня уважать. Это всегда решало. Пропадать, так с музыкой, говорил я себе и переплывал черту флажка. Отец никак на это не реагировал, не бил в ладоши, не хвалил меня. Он спокойно плыл дальше. Я за ним. Он дальше, я за ним. Все дальше и дальше от берега. Впереди было много моря, много пространства. Бесконечность. Я плыл за отцом. Плыл спокойно, экономя силы. Впереди я видел голову в синей шапочке, иногда из волны сверкали плечи, коричневые, гладкие, как обкатанный камень. Я плыл за ним. Только за ним. Я хотел всегда плыть за ним. Всю жизнь. А если он будет старый? Все равно – за ним. Он никогда не будет старый. Потому что он мой. И он никогда не умрет, потому что он мой. И я никогда не умру, потому что это я.
И я плыл, чувствуя себя счастливым, а он поворачивался и возвращался ко мне и делал вокруг меня круги и хищно округлял глаза, как акула.
– А здесь бывают акулы? – спрашивал я.
– Бывают.
Я знал, он придумывает. Но так было интереснее, и я почти верил ему.
– Какие? – спрашивал я.
– Злобные, – говорил он. – Злобные акулы империализма.
– Где они? – хохотал я.
– Там, – серьезно говорил он и показывал в сторону Турции.
– А чего они хотят? – смеясь, спрашивал я.
– Они хотят нас съесть, как мелких рыбешек. Но мы должны плавать, как акулы, лучше всяких акул. Мы должны плавать, как дельфины. Вот так! – Он нырял и появлялся через некоторое время, шумно отфыркиваясь.
Мы плыли обратно. Флажок снова оставался позади, маленький бессмысленный Ванька-Встанька. Линия флажка была обыкновенной. Море там и здесь оказалось одинаковым.
Потом мы с отцом шли на почтамт и там почти каждый день получали письма от матери, посланные до востребования. Если письма не было, отец ходил озабоченный, придирался ко мне из-за пустяков, раздражался. Но чаще всего мы получали письма, настроение у него было отличное. Потом мы ужинали, хозяйка давала нам варенец с желтой сморщенной корочкой, мягкие, тугие, как надутые шары, помидоры, длинные, точно ножи, южные огурцы; ели мы на веранде, и все было дьявольски вкусное, необычайно острое, с перцем, с луком, с солью... А вокруг уже начинались танцы, музыка. Музыка в санаториях, в домах отдыха и просто в домах. Всюду шумели, кричали и пиликали патефоны. Звучали всякие «Цветущие маи», «Челиты», «Саша, ты помнишь наши встречи». От этого становилось тревожно, непокойно, и я видел, как у отца загораются глаза каким-то незнакомым мне блеском, а я чувствовал себя, как на вокзале: хотелось куда-то бежать, спешить, идти по темным, душным улицам, только не сидеть дома. В нас вселялся «микроб вечера». Это было отцовское выражение. Особый такой микроб. Он жжет людей по вечерам, гонит из дому гулять, слоняться без дела...
И мы переодевались: я надевал белый нанковый костюм, купленный для юга, а отец светло-серый модный костюм с огромными прямыми плечами, которые накладывались на его собственные достаточно широкие плечи, и вот он уже был не мой отец, а чемпион Союза по боксу Михайлов. Такие костюмы были еще внове, но отец следил за модой, и у него все было новейшее: авторучки, ботинки на пробковой подошве, цветастые галстуки, завязанные крупным узлом. Над ним подсмеивались его друзья, они все ходили в лоснящихся пиджаках, в брюках, из которых торчали зимой голубые кальсоны, плохо замаскированные сползающими носками. Они смеялись над ним, считая его любовь ко всему «современному» чудачеством, безобидным, но никому не нужным пижонством, прихотью, и прощали ему этот буржуазный лоск за его «огромную одаренность, одаренность теоретика и хирурга». Они с ласковой иронией называли его «американцем», и он говорил: «Да, в этом я американец, в этом и Маяковский был американец». Кстати, отец ездил в Америку с группой советских нейрофизиологов, врачей, специалистов по нейрохирургии. Когда он вернулся, то собрал у себя дома друзей, и к нему пришли все эти очкастые чудаки. И он рассказывал о постановке дела в американских клиниках. Они не ахали, не восхищались, а сидели молча, задумчиво, и время от времени кто-нибудь из них отрывисто, перебивая отца, произносил: «Вот это надо использовать», – а потом другой замечал: «Это тоже надо использовать», – а лотом третий говорил: «В наших условиях это не легко, но попробуем использовать...» Они сидели допоздна, ходили по комнатам, курили, и разговаривали высокими, раздраженными голосами, и ссорились, и шапки их валялись где попало, а мать мечтала, когда они уже уйдут. Но для отца и для них уже ничего не существовало – ни ночи, ни дня, ни того, что ребенку пора спать. Для них существовало только одно – как это у нас использовать... Они проклинали Наркомат здравоохранения, еще кого-то, говорили: «Ну, этого идиота еще можно уговорить, а вот этого разве уговоришь? Это же кондовая личность». И, ругая каких-то идиотов, они совсем забыли об американских клиниках, и вообще об Америке, и о том, что отец обещал рассказать о посещении бурлеска. Теперь они думали только с том, как с завтрашнего дня начнут пробивать каких-то идиотов, пробивать свои идеи и использовать чужой опыт, использовать и пробивать...
И когда они ушли, и в комнате вдруг наступила счастливая тишина, и мать, сидевшая с вежливым отсутствующим лицом, оживилась и потеплела, я спросил у отца:
– Почему они должны чего-то прошибать и пробивать? Ведь они ж хорошее хотят.
Отец поморщился. Он всегда отвечал мне на все вопросы, на все, начиная с того момента, когда много лет назад я пришел потрясенный и униженный тайной, узнанной в подъезде, бесстыдной тайной появления человеческих существ. Я тогда спросил с надеждой на отрицание: так ли это? И он сказал мрачным, трагическим тоном:
– Это так.
– И у тебя это так? – спросил я, еще на что-то надеясь.
– И у меня, – печально сказал он.
Мне сразу захотелось плакать.
– И у тебя это будет так, – добавил он уверенно.
– Никогда.
– Нет, будет.
– Нет, не будет, не будет, не будет! – запричитал я в отчаянии оттого, что чувствовал: в его ужасном предсказании, может быть, и кроется какая-то отвратительная правда. Я причитал, бормотал что-то, с тоской думал, как после всего этого посмотрю на мать, а он повернулся ко мне спиной и стал задыхаться.
Я понял: он плачет, он плачет от обиды, нанесенной мне, оттого, что и он поступал так же, как и другие, занимаясь этим невзрослым, каким-то непристойно детским делом. Мне стало его чуть жаль.
– Ты ведь больше не будешь, – сквозь слезы, сказал я.
– Буду, – сдавленным голосом ответил он и повернулся ко мне.
Я обмер. Он плакал от смеха. Он раздувался, лопался, как первомайский шар, трещал по швам...
– Нет, нет! – кричал я.
– Да, да! – отвечал он, и закрывал лицо руками, и пытался сделать круглые и серьезные глаза, но все равно они у него были ненормальные, хохочущие. Потом он успокоился, встал на стремянку, достал из большого книжного шкафа толстенную книгу, сел на диван, посадил меня рядом с собой и ровным, учительским голосом в течение сорока пяти минут объяснил мне происхождение людей, животных и растений.
Но на вопрос, поставленный в тот вечер, после ухода его друзей он так и не смог ответить. Он что-то мне объяснял про осторожность, про то, что некоторые любят перестраховаться, и про то, что есть люди, которые хотят как лучше, но слишком осторожничают, и выходит все как хуже, что есть чиновники, тупицы и еще что-то, – словом, говорил он долго, а я ничего не понял. В конце концов он развел руками и сказал:
– А вообще, пацан, это очень сложная история, и я и сам здесь многого не понимаю. Ей-богу, – сказал он. – Очень много я здесь не понимаю, – повторил он с неожиданной горечью.
И мы легли спать. И, засыпая, я думал об этом, и это удивляло и почему-то беспокоило меня, и, чтобы успокоиться, я думал о приятном: о том, как мы с отцом летом поедем на юг, в Геленджик. Я знал, что в Геленджике нам с отцом будет хорошо, но по-другому, чем было на самом деле.
Я не знал, что там, в Геленджике, будут эти вечера, когда тебе хочется торопиться и бежать, стремиться куда-то на звук мелодий, гулко разрывающих густую, мерно потрескивающую цикадами тишину. Когда будет невозможно сидеть дома на маленькой веранде с круглым столом, на котором остатки помидоров, огурцов, над которым черный репродуктор, похожий на птичье гнездо... Я не знал, что, надев новые костюмы, мы будем ходить с отцом по вечерним улицам, заходить то в один дом отдыха, то в другой, прислушиваясь к музыке и словно ожидая чего-то... А потом почти всегда мы будем заканчивать эти хождения в доме отдыха художников, или, как он странно назывался, в Доме творчества.
Я не знаю, почему он назывался Дом творчества, я знаю, что там целый день рубились в пинг-понг, что по вечерам на веранде там гоняли пульку в преферанс, что у них был отличный бильярд и еще маленький китайский бильярдик, что пластинки у них были новейшие, первоклассные, что какая-то старуха все время лепила бюст Папанина из пластилина и Папанин постепенно становился похожим на толстую женщину, что другая старуха целые дни сидела на вахте во дворе, закрывшись от солнца огромной книгой Репина «Далекое – близкое». Но почему этот дом назывался Домом творчества, я не знал. Встречали нас там очень приветливо, а особенно приветливо одна женщина по имени Анита. Она была испанка, эта Анита, и говорили, что она художница и антифашистка. На вид она была обыкновенная женщина. Рыженькая, небольшого роста, с темными, ласково, влажно блестевшими глазами, румяная, как матрешка. Старухи, та, что лепила из пластилина, и та, что прикрывалась книгой Репина, вздыхая, говорили, что она красотка и что она породистая женщина. Я никогда до этого не видел ни породистых женщин, ни мужчин, а только породистых собак: на Волхонке, на Кропоткинской и на Арбате их было много. По-моему, ничего в ней не было особенного, она вовсе и не походила на испанку (я хорошо знал испанок по картине Врубеля в Третьяковской галерее). Даже имя у нее было не особенно испанское – Анита, и все вскоре забыли, что она испанка, и звали ее Аня. Она неплохо говорила по-русски. Говорят, что она была чуть ли не героиня, видная деятельница; этого я не знаю, знаю только, что она радовалась, когда мы с отцом приходили вечером в Дом творчества. Она все улыбалась и становилась еще более румяной и называла нас как-то странно: «Дети мои», – хотя отец ей в дети совсем не годился. Я подсмеивался над этой ее придурью, потому что она мне нравилась. Она была добрая, улыбчивая и щедрая, я видел, как на пляже она покупает виноград и никогда не берет сдачу. Может быть, она просто не разбиралась в наших деньгах, а может, ей было стыдно брать сдачу, а может, у них в Испании есть такой закон – сдачу не брать... Она была неразговорчивая, но веселая, никогда я не видел, чтобы она сидела с постной физиономией. Ей, видно, всегда было весело.








