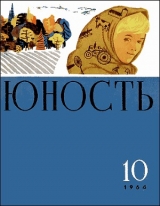
Текст книги "Тучи над городом встали"
Автор книги: Владимир Амлинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Только когда мы вечером втроем гуляли по берегу, а по морю суматошно, быстро бегали лучи прожектора и море шумело негромко, как-то особенно монотонно и постепенно затихали дома отдыха и санатории, Анита вдруг скучнела и переставала смеяться, словно жалея, что день прошел. Какие-то мужчины подходили к ней и звали ее в ресторан «Приморский», а она их очень вежливо и церемонно благодарила, но с ними не шла, а оставалась с нами. С нами ей больше нравилось. Мы шли молча, потом отец останавливался и говорил довольно церемонно, в ее стиле: «Не извинит ли нас красавица Кармен (он всегда обращался к ней в третьем лице и никогда не звал ее по имени; отец вообще обожал всякие прозвища), не извинит ли нас красавица Кармен, если, одежды наши скинув, купаться будем мы?» «Извинит, извинит», – улыбаясь, говорила Анита. Мы быстро раздевались, оставались в плавках и шли в море. Она сторожила наши брюки и рубашки. Вступая в воду, отец говорил: «Этот краснофлотский звездный заплыв посвящается Кармен».
Издали вода блестела, когда я погружался в нее, она становилась тусклая и черная, как гуталин. Меня пугала эта чернота, и я переворачивался на спину. Я видел, как медленно плывут огромные белые звезды. Было два моря: одно, которое держало меня, другое – вверху, надо мной. Море внизу было теплое, вода в нем была словно комнатная, а другое – вверху – было зеленое и холодное. Мы барахтались в теплом море, а холодное смотрело на нас; мы выходили на берег, а холодное, зеленое море было без берегов, без начала и конца, и этого я не мог понять... Я ни разу не летал тогда в самолете и совершенно не был знаком с этим зеленым бесконечным холодным морем, и я боялся его, потому что всегда боишься того, чего не знаешь.
Мы вышли из воды, выжали наши плавки и переоделись, и Анита сказала нам: «А теперь я буду немножко окунаться, а вы отворачивайтесь, пока я раздеваюсь».
Она прилично говорила по-русски, но все-таки обороты речи у нее были странные: «Я буду немножко окунаться». Мы были уже одетые, сухие, нам было необыкновенно хорошо, как всегда после ночного купания, и мы отворачивались, а она раздевалась. Что-то шелково и быстро шуршало и падало на землю. У меня почему-то билось сердце от этого шуршания, от этого чего-то легко падавшего на землю, от этой паузы, когда мы сосредоточенно смотрели в другую сторону. Я не могу сказать, чтобы Анита была в моем вкусе, она была слишком маленькая, а я уважал высоких. Да и вообще женщины мне тогда не нравились, я на них и внимания не обращал, я каждый день видел сотни женщин, сотни женщин лежали и стояли на пляже в сарафанах и в купальниках, а некоторые лежали в стороне почти без ничего, только на носу у них был зеленый лист от загара. И у меня никогда не билось от этого сердце, мне было наплевать на это, а когда я видел тех, что лежали с зеленым листиком, то мне и вовсе становилось противно, я бежал в море, чтобы скорее забыть их... Я был равнодушен ко всем женщинам, кроме нашей учительницы немецкого языка. Она была кривляка, молодая, она высоким голосом кричала: «Ruhig!», – и она почему-то мне нравилась. Но ни от чего у меня не билось сердце, а вот от этого шуршания, от того, что мы напряженно смотрели в другую сторону, а что в этой стороне, неизвестно, – вот от этого у меня билось сердце. Потом Анита бежала в воду, и оно переставало биться – все было совершенно обыкновенно.
После купания мы еще долго гуляли по берегу, Анита и отец курили и молчали; вдалеке, в море, вдруг что-то тускло загоралось, это шел какой-нибудь захудалый танкер, а на берегу было уже темно и покойно, музыка исчезла отовсюду, только в ресторане «Приморский» она глухо и натужно ухала, как филин в детской радиопередаче. Оттуда, из ресторана, выходили люди, вернее, не выходили, а вылетали, словно дверь была тетива, а они – стрелы. Дверь скрипуче и туго оттягивалась, как бы напрягалась на секунду, и они вылетали, затем дверь хлопала и закрывалась. Они были распаренные, красные, как после бани, и смотрели на нас с недоумением: мы были такие странные, спокойные, тихие, совершенно трезвые. Мы были просто люди, они – люди-стрелы... И они летели дальше, летели напряженно, неровно покачиваясь, а мы не знали, в кого они вонзятся. Дверь-тетива все выбрасывала новых и новых, за ней мелькало скуластое татарское лицо швейцара, мелькало и тут же исчезало, маленькое, сморщенное, загорелое лицо, немного похожее на лицо Хайдера. Наверное, швейцар и был лучником.
Мы уходили в сторону от ресторана, и Анита говорила:
– В Испании у нас очень другие кафе.
– А это не кафе, это ресторан, – поправлял ее я.
– В Испании есть много совсем маленьких кафе, – продолжала она, не слушая меня. – И все они всю ночь раскрыты.
– Открыты.
– Нет, они раскрыты. Насовсем раскрыты.
– Настежь раскрыты? – вступал в разговор отец.
– Да, да, настежь. Они настежь раскрыты. Совсем не так, как здесь. Всю ночь сиди, пей вино, музыку слушай...
– А у нас музыка в двенадцать прекращается, – сказал я. – Есть постановление горисполкома. Надо соблюдать порядок.
– О, порядок! – сказала Анита. – У нас никогда не бывает порядок.
Она задумалась, улыбнулась и сказала грустно:
– Никогда не бывает порядок. Это хорошо, но это и плохо. Поэтому с Испанией так и случилось.
Мы шли молча и слушали, какие у нас звонкие и легкие, будто бы жестяные шаги по торцовой мостовой. Мы дошли до Дома творчества, там было уже темно, только стеклянная веранда была освещена, и чьи-то фигуры подергивались, точно куклы в театре, где их слишком торопливо хватают за ниточки. Только чуть позже я понял, что это на веранде полуночные художники играют в бильярд.
– Ну, я буду идти в свою келью, – сказала Анита. – А вы к себе.
Она задержала руку отца в своей, мне стало почему-то неприятно, и я отошел в сторону. Но она тотчас же позвала меня и сказала удивленно:
– Куда же ты утонул, мой мальчик?
Было очень по-южному темно, и, отойдя от освещенного входа, я действительно мгновенно «утонул», исчез из ее поля зрения. Она протянула мне руку и тоже задержала мои пальцы в своих. Я знал, что она скоро уезжает, что ее срок кончается, и всякий раз мне было жаль расставаться с ней.
Когда мы возвращались домой, отец неожиданно сказал мне:
– Зачем ты отошел? Она так же дружит с тобой, как и со мной. А мне, кроме тебя и мамы, никто не нужен.
И я знал, он говорит правду. Тогда ему никто не был нужен, никто в целом мире, только мы.
Утром отец уехал в Новороссийск. Я забрел далеко, за «дикий» пляж, туда, где примерно в пятидесяти метрах от берега вылезала из воды серая, угловатая, уродливая скала-обрубок. Она была довольно высокая. Я не видел, чтобы кто-нибудь нырял с нее; здесь было когда-то несколько скал, но их взорвали, и осталось множество камней и эта странная узкая скала, одиноко и зло торчавшая из воды. Берег здесь был тоже неровный, обрывистый. Мне захотелось забраться на острые и скользкие камни, не рисуясь перед кем-нибудь, а испытывая себя, свою волю и смелость. Я соскочил с отвесного берега, вошел в воду и, покачиваясь, изгибаясь, пошел по крупной острой гальке. Впереди были большие камни. Мне стало немного страшно, здесь было пустынно, дико, ни одного человека, только надпись на фанерном столбе: «Купаться и нырять строго воспрещается. Опасно для жизни». Такими надписями истыкано все побережье, и они действуют только на дурачков, не умеющих держаться на воде.
Вдруг я услышал резкий, быстрый плеск и увидел за камнями белый бурунчик воды. Кто-то плыл параллельно мне, глубоко, низко врезаясь в воду, будто торпеда. Через минуту я уже видел, как он подплывает к скале-обрубку. Вот он протянул руку к скале, выгнулся, в зеленоватой чистой воде блеснуло что-то солнечное, медное, и вот уже над нижним пепельно-серым выступом скалы мелькнула знакомая мне рыжая маленькая голова. Это Анита ловко и легко взбиралась на скалу. Через минуту она уже была совсем наверху, на кончике грифеля этого серого толстого карандаша, торчавшего из воды. Я хотел ее окликнуть, но замер в удивлении и в испуге.
Она стояла вполоборота ко мне и... крестилась. Не в шутку, а серьезно, неторопливо и спокойно, всеми пятью пальцами, слева направо. Перекрестившись, она рванулась со скалы вниз. Я зажмурился. Когда я открыл глаза, вода ослепила меня жгучим зеленым блеском. И через секунду я увидел, как над зеленой гладью вновь появилась рыжая отчаянная голова нашей Аниты. Я поплыл к ней. Она не видела меня, она шумно отфыркивалась, высоко, как дельфин, выскакивала из воды, высекая белые, сверкающие искрами брызги. Вот она увидела меня, остановилась, лицо у нее сделалось радостное, приветливое, затем словно бы тень набежала на него, и улыбка стала не веселая, а какая-то вынужденная. Она поняла, что я видел, как она крестится... А может, сначала она улыбнулась по привычке, а вообще-то ей вовсе не хочется видеть меня. Во всяком случае, я не стал ее ни о чем спрашивать – с меня было достаточно, что она не разбилась. И, помахав ей рукой, я поплыл в другую сторону.

Через две или три минуты она догнала меня и сказала:
– Куда ты? Будем прыгать вниз... Со скалы.
– С этой скалы нельзя прыгать, – сказал я, – здесь никто не ныряет, кроме чокнутых.
Я постучал пальцем по лбу.
– О, это совсем маленькая скала. Я могу нырять с совсем большой скалы.
Но я больше не дал ей нырять, и вскоре мы вышли на берег. Здесь лежал ее мольберт, а также кисти, тюбики с краской.
– Я буду тебя писать, – сказала она.
Она усадила меня на камень и стала рисовать. Она рисовала, наверное, час, я уже не мог сидеть, как чурбан. У меня даже шею свело. Но я сидел, терпел. Хотелось увидеть свой портрет. Я пожалел, что здесь нет отца, пусть был бы двойной портрет. И она, словно прочитав мои мысли, сказала:
– Я бы хотела рисовать тебя с отцом. Отец и ты.
– Отец не любит сидеть, как истукан.
– О, ты устал, мальчик! Будем кончать сеанс.
Минут через пять она окончила свой сеанс, и я подошел к холсту и очень удивился. Там был я и не я; вернее, кто-то отдаленно похожий на меня, но, в общем, совершенно другой. Лицо у него было зеленое, как молодая трава, а глаза желтые, огромные, как фары... «Может, это только в наброске так, а в картине будет по-другому», – подумал я.

Мы еще немного полежали с ней на пляже, она все время что-то напевала, хулиганила, озорничала, кидала в меня галькой. Потом она проводила меня домой, отца еще не было, и мы немного посидели на нашей веранде, прохладно пахнущей сырым некрашеным деревом, – хозяйка мыла полы. Потом Анита вдруг сорвалась с места, сказала, что она больше не может ждать, что ей завтра уезжать и она совершенно не готова.
– На рассвете я буду уезжать, – сказала она. – Вы меня не можете провожать, потому что будете спать.
– Мы проводим вас обязательно! – воскликнул я.
– Нет, вы будете видеть третий сон.
Она соскочила со ступенек террасы, махнула мне рукой. На узенькой пыльной улочке мелькнул ее желто-красный широкий сарафан.
Вечером отец приехал из Новороссийска. Я рассказал ему о том, как пришел в район камней и заплыл, и как увидел Аниту, ныряющую со скалы, и как она крестилась.
– Она же антифашистка. Зачем она крестится? – удивился я. – Неужели она верит в бога?
– Бывает, что и антифашисты верят в бога, – сказал отец. – А бывает и так, что не верят ни в бога, ни в черта, а крестятся. К тому же наша Анита до шестнадцати лет воспитывалась в католическом монастыре.
– Откуда ты знаешь?
– Она однажды мне сказала об этом.
На рассвете отец разбудил меня, мы пошли провожать Аниту. Она отправлялась на катере в Новороссийск, оттуда – поездом в Москву. Катерок покачивался на воде, какие-то люди из Дома творчества, провожавшие ее, галдели и наливали в бумажные стаканчики вино и очень не подходили к этому сонному, рассветному морю, к длинному, скучному молу, к безлюдной пристани. Однако они кричали и махали руками, будто они были испанцами, а не Анита.
Впрочем, она тоже была чуть на взводе, а глаза у нее были воспаленные, точно она ночь не спала. Может, она просто всю ночь складывала вещи... Анита прощалась со всеми, все ее обнимали, целовали, какая-то из двух старух говорила: «Приезжайте, приезжайте», – будто Анита уезжала по соседству, а не в Москву, а оттуда еще неизвестно куда. Сонный матрос поигрывал швартовым канатом, намекая на то, что пора, но Анита все никак не могла распроститься со всеми.
Наконец она со всеми перецеловалась, остались только мы. Но с нами она не стала целоваться, хотя из всех мы были самые близкие ей. Она сначала было потянулась к отцу, а потом остановилась и протянула ему руку. Он улыбнулся ей наигранно-бодро, глаза у него были тоскливые. Когда он так наигранно-бодро улыбался, мне его всегда становилось почему-то жаль. Потом пришла моя очередь прощаться. Анита и мне протянула руку, и я приготовился крепко, по-мужски пожать ее. Но вдруг Анита притянула меня к себе, горячо дохнула на меня, и я почувствовал легкий запах вина. Она порывисто, сильно обняла меня и прошептала:
– Тебя я больше всех любила!
Я промолчал, не зная, что ей сказать.
– Храни тебя бог!
И она добавила еще что-то на протяжном незнакомом мне языке.
– Что вы сказали? – спросил я.
– Я тебя так назвала, как своего сына.
– У вас есть сын?
Она остро, быстро глянула на меня и сказала:
– У меня есть сын!
Я видел ее рыжие волосы, ее глаза, устремленные на меня, ее руки, уже отпустившие мои плечи и как-то странно неподвижные, я видел, как она вновь очнулась и снова заулыбалась, а матрос все хмуро смотрел на нее и помахивал концом каната.
Наконец она прыгнула на катерок, катерок качнулся, и матрос сдернул канат. Так я и не узнал больше ничего про ее сына.
Художники разошлись, покидали на землю свои картонные стаканчики, и когда мы с отцом уходили с пристани, то все время наступали на них, стаканчики лопались, из них, как сок из плодов, вытекали красные струйки вина. Мы шли по этим стаканчикам, по серой нагревающейся пристани, и все оборачивались в сторону моря, и нам казалось, что мы видим этот беленький катерок, идущий к Новороссийску.
– А ты знаешь, у нее, оказывается, есть сын, – сказал я. – Интересно, сколько ему лет?
– Нет у нее сына. Ее муж и сын погибли в Испании в тридцать шестом году.
С тех пор я так и не узнал, что стало с Анитой.
Потом отец уехал надолго, было как-то не до того, и я забыл про Аниту. Но однажды встретил ее.
Был жаркий летний вечер, я слонялся по бульварам от Никитских до Пушкинской и у памятника увидел Аниту. Видно, она ждала кого-то. Она была похудевшая и казалась гораздо более старой, чем там, в Геленджике. Лицо у нее было бледное, а рыжие волосы забраны в косынку. Она стояла, ждала, я неуверенно подошел к ней. Она скользнула по моему лицу глазами, взгляд у нее был отчужденный, неузнающий. Я хотел было уже отойти, как вдруг услышал ее голос:
– Серьежа!..
Я снова подошел к ней, заулыбался. Она же, напротив, смотрела на меня без улыбки. Глаза у нее были тревожные и как бы испуганные.
– Отец все там? – спросила она.
Я удивился. Мы ведь не виделись. Откуда же она знает, что он не в Москве?
– Да. Он в отъезде. В командировке.
– Да, да, – сказала она и вздохнула. – Командировка...
Она почему-то покачала головой.
К ней подошел рослый мужчина в белой рубашке, я толком не успел разглядеть его. Она ласково, но торопливо кивнула мне, и они быстро пошли по бульвару. Пройдя метров сорок, она обернулась и снова удивленно и печально покачала головой.
Глава 11
Я засыпал и просыпался, что-то раскачивало меня, было тепло, и я не понимал, что это. Берег в Геленджике, прибой... Когда я открывал глаза, приподнимался, то видел черную пустую комнату, очертания стола, табуреток, коптилки на окне. Наконец я встал и понял, что в комнате холодно, просто меня еще греет спирт. Я осмотрелся, увидел, как белеет безжизненно пустая отцовская кровать. Он еще не вернулся. Я посмотрел в темноте на часы. Половина четвертого. Так долго он еще никогда не задерживался. Он всегда ночевал дома. Хотелось есть. Но жратвы уже не было – не то, что сала, ни крошки хлеба. Я снова лег на свою раскладушку. Хотелось думать о чем-то приятном, о Геленджике, о море, об Аните. Но не выходило. Теперь я уже не мог заснуть.
Тепло спирта постепенно вытекало из меня, было холодно, знобко, ни ночь, ни утро... К комнате этой я никак не мог привыкнуть: в ней не было ничего родного, моего, ее углы были холодные, не связанные в моей памяти ни с чем. Валялись отцовские книги, газеты... Темная, бесформенная, нелепая груда. Я пытался задремать. Чудилось что-то теплое, красноватое, солнце на снегу; потом теплое уходило, снег становился серый, сухой, как известка, и я снова открывал глаза и окликал отца. Никто не отвечал, только в газетах что-то шуршало быстро, воровато – должно быть, мыши. Скорей бы уж утро!..
Я встал, зажег коптилку, нашел махорку, скрутил себе толстую, неуклюжую цигарку. Грубый, тяжелый вкус махорки был приятен, от густого черноватого дыма в комнате стало чуть теплее. Медленно начинало рассветать. В тишине я услышал, как елозит ключ в просторном, разболтанном гнезде замка. Ключ елозил и гремел, все не попадая в паз.
Вошел отец, увидел, что я курю, но ничего не сказал. Он стал искать кисет с махоркой. Искал, шарил по углам, он никогда не знал, не помнил, где что лежит.
– Ну, как погулял, как повеселился?
Он промолчал, словно не услышал моего вопроса. Казалось, он был всецело поглощен своими дурацкими поисками. Руки его суетливо шарили по столу, по кровати. Они как-то беспомощно, будто с холода, дрожали. Я не выдержал, взял кисет, который лежал на полу около окна, и бросил ему.
– Ну, как провел время? – еще раз спросил я. – Как же ты на работу пойдешь, не выспавшись?
Он сел на мою раскладушку, снизу устало и кротко посмотрел на меня.
– Голова болит, – сказал он и провел ладонью по лбу.
– Еще бы.
Он все смотрел на меня без улыбки, без смущения, без иронии, безразлично, спокойным, каким-то больным взглядом. Потом он лег на мою раскладушку, она заскрежетала, запищала от тяжести, он вытянул ноги и, закрыв глаза, прошептал:
– Голова болит чертовски... А работы у меня сегодня...
– Ничего, у тебя помощники есть.
– У меня теперь помощников мало осталось. Шелю я проводил утром на фронт.
Глава 12
В середине апреля неожиданно резко потеплело. Однажды, выйдя на улицу, я не узнал наш город. Теперь это был не оцепеневший, малолюдный белый город, а мокрый, блестящий, взъерошенный, как щегол. Улицы, уходившие вниз, несли не ручьи, а реки, и эти реки шумели у водостоков, размывали желтый снег, и он незаметно кончался и уходил вместе с ними. Уже кое-где подсушило, и появились кусочки сухого асфальта, а раз уже есть сухой, солнечный, чуть нагревающийся к полудню асфальт, – значит, и всерьез весна.
В Москве в апреле уже было много сухого асфальта, вся Кропоткинская была сухой асфальт, на нем уже девчонки шпарили в классы, и я чувствовал себя как-то особенно, будто был не обыкновенный день, а день моего рождения или что-нибудь в этом роде. А потом приходило Первое мая, и мы собирались в школе, нам выдавали транспаранты, и мне почему-то всегда попадалось «Крепить Автодор!» или что-нибудь похожее. И я тащил свой «Автодор» через весь Гоголевский бульвар. Все были счастливые, возбужденные, и тихий Гоголевский бульвар вдруг становился островом, который обтекала теплая человеческая река; быстрые наши головы были ее маленькими волнами, над ними, как бакены, загорались красные шары.
Мы останавливались и затихали у начала ГУМа. Здесь мимо рядов пробегали какие-то люди и что-то подсчитывали, а сзади толпа напирала, так что Деревянные транспаранты и макеты опасно сухо трещали в тишине. Наконец кто-то невидимый давал знак, и мы галопом, но ухитряясь сохранять строй, почти врывались на площадь. Здесь строй снова выравнивался. С неба гремели лозунги: «Да здравствует международная солидарность трудящихся! Ур-ра!» И все кричали «ур-ра!», а сами всем телом поворачивались к Мавзолею и так и шли боком, крича и глядя во все глаза на трибуну. Глаза скользили торопливо, жадно, перескакивая с одной знакомой фигуры на другую, пока не находили маленькую, седовато-зеленую фигурку. О н стоял в середине, чуть поодаль от других. Он поднимал руку и махал нам. Мне всегда казалось, что он машет именно мне. Что он видит меня так же, как я его.
Потом, после некоторого замедления в центре площади, мы просто мчались изо всех сил, оборачивались назад в надежде еще раз хоть на мгновение увидеть его. Когда площадь кончалась, я чувствовал, как напряжение и возбуждение спадают, будто я плыл по морю со страшной скоростью, а теперь выхожу из волн на берег.
Здесь Первого мая было тепло и сухо, как в Москве.
Мы все еще несколько дней назад носили зимние пальто или ватники, а сейчас пришли в школу в костюмах. Это здорово – ходить в школу без пальто!
Это значит, можно сбежать с уроков, так как ты не связан с раздевалкой (нянечки не выдают пальто никому в отдельности – только после звонка всему классу). Это значит, ты налегке, и после того, как погонял часок в футбол консервной банкой или тряпичным мячом, не надо искать свой ватник среди других таких же, лежащих на сырой земле серой, гнилой кучей.
1 мая 1942 года мы собрались в 7 часов во дворе нашей школы. Нам выдали красные плакаты с надписью: «Наше дело правое, враг будет разбит!» – и портреты вождей. Наша колонна потянулась к центру города. Людей было много, некоторые пришли прямо с ночных смен. Они шли в спецовках, лица у них были особенно бледные в утреннем, ясном, даже резком свете. Но они шли быстро, не хуже нас, и тоже несли плакаты и транспаранты, а некоторые доставали из платков и мешочков какую-то еду и торопливо на ходу ели. Но потом, когда мы все вышли на главную площадь, люди перестали переговариваться и есть. На деревянной щелястой трибунке стояло несколько человек. Я знал только секретаря горкома комсомола, он приезжал как-то в школу и проводил беседу. Тогда он показался нам самым главным. Он был в застегнутом наглухо кителе, а на бедре у него висел маленький браунинг. Было не совсем понятно, зачем ему в тылу, так далеко от фронта, оружие, но потом мы решили: раз носит, значит, надо. Но здесь, на трибунке, он был далеко не главный. Здесь главные были другие, а он скромненько стоял во втором ряду, и его почти не было видно.
На центральной площади против трибунки мы все остановились, стало тепло, тесно и тихо. Только скрипела тоненькая фанера транспарантов, глухо, глинисто чавкала мокрая, в лужах земля, придавленная тысячами ног. В середине трибуны стоял очень высокий и худой человек, с морщинистым, но не старым еще лицом, с непокрытой, совершенно белой головой, которая странно возвышалась и светлела над зелеными кепками, над темными шляпами, над военными фуражками, будто это была вершина горы, на которой лежит снег, вершина самая высокая и самая белая среди других, зеленых, темных и невысоких.
Он сказал высоким, мальчишески звонким голосом куда-то мимо микрофона:
– Мы открываем митинг всех трудящихся нашего города, посвященный дню международной солидарности пролетариев – Первому мая. Слово имеет председатель горисполкома товарищ Парфенов.
Что-то было в его голосе и виде, что подействовало на меня, и теперь я ждал чего-то очень важного. Я даже сам не понимал, чего. Чего-то важного и торжественного. Не то чтобы пышного, а именно торжественного, значительного, того, чего я никогда потом не забуду... Я неожиданно вспомнил своего историка, своего классного. Я знал, что его нет, но поискал его глазами. Он всегда ходил с нами на Первомай, он любил этот праздник особенно. Он только просил нас не очень шуметь, когда мы приближаемся к Красной. Он всегда шел во главе нашей колонны, а вот сейчас его не было. Его не было в этом городе, в этом Первомае. Его не было вообще. Это было очень просто, очень понятно и все-таки удивительно, что его нет вообще – ни здесь, ни в другом городе, что его нет нигде. Мне захотелось, чтобы рядом был сейчас кто-то нужный и близкий мне. Отец... Но отец в другой колонне, если он вообще на демонстрации. Хайдер... Да, я бы хотел, чтобы рядом был Хайдер. Пусть Хайдер... Он совсем другой, чем я. Мне с ним не легко, но пусть он.
А на трибуне между тем выступал председатель горсовета. Он говорил четко, внятно и все время низко склонялся к микрофону. От этого голос у него делался слишком громкий, слишком металлический. Уже не чувствовался его голос, а чувствовался только усилитель. Он говорил долго. Все слушали его сначала. Но он не говорил того, чего я ждал. Он не говорил важного. Он говорил не по бумажке, но так, будто перед ним все время была невидимая бумажка: правильно, складно, четко, – о войне, о победе, о партии и народе. Но он говорил не так, как я думал... Он не волновался. И я не волновался. Никто не волновался. Потом микрофон передвинули опять в середину трибуны, где стоял седой... Седой стоял секунду неподвижно, его лицо, старое и одновременно молодое, все в глубоких, резких, как шрамы, морщинах, было неподвижно и как-то далеко от нас, точно он забыл о том, что ему надо говорить... Но потом словно вспомнил, качнул головой и сказал опять не в микрофон, так что голос чуть не потерялся:
– Товарищи дорогие, хороший это праздник – Первомай, я его с детства люблю. Были у меня разные Первомаи: мальчишкой на маевку ходил под Сормовом, рабочим по Красной площади проходил – видел Ленина на трибуне. А вот такого Первомая не припомню. Такого Первомая, когда и о празднике не думаешь, и о весне не думаешь, и ни о чем не думаешь, кроме одного: выстоять и победить.
Он перевел дыхание, снова задумался, лицо его порозовело. А может, он просто чуть повернулся и ушел из тени, и теперь солнце задело его лицо.
– Враг топчет наши поля, вешает, расстреливает братьев, сестер, отцов и сыновей наших. Но всему бывает конец, и будет конец гитлеровскому злодейству, будет конец фашизму, всем его главарям и всем его исполнителям. Этот конец начался под Москвой.
Все захлопали. Это был глухой звук материи, потому что многие еще носили варежки и перчатки. Что-то было странное и сильное в этих глухих, тяжелых, как топот ног, аплодисментах. Теперь я уже слушал этого человека. Я слушал его изо всех сил, хотя все, что он говорил, я знал и без него. Дело тут совсем не в том, знаешь ты, что говорит человек, или нет. Дело в том, как он говорит, и какой он сам, и веришь ли ты ему или нет.
Я почему-то верил этому человеку. Верил его звонкому, накалявшемуся и тяжелевшему с каждой секундой голосу, его длинным худым рукам, что неподвижно лежали на трибуне, сжатые в большие кулаки, и только очень редко, когда он особенно волновался, поднимались над белой головой, как два ядра. Я верил его резким морщинам, и глазам, и старчески-легким светлым волосам, шевелящимся на ветру. На груди у него был один-единственный орден, в красной матерчатой окаемке, каких сейчас не носят. По-моему, это был довоенный орден Красного Знамени. Я такие ордена только в Музее революции видел.
Закончив речь, седой резко взмахнул рукой, и оркестр, стоявший слева от трибуны, заиграл «Интернационал». Мы сдернули с голов кепки, военные на трибуне приложили руки к козырькам, а говоривший речь стоял устало, опустив руки, и слушал так внимательно, даже настороженно, будто «Интернационал» при нем исполняли впервые.
Потом мимо трибуны пошли те солдаты, что были ранены, а теперь выписывались из госпиталя и на днях отправлялись на фронт. Оркестр играл марш, и солдаты шли, держа парадный строй; он был четкий, но не безупречный. Наверное, оттого, что они долго лежали в госпитале и отвыкли от маршировки. А может, просто есть особые войска, которые владеют искусством парадного марша.
Затем все остальные демонстранты двинулись по площади, и теперь уже оркестр играл «Пусть ярость благородная вскипает, как волна», и кто-то начал вполголоса им подпевать, и тогда вся площадь подхватила песню. Тот, седой, на трибуне тоже пел, мне даже казалось, я слышу его высокий, не по годам звонкий голос. Мы тоже тронулись с места и шли мимо трибуны, и я вновь пожалел, что Хайдера нет рядом. Мы шли очень хорошо, без всяких заминок, каждый старался не выбиться из общего марша. Где-то в параллельной колонне я увидел отца. Я не думал, что он придет, но, видимо, их отпустили из госпиталя ненадолго. И вот он пришел. Он тоже Первомай любил, и, когда я был маленький, я всегда с ним ходил на Красную площадь. А уж только потом стал ходить со школой.
Я ему крикнул, но он не услышал. Он шел и пел. И я очень удивился, что он поет. Он вообще почти никогда не пел. У него не было слуха. Но для таких песен, наверное, не обязателен слух...
Мы быстро прошли площадь и теперь двигались назад, в школу. Надо было отдать на склад транспаранты, флаги и портреты. На улицах было так тихо, что даже до школьного двора доносились ухающие тяжелые звуки оркестра. Мне снова захотелось туда, на площадь. Но идти было бессмысленно: демонстрация шла к концу.
Ребята уже разбежались, а я не знал куда деться. Домой идти не хотелось: все равно там никого нет. Я зачем-то зашел в наш класс, мне показалось, что в парте я забыл алгебру Киселева.
В самом конце, на задней парте среднего ряда, кто-то сидел, вернее, полулежал, опустив голову на руки.
Это был Хайдер. Казалось, он спит.
– Хайдер! – крикнул я. – Проснись!
Он не ответил, не поднял головы. Наверное, всерьез спит, решил я и в недоумении подошел к его парте. Я небольно щелкнул его по затылку.
– Чего надо? – пробормотал он глухо, неразборчиво, в доску парты.
– Ты чего, одурел, что ли? Все на демонстрации, а он спит!
– Я не сплю, – все так же неразборчиво, неясным, как бы стертым голосом проговорил он.
Потом он поднял лицо и посмотрел на меня красными, оцепеневшими, пьяными глазами.
– Ты напился? – тихо спросил я.
– Н-нет, – сдавленно протянул он.
– Может, ты заболел?
Он тяжело покачал головой.

– Что ж ты ведешь себя, как псих? Все пришли на митинг, а он в классе сидит. Ну и дурак, много потерял. Знаешь, какой митинг грандиозный был! Солдаты из госпиталя, которые уже выписались... Парад, оркестры! А потом мужик один выступал – здорово так говорил про то, как мы должны помогать фронту. Весь город был... Даже отец, знаешь, как занят, и то пришел. Очень здорово было. Дурачок ты, ей-богу!
Мне хотелось, чтобы он понял, как там было, чтоб он понял, что он потерял. Я говорил что-то еще, быстро, возбужденно. Он все так же оцепенело, неподвижно смотрел неживыми, тусклыми глазами.
Мне вдруг в голову пришла сумасшедшая мысль, что сейчас он не понимает по-русски, у него иногда бывали такие минуты, когда он будто бы не понимал по-русски, когда он понимал только по-своему, по-татарски... В самом-то деле он, конечно, всегда понимал, а только так смотрел, будто не понимает. Я замолчал. Я не любил, когда он делает такой вид. А он сказал, словно бы чуть оживившись:








