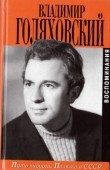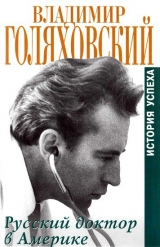
Текст книги "Русский доктор в Америке. История успеха"
Автор книги: Владимир Голяховский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Ортодоксы Бруклина
Сохранились в Бруклине районы, где чёрные не только не селятся, но и появляться там не очень решаются. Это районы Вильямсбурга и Восточного авеню, где живут сотни тысяч ортодоксальных евреев – хасиды и любавичские. Чёрных там не увидишь, а если они проникали туда и случались там ограбления или убийства, евреи многотысячной густой толпой шли в районы чёрных и устраивали там такие демонстрации и разгромы, что те стали их бояться. Полиция, конечно, присутствовала, но всё равно это было своего рода самоуправством – единственным для них спасением.
Любавичские евреи жили близко к нашему госпиталю и иногда поступали к нам на лечение. Жизнь их изолированного общества напоминала добровольное гетто. В полную противоположность чёрным соседям культ семьи там стоял превыше всего на свете: все были многодетные, по пять – десять и больше детей. И все работали – в мелкой торговле или на производстве, многие – в брильянтовых мастерских и магазинах.
Но работа была неофициальной, чтобы не платить налоги. Это было одно общее между любавичскими евреями и чёрными иммигрантами: налогов они не платили. И ещё одно: для лечения и те и другие получали страховку для бедных, Медикейд, как многодетные родители.
Чрезвычайно, даже фанатично религиозные, любавичские всю жизнь подчиняли соблюдению традиций и молитвам и ели только кошерную пишу, благословлённую их раввинами. Одевались тоже традиционно – с детского возраста: мужчины в чёрных сюртуках и шляпах, женщины, даже очень молодые, с бритыми головами, прикрытыми париками, платками или шляпками. Вокруг них всегда вился рой аккуратно одетых детишек всех возрастов. И, конечно же, никаких наркотиков в том традиционном обществе не было и быть не могло. Там господствовали книга религиозных законов Тора и деньги.
Обходя этаж за этажом на дежурстве, я подготавливал больных, поступивших на завтра на операции. В палате на одного человека сидел на кровати и раскачивался в молитве молодой еврей-хасид, с пейсами, в ермолке и с молитвенником в руках. Когда я вошёл, он сделал мне знак рукой не перебивать его и продолжал качаться. Я встал спиной к двери и перебирал свои записи – что ещё нужно делать. Он всё молился, и я уже был готов повернуться и уйти, чтобы зайти позже. В тот момент он закончил молитву и в один прыжок оказался возле меня, поймав за полу куртки. Он уставился в висящее на лацкане моё удостоверение, прочитал и воскликнул по-русски:
– Ты – еврей из России?
– Да. – Я удивился, не ожидая услышать от него русскую речь.
– Ага! Я тоже! – радостно завопил он и стал буквально прыгать вокруг меня, как сумасшедший, быстро-быстро расспрашивая:
– Когда приехал?
– Четыре года назад.
– Где жил?
– В Москве.
– Ага! Я тоже! Я тебя сразу распознал.
– А вы когда приехали?
– Я давно, двадцать лет назад, ещё мальчишкой. Ага! – он не переставал двигаться и подпрыгивать, от его суетливости у меня зарябило в глазах, я подумал: чем он болен?
– Мне надо вас обследовать. Что с вами?
– Ерунда! У меня грыжа, но это не имеет никакого значения. Сначала мы должны вместе помолиться. Ага!
Поражённый таким оборотом дел, я стал отнекиваться:
– Мне, знаете, некогда, дел много… да я и не умею молиться…
– Ерунда! Это не имеет значения! – вопил он подпрыгивая. – У меня есть с собой всё для молитвы. Ага!
Притянув меня насильно, он стал повязывать мне на левую руку ритуальную кожаную коробочку с двойной длинной лентой Тефеллин, приговаривая:
– Ага! Эта называется Шел Яад, с молитвами из Торы. Она напротив сердца, ага! А вторая называется Шел Рош, тоже с молитвами. Эту повяжем тебе на лоб. Ага!
– Слушайте, мне действительно некогда… может быть, потом…
– Нет, нет, никаких потом!
Я не знал, как от него избавиться: при такой настойчивости единственным способом было его оттолкнуть, но это грубо – мы же не на улице, с больными в госпитале так не обращаются. С другой стороны, и больные с докторами ведь тоже не должны так обращаться… Что мне делать? Я не успел придумать, как он накинул мне на голову талес – большую белую шаль с синими полосами по краям. Под шалью я почувствовал себя полным идиотом.
– Ага! Теперь будем молиться, – он сам уже тоже был под талесом. – Становись лицом к стене – в сторону Иерусалима. Повторяй за мной.
Я только мечтал, чтобы в этот момент не вошла сестра. Прочитав короткую молитву, которую я вяло повторял, улавливая конец бормотания, он заявил:
– Ага! Теперь мы должны станцевать.
Тут я из-под талеса возвысил голос:
– Нет, нет, танцевать мне совсем некогда!
– Это особый танец, символический – для дружбы. Ты хочешь, чтобы моя операция прошла хорошо?
– Да, конечно, но…
– Ага! Для этого надо станцевать. Клади свою руку мне на плечо, так, а я кладу свою руку на твоё плечо. Теперь давай кружиться и подпрыгивать, ага! – он заскакал вокруг, насильно меня поворачивая. – Ты подпрыгивай, подпрыгивай, ага!
Подпрыгивать я не стал, но ощущал себя безвольным идиотом: никогда в жизни я не был в таком дурацком положении. Я сказал:
– Ну, хватит, уже ясно, что операция пройдёт удачно.
– Нет, нет! Ещё не всё, ага! Ты хочешь, чтобы израильтяне победили в Ливане? (Это было в 1982-м, израильские войска тогда вошли в Ливан для защиты своего севера от хасбулатских экстремистов.)
– Да, я хочу, чтобы они победили, но я не хочу больше танцевать. Какое имеет отношение одно к другому?
– Ага! Если хочешь, чтобы мы победили, повторяй за мной, – он всё кружился и что-то бормотал.
Я думал: ну и картина со стороны – доктор на дежурстве… Вот бы Ирина сейчас увидела меня, она бы решила, что я сошёл с ума.
Наконец он кончил прыгать, мы сняли ритуальные повязки, и я уговорил его лечь, чтобы обследовать его грыжу – надо же мне описать её в истории болезни. Попутно он рассказывал, что живёт в районе, где всё подчинено любавичскому раввину Шнеерзону.
– Знаешь, какие у нас строгие правила? – все евреи должны молиться три раза в день, а мы должны это делать восемь раз, ага! Зато ребе Шнеерзон сказал, что мы первые встретим Миссию, ага!
Я не стал вдаваться в теологические дискуссии и постарался ретироваться поскорей.
– Приходи ко мне помолиться ещё раз перед сном, ага?
– Я постараюсь.
Не имея желания ещё раз валять дурака, я не только больше не вошёл в его палату, но даже обходил её стороной, чтобы он случайно не увидел меня через щель полуоткрытой двери и не затащил силой.
Закончив все дела к трём часам ночи, я пришёл в свою комнату и только вытянулся на кровати, как раздался телефонный звонок. Возбуждённым голосом сестра крикнула:
– Доктор Владимир, срочно придите в палату 306!
Палата 306 была самая большая, на двадцать кроватей, там всегда лежали тяжёлые больные. У нас тогда не было отделения интенсивной терапии, и сестре было легче наблюдать за ними в большой палате.
– Что случилось?
– Вот придёте, сами увидите. Только срочно.
– Хорошо, хорошо, я уже иду, но что случилось?
– Тут двое больных, мужчина и женщина… они занимаются любовью.
– Что?! Где?!
– Говорю вам, прямо в палате.
На ходу я обдумывал, что предпринять, и позвал с собой дежурного охранника, чёрного верзилу:
– Пойдём со мной, сестра звонила – в палате 306 двое занимаются любовью.
– Есть из-за чего беспокоиться! Подумаешь, большое дело, – посмеиваясь и захватив с собой дубинку, он шёл за мной. Эти ребята-охранники сами были не прочь заниматься тем же с сёстрами и их помощницами во время дежурств.
Сестра подвела нас к кровати.
– Вот, это он, а она спрыгнула и ушла к себе. Но я всё записала в историю.
У провинившегося любовника было недавнее огнестрельное ранение лёгкого, и между рёбрами ему была вставлена трубка для постоянного отсоса воздуха. Из-за этого он мог лежать только на спине, и трудно было представить, что в том состоянии он физически был способен делать то, о чём говорила сестра.
– Прямо как животные – при всех, – говорила сестра. – Ведь кто спит, а кто не спит.
– Как же они… это?..
– Так она сидела на нём.
– У неё-то самой что?
– У неё длинный гипс во всю ногу.
Ещё любопытней. Любовник притворялся спящим. Я подёргал его за плечо:
– Эй, ты что тут делал недавно?
Пришёл мой старший дежурный Луис:
– Что тут у вас? Мне позвонили, чтобы я пришёл.
– Да вот, двое больных занимались любовью – он и женщина с гипсом на ноге.
А тот всё не открывал глаза. Луис потряс его сильней, он обозлился и закричал:
– Эй, я человек, док! Я человек!..
– Ты скотина! – заорал на него Луис.
– Ты тише, док, не то пожалеешь!..
– Ты меня не пугай, я сам из Гаити, – выразительно сказал Луис, и больной притих.
Спать нам оставалось два часа. Если не разбудят ещё.
Утром на этаже операционной я увидел толпу бородатых ортодоксальных евреев в чёрных шляпах и сюртуках, под которыми болтались лохматые белые тесёмки – цацкис. Они стояли группками по двое-четверо, кто молился, бормоча что-то себе под нос, кто беседуя – все люди пожилые. Среди них один молодой, бритый, в обычном костюме. У молодого испуганные глаза и напряжённая улыбка. Я думал, что они пришли проведать своего любавичского сотоварища, но оказалось, что они привели с собой того молодого мужчину для обряда обрезания. Наш госпиталь был местом, где они проводили этот ритуал.
По традиции, обрезание крайней плоти на половом члене делает мохел – специалист этой процедуры, но не доктор. При этом должны присутствовать раввин, кантор, сандек (вроде крёстного отца) и актив синагоги. Вот это они и пришли к нам в то утро. Новорожденным младенцам мохел делает обрезание на дому, на восьмой день после рождения. Младенец немножко попищит и быстро затихает. Не так со взрослыми – им для этого нужна настоящая хирургическая операция под местной анестезией. А это умеет и имеет право делать только доктор, обычно – уролог. У нас был уролог – верующий еврей, который подменял мохела в процессе процедуры.
Я никогда не видел этого ритуала и попросил старшего из них:
– Можно мне присутствовать? Я работаю доктором здесь.
– А вы еврей? Тогда оставайтесь. Откуда вы? Из Москвы? Так ведь и этот молодой человек тоже недавний иммигрант из Москвы. Он очень знаменитый шахматист. Ай-ай, какой знаменитый! Вы его знаете?
Я подошёл к напуганному шахматисту. Он обрадовался русской речи, и мы разговорились, оказалось, что у нас были общие знакомые. Он действительно был гроссмейстер шахмат.
– Скажите, очень больно будет?
– Нет, не волнуйтесь, только первый укол в кожу немного болезненный.
– Вы уж меня не оставляйте, я не знаю английский и никого не понимаю.
– Не волнуйтесь, я буду с вами. Могу я спросить: почему вы решились на это?
– Да это они меня уговорили. Как вцепились. Я недавно приехал, один, семья пока не со мной. Мне сказали пойти в синагогу, я никогда раньше и в синагоге-то не был. А они как узнали, что мне не делали обрезание, насели на меня так, что мне и деваться было некуда.
Я помнил, как накануне меня заставил плясать наш больной, и поверил шахматисту. К нам подошёл коротенький ортодокс и представился, что он и есть мохел. Я перевёл шахматисту, тот с ужасом уставился на него – ему, наверное, с чемпионом мира не так страшно было сражаться. А мохел был весёлый, шутил и его подбадривал.
Пришёл доктор-уролог, и мы вошли в перевязочную комнату, ортодоксы прямо в сюртуках, без халатов. Шахматиста положили на перевязочный стол и стянули брюки, он вцепился в мою руку. Ортодоксы сгрудились вокруг и запели молитвы. Завёл раввин, вступил кантор (певец синагоги), за ним подхватили все. Их масса в чёрных сюртуках раскачивалась, склоняясь над шахматистом и поднимая руки. Всё это мрачностью напоминало средневековый ритуал, что-то вроде жертвоприношения. После минут пятнадцати пения и раскачивания мохел торжественно развернул синий бархатный платок с золотыми шнурками, в котором лежал ритуальный набор: длинный тупой нож и ещё какие-то инструменты. Держа их наготове, он склонился над членом шахматиста. Того передёрнуло от страха, он моргал и дрожал. И в тот момент мохела подменил доктор со шприцом и набором стерильных инструментов. Мохел торжественно передал ему член, все завыли какие-то песнопения. Когда хирург закончил процедуру, мохел опять подскочил и занял ведущую позицию (не иначе как чтобы обмануть взирающего на нас сверху Бога). Он поднял вверх обрезанный кусочек. Тут откуда-то появились бутылка кошерного вина и бокалы, всем налили (и мне тоже), и они стали поздравлять шахматиста:
– Мазал Тов, Мазал Тов, Мазал Тов!.. – и опять запели, приплясывая.
После процедуры мохел отвёл меня в сторону и просил совета по поводу болей в пояснице. Осматривая его, я спросил:
– Вы много ездите на машине?
– Целыми днями.
– Попробуйте поднять сиденье повыше. Может, ваша боль от неправильного сидения.
– Ха, хороший совет! Спасибо, доктор.
Шахматист с трудом отходил от пережитого ужаса. Но потом я читал в газетах, что он играл ещё лучше, побеждая на международных соревнованиях – уже за Америку. Наверное, обрезание помогало…
А мохел? – через несколько месяцев я опять увидел его на такой же процедуре.
– Знаете, доктор, спина прошла. Спасибо за совет, – сказал он.
– Да, вы подняли сиденье в машине?
– Нет, я просто купил новый «Кадиллак».
Наши руководители
Руководить массой резидентов из разных стран мира была, конечно, нелёгкая задача. Как бывший директор я это понимал и, хотя был внизу иерархии, с интересом присматривался к тому, как это делают наши руководители.
Рабочий коллектив госпиталя можно сравнить с оркестром, а руководителя – с дирижёром. Наш госпиталь был вроде оркестра, где все музыканты имели разную подготовку, а то и никакой. Но у дирижёра одна задача – чтобы они звучали слаженно, то есть задача главного хирурга, чтобы уровень лечения был одинаковый. Оркестру для этого необходимо много репетиций, но в госпитале репетиций нет и быть не может: больных надо лечить сразу, и – всё.
Директор департамента хирургии и хирургической программы доктор Роберт Лернер – мой ровесник – слегка за пятьдесят. Он был один из немногих, кто работал в этом госпитале всю жизнь, и развал госпиталя прошёл перед его глазами. Человек с мягким характером и мягким юмором, он в основном занимался поддержанием баланса отношений между разными группами. Хирург он был не очень активный, оперировал только частных пациентов, которых становилось всё меньше. Он показывал нам мало примеров чисто профессионального мастерства, зато много примеров того, что и в наших условиях можно вести себя по-джентльменски.
Программой резидентов руководил его заместитель доктор Рамиро Рекена, сорока лет. Он активно учил нас показом и рассказом. Рекена был итальянского происхождения, но родился и вырос в Боливии (мать – южноамериканка). Смесь итальянского и боливийского – это некоторая заторможенность с тенденцией показать себя; очевидно, так на них влияют традиции и чудесный климат. Для боливийца Рекена был высокообразован, он иммигрировал в Америку молодым врачом и прошёл хороший трейнинг в Чикаго. Он любил не просто лечить, но занимался научными вопросами, публиковал статьи в журналах и даже мечтал написать толстый учебник. Его коньком было обучение нас глубоким теоретическим знаниям в медицине, медицинским основам – анатомии, физиологии, биохимии, патологической анатомии (в Америке её называют просто патология), генетике. Мы больше изучали теорию, чем учились практике. И в этом была своя логика.
Госпиталь наш существовал под страхом развала и закрытия. Программы резидентуры в нём были надеждой и поддержкой: если программы не закроют, то и госпиталь удержится (иначе кто же работать в нём будет?). Судьба программ резидентуры зависела от специальной комиссии аккредитации в Чикаго – это были наши высшие начальники: авторитетные специалисты и профессора. Для них главный критерий успешности программы был – как мы сдавали экзамены: ежегодный внутритрейнинговый экзамен, а после окончания – экзамен национального БОРДа по специальности. Экзамены, экзамены, экзамены… у нас от них голова кружилась. Готовиться к ним было совершенно некогда, а не готовиться – невозможно: между Сциллой и Харибдой (русским резидентам, никогда после окончания института экзамены не сдававшим, это было вдвойне непривычно и тяжело).
Неудивительно, что Рекена все силы в первую очередь направлял на то, чтобы подготовить нас к экзаменам. Для этого в конце каждого дня мы, усталые от дежурств и операций, собирались на конференции и повторяли приблизительные экзаменационные вопросы. От недосыпания головы наши клонились и падали во все стороны, но мы обязаны были отвечать на вопросы, которые читали старшие.
Многие молодые ребята часто жаловались мне:
– Ах, Владимир, если бы ты только знал, как я устал…
Счастливые юнцы! – они-то могли жаловаться. Я же делать это опасался: лучше было помалкивать, чтобы не подчёркивать свою старость.
Поначалу я оказался в числе плохих учеников. Моей проблемой было непонимание произношения старших резидентов-индусов. Они все очень твёрдо произносят согласные звуки, с пропуском гласных. Когда один из них зачитывал вопрос для всей аудитории, я это слышал приблизительно так:
– Мбыр-дыр-пыр-шлыр, брум-друм-гр, бррыкыр-рубш…
После этого один из нас должен был дать ответ – А, В, С, D или комбинацию из них.
Он спрашивал меня:
– Владимир, какой ответ?
О, господи! – что он спрашивал? Неудобно же говорить, что я его совсем не понял. Я напрягался, чтобы догадаться, но никак не мог и говорил наобум: – С.
– Стыдись, Владимир! – такой простой вопрос, а ты не знаешь: ответ – А.
Потом, читая вопрос своими глазами, я тоже видел, что правильный ответ был А.
Но, так или иначе, во мнении старших и руководителей я стал «ходить в слабых». А это грозило тем, что после первого года резидентуры меня могут и не оставить на второй.
Самым теоретически подкованным и знающим был резидент четвёртого года индиец Рамеш. Он всё отвечал правильно, а если кто с ним спорил, то он открывал учебник сразу на нужной странице и показывал: там слово в слово было, как он сказал – он знал восьмисотстраничный учебник наизусть! И Рамеша наши руководители, особенно Рекена, любили и ценили больше всех. Ну, а младшие резиденты перед ним только что не преклонялись.
Мы дежурили с Рамешом на двухсуточном дежурстве в субботу-воскресенье. На утреннем обходе я увидел больную белую женщину семидесяти двух лет, у которой были острые боли в животе. По симптомам было явно, что у неё начиналось обширное воспаление кишечника. Я заподозрил тромбоз вен – жизнеопасное и нередкое заболевание у пожилых людей – и вызвал Рамеша. Больной я сказал:
– Сейчас придёт старший дежурный и решит, как вам помочь.
Она и ждала его как спасителя. Рамеш долго её осматривал, у неё от интоксикации и нарушения баланса газов крови уже начиналась одышка, и он с некоторым раздражением спрашивал:
– Ну отчего вы так часто дышите?
– Я не знаю, доктор, – она растерянно и застенчиво пыталась улыбнуться в ответ.
Вопрос был как нельзя менее подходящим: это врач должен определять – «отчего».
Рамеш ушёл, ничего больной не сказав. Я пытался убедить его:
– Слушай, ей нужна срочная операция, у неё тромбоз вен и скоро наступит гангрена (отмирание) кишечника.
Он пропускал мои слова мимо ушей. С его знаниями он, конечно, должен был понимать, что происходит с кишечником больной. И он несколько раз приходил её осматривать и записывал, но всё откладывал операцию. Почему? Без аттендинга мы оперировать не имели права, а его главная забота была – не беспокоить аттендинга во время субботы-воскресенья – дежурным был доктор Рекена, основной наш руководитель. И Рамеш не хотел портить ему отдых.
Больная смотрела на Рамеша умоляющими глазами: ей нужна была его помощь, а не его книжные знания. Приходил её единственный родственник – брат-старик. Посидев возле неё, он всё понял и тоже надеялся на помощь:
– Доктор, мне кажется – она умирает. Вы будете делать операцию?
– Мы её наблюдаем и вызовем ответственного дежурного, – ответил я, опустив глаза.
Вся ночь прошла в ухудшении состояния больной, только вечером в воскресенье Рамеш решился позвонить Рекене, тот приехал к ночи. Уже прошло почти двое суток, как заболела старушка. Начали операцию, я «стоял на крючках»: только сделали разрез, увидели – гангрена уже распространилась на весь кишечник. Больная умерла в тот же день.
Я ждал, что Рамешу дадут «разнос» за промедление. Я сам такого резидента выгнал бы. Но… старшие хирурги аттендинги-индийцы собрались в кабинете директора и всё «погасили», никто даже и слова не сказал. Реноме Рамеша как лучшего резидента не пострадало – он же получал на экзаменах самые высокие оценки!
В медицине не может быть места для политики, в том числе и для политики отношений между докторами – старшими и младшими. У нас в госпитале было слишком много политики. Но – как иначе было руководить многорасовой и разнокультурной массой резидентов?
Я не подходил ни под какую группу. Индийцы и гаитяне косились на меня и не понимали – зачем этот «старик» в резидентуре? Филиппинцам я был совсем чужд, они считали меня ставленником директора и относились насторожённо. Двое других белых, поляк и португалец, были оба в возрасте моего сына. Крутясь целыми днями и ночами вместе с резидентами, я начинал чувствовать некоторую изолированность. И вот в это время Рекена вызвал меня и вежливо, как всегда, сказал:
– Доктор Голяховский (он единственный выучил, как произносить мою фамилию), мы с доктором Лёрнером хотим перевести вас временно в научную лабораторию. Вы освобождаетесь от ведения больных на этажах, но будете продолжать дежурить.
Он описал мои обязанности в лаборатории: делать на кроликах и собаках экспериментальные операции по соединению вен фибиновым клеем вместо обычных швов, и тут же познакомил с руководителем лаборатории доктором Гидеоном Гестрингом.
Ох, как я рад был хоть на время избавиться от части непосильных нагрузок! А что касалось экспериментов, то я раньше много делал их в Москве для диссертаций и оперировал на собаках. Так что работа была мне знакома.
Научные традиции в нашем госпитале имели глубокие корни: именно в этой лаборатории был впервые открыт знаменитый резус-фактор крови, без определения которого теперь не делается ни одно переливание крови (на макаках породы «резус», откуда и название); у нас впервые стали успешно лечить антибиотиками эндокардиты – воспаления внутренней оболочки сердца; были сделаны серьёзные открытия в педиатрии. Но всё это было в далёком прошлом – лег двадцать-тридцать назад, а то и раньше. Теперь научная лаборатория занимала несколько комнат в подвале госпиталя, и ещё в виварии сидело несколько кроликов и собак. От этого в подвале сильно пахло псиной. В комнату, соседнюю с виварием, теперь временно въехал я.
Сколько уже передо мной в Америке проходило разных интересных людей! Но доктор Гидеон Гестринг был одним из самых необычных. Это был пятидесятипятилетний великан с громоподобным голосом и неизбывной энергией, урождённый любитель всяких приключений. Еврей из Вены, он в 1930-е годы, в детстве, попал в Палестину – иммигрировав с родителями от нацистов; подростком он уже сражался там за образование Израиля; в восемнадцать стал одним из первых лётчиков-истребителей Израиля, много раз отличался бесстрашием на войне и был награждён; потом вернулся в освобождённую Вену, закончил там медицинский институт и стал доцентом-нейрохирургом. Там он женился на русской красавице (где нашёл?), такой же крупной и такой же любительнице приключений, они много гоняли по всему миру на мотоцикле, у них родились три сына-великана. Почему-то он переехал в Америку, сдал экзамен, но работать врачом не стал и теперь вёл ту нашу крошечную научную лабораторию в примитивных условиях. Но это не уменьшало его энтузиазма: он и научную работу делал так решительно, как будто летел на сражение.
Кроме него, был там лаборант Аби, тридцати лет, с корнями происхождения из чёрных абиссинских евреев. В нём странно сочеталась типичная внешность чёрного с невероятной еврейской религиозностью, он всегда был в ермолке и соблюдал все еврейские ритуалы и праздники. Был ещё чёрный служитель вивария, сорока лет. Вот и я попал туда, четвёртым, под начало необыкновенного руководителя. Куда только судьба меня не заносила!