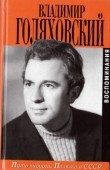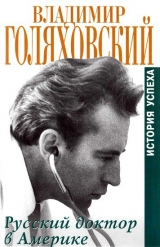
Текст книги "Русский доктор в Америке. История успеха"
Автор книги: Владимир Голяховский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Мы устроили перерыв с ланчем для гостя. Ирина заранее купила продукты, которые почти никогда не появлялись на нашем столе, но он ел наспех и хотел продолжать вопросы. Мы думали, что он торопился закончить, однако он попросил разрешения прийти ещё и завтра. Когда за ним закрылась дверь, я почувствовал невероятную усталость – не от общения, а от попыток говорить на английском. Фактически это был первый раз, когда я разговаривал или вслушивался в английскую речь целый день. Трудно представить, как с непривычки утомляет новый язык.
На другой день он пришёл раньше и вёл себя, как заинтересованный фокстерьер: вскакивал с места, восклицал, перебивал и задавал глубокие и острые вопросы. Чувствовался высокий класс его журналистского профессионализма. В этот раз отвечать на английском мне было немного легче, потому что с первого дня я усвоил и запомнил кое-какие входные обороты речи. Что значит практика!
Потом он нас с Ириной фотографировал так, чтобы она обязательно держала в руках мои книги, а у меня в руках были изобретённые мной искусственные суставы, фотографировал мои русские и иностранные патенты. А когда я сослался на то, что много лет вёл дневники, он захотел их посмотреть, стал листать, просил перевести отдельные страницы и тоже их сфотографировал. Получилось очень живое и документированное интервью. Закончив работу к концу второго дня, он сказал:
– Откровенно говоря, я даже не ожидал собрать такой новый и интересный материал. Многое из рассказанного вами совершенно неизвестно американцам. Они думают, что медицина в Советском Союзе действительно доступная, бесплатная и высококвалифицированная. Думаю, что наш материал будет иметь успех у читателей. Вы не удивляйтесь, если после появления интервью вам станут звонить незнакомые люди, писать письма, даже приглашать к себе. В Америке это принято.
После его ухода мы с Ириной оба были и утомлены, и возбуждены. Я говорил:
– Видишь – это интервью может дать нам как раз то, чего я добиваюсь: знакомства и полезные связи, которые помогли бы мне найти работу и опубликовать книгу. Помнишь, что тётка Люба говорила в самый первый наш вечер в Нью-Йорке? – в Америке очень полезно иметь связи. А ты мне не верила, когда я рассылал письма.
Ирина не возражала, тем более что, уходя, журналист оставил нам чек на $400, весьма желанный в нашей ситуации.
Учиться было трудно; теперь я уже мог улавливать основной смысл лекций на плёнках в Каплановском центре, но для ясного понимания мне не хватало слов. Тысячи раз в день я останавливал магнитофон, открывал англо-русский словарь, находил нужое слово и выписывал его с переводом в тетрадь. Включал магнитофон, а через секунду останавливал для поисков другого слова. Сделав несколько новых записей, забывал предыдущие и снова лез в словарь. Обнаружив, что я только недавно то слово выписал, я с отчаянием ругал себя и старался затвердить его. Но всё равно, одно и то же слово приходилось повторять по много-много раз.
К каждой лекции-плёнке выдавались напечатанные на машинке (компьютеров в общем пользовании ещё не было) буклеты с типичными вопросами по этой теме, за которыми следовали ответы, каждому вопросу соответствовал множественный выбор из четырех-пяти ответов, из которых один был правильным. Эти вопросы и ответы приблизительно соответствовали возможным экзаменационным. Закончив лекцию, лектор всегда разбирал вопросы и объяснял – почему и какие ответы правильные.
Смысл подготовки к экзамену сводился к тому, что надо было вникать и запоминать вопросы по темам лекций, понять – что именно спрашивалось, и постараться помнить не менее пяти-шести тысяч вариантов по всем разделам медицины. Каплан гарантировал, что если хорошо знать его материал, то можно сдать экзамен с высокой оценкой. Такой объём материала студенты колледжа и института проходили за 6–7 лет, но нам, докторам из других стран, надо было подготовиться за полугодовой курс или снова повторять то же самое – пока не сдашь.
Вот мы и сидели там с утра до ночи и старались понять и запомнить. Понимать было нелегко, а запоминать нам надо было не только факты, но и сами незнакомые слова. Когда лекция была по клинической медицине – о симптомах заболеваний и лечении болезней, – мне помогала профессиональная память. Но в современной американской медицине практическое лечение базируется на основе знания фактов и законов медицины теоретической – микробиологии, биохимии, физиологии, морфологии, фармакологии и генетики. Это отличает медицину наших дней от той, которую я изучал тридцать лет назад. Всех этих основ мы, практические доктора, после окончания института уже никогда не касались. А с тех пор в этих науках были сделаны новые фундаментальные открытия, о которых я знал только понаслышке.
Особенно трудно было понимать объяснения по генетике. Когда я учился, генетиха была в зачаточном состоянии, а в Советском Союзе преподавали ес по лжеучению Лысенко. Он как догму доказывал возможность направленного изменения генетического кода – основы жизни клетки. Это было на руку коммунистическим идеям общественных преобразований (в добавление к лагерям ГУЛАГа). Нам тогда вменялось в обязанность знать учение Лысенко чуть ли не наизусть, а научные открытия западных учёных трактовались как вредная «буржуазная идеология».
Когда я заканчивал институт, в 1953 году, основная генетическая структура клетки (ДНК) была только открыта Франсисом Криком и Джеймсом Уотсоном, и я уже не имел возможности изучать это. А теперь для экзаменов надо было знать подробное строение и функцию этой магической двойной спирали. И вот приходилось мне отступать ещё более назад и браться за изучение основ – великая сила необходимости сильней всех обстоятельств на свете.
А как с этим справлялись другие русские доктора? Те, кто был моложе меня, уже изучали поздние открытия, когда антизападная истерия в Союзе ослабела. Для них структура ДНК не была новостью – хоть и не в деталях, но они её проходили.
Я спросил пожилую женщину-психиатра, ту, которая проклинала экзамен и кто его придумал:
– Как вы учите структуру ДНК?
– Ой, что это такое? – испуганно воскликнула она.
– Ну, структура, которая отвественна за синтез аминокислот и генетический код. По правде говоря, я сам о ней почти ничего не знаю, поэтому и спрашиваю.
– А я так и вообще понятия не имею и иметь не хочу, с меня хватит! – нервно отреагировала она. – Я читаю русские учебники, которые привезла с собой. В моём возрасте и при моих обстоятельствах это больше, чем достаточно. А там про это ничего нет.
– Но те учебники отстали от американской медицины на десятки лет.
– Отстали? Нет, за мой век в медицине немногое изменилось.
Я поразился такому заключению: медицинская наука быстро менялась на наших глазах благодаря развитию техники и электроники, в медицине открывались новые научные факты, на которых основываются всё новые и новые методы лечения. Отрицать это было более чем странно – невежественно. Но она продолжала:
– Если уж так надо, то у меня есть переводы почти всех лекций Каплановского курса на русский язык: наши слушали, переводили и обменивались друг с другом. Я достала копии. Они, правда, от руки написаны и не всегда ясно. Хотите, могу вам дать.
– Нет, спасибо, я думаю, что лучше вникать в английский текст – мы ведь сдаём экзамен на английском, и вся наша последующая практика будет на английском.
– Кто это вам сказал? Я лично не собираюсь лечить американцев. Почти все наши русские врачи на Брайтоне лечат в своих офисах русских пациентов.
К нам подошли другие соученики. Любители проводить время в беседах и спорах, они горячо включились в обсуждение – на каком языке легче готовиться к экзамену. Большинство молодых считали, что это надо делать на английском, большинство немолодых – на русском. Молодые доказывали:
– Если готовиться по-русски, то на экзамене каждый вопрос надо прочитать на английском, перевести его мысленно на русский, вспомнить правильный ответ опять-таки на русском, потом найти в предложенном выборе соответствующий ответ на английском и перевести его обратно. Это же сумасшедшая работа! На экзамене не хватит на это времени: там на один вопрос даётся в среднем около 40 секунд.
Старшие возражали:
– Хорошо вам говорить – вы знаете английский. А что нам делать, если нам всё равно лепе понимать на русском?
Один из докторов, московский хирург Игорь, скептически улыбаясь говорил:
– Всё равно всем придётся и читать и говорить по-английски. Я по себе знаю.
Он приехал раньше нас и нашёл работу в научной лаборатории, а по вечерам приходил готовиться к экзамену. Москвич с москвичом, мы сошлись с ним ближе. Игорь за два года освоил язык настолько, что без проблем читал и разговаривал.
– Мне помогло то, что я целыми днями работаю с американцами, – объяснял он.
По сути, основной вопрос нашей адаптации здесь и был – привыкание к языку. А для этого необходимо было погружаться в него как можно больше и не болтать по-русски в коридоре Каплановского центра, что любили делать все наши. Я попылся найти себе в Каплановском центре собеседников-американцев. Но сойтись с ними было трудно.
Мы называли американцами всех, кто разговаривал на английском. И вскоре я приобрёл двух приятелей среди них. Один – пятидесятилетний доктор из Уругвая Хаим. Он уже сдал первый экзамен и поступил в резидентуру (трейнинг по специальности) по восстановительному лечению, а теперь готовился ко второму экзамену – на лицензию для права лечения частных больных. Это высоко поднимало его в моих глазах. Хаим сам однажды заговорил со мной, рассказал, что его родители, литовские евреи из-под Витебска, молодыми бежали в двадцатые годы в Америку, но она их не приняла. Он родился и вырос в Уругвае, его первый язык был испанский, но английский он выучил ещё в детстве. Способный организатор, он стал министром здравоохранения в своей стране, состоятельным человеком. А потом женился на американке, и она уговорила его бросить карьеру и переехать в Нью-Йорк. Чем больше я к нему присматривался, тем больше его лицо казалось мне похожим на лица родных моего отца, которые тоже были из тех краев. Мы обсудили это и по каким-то деталям решили, что, наверное, принадлежим к дальним ветвям одного рода: евреи из Витебска в конце прошлого и начале этого века разбегались по всему миру. И мы стали в полушутку называть друг друга кузенами (в Америке даже и дальние братья – все кузены, только разной степени).
Другая моя новая знакомая была женщина за тридцать лет, с удивительно милой улыбкой – мягкой и приветливой. В первый раз она улыбнулась мне, когда мы столкнулись у входной стеклянной двери. И та улыбка запала мне в душу. Я потом искал её глазами и всегда видел на одном и том же месте. Она без труда слушала кассеты, прикрыв глаза ладонью с красивыми пальцами. Американка? Но для американки у неё была слишком мягкая манера поведения. И она всегда была изысканно одета, а американки все ходили в небрежно наброшенных лёгких спортивных нарядах. Я давно собирался заговорить с ней, но всё стеснялся своего плохого английского. А она каждый день улыбалась мне всё приветливей. Однажды я всё-таки подошёл и спросил:
– Извините, из какой вы страны?
– Из Италии. А вы – из России?
– Да, из Москвы. А вы?
– Из Венеции. Вы знаете Венецию?
– Кто же не знает Венецию!
И это положило начало дружбе. Она уже сдала первый экзамен и закончила резидентуру по психиатрии, а теперь готовилась для экзамена на право частной практики ФЛЕКС (Федеральный лицензионный экзамен). Был у неё муж-доктор и двое детей, звали её Виктория.
Теперь мы часто беседовали втроём, на английском, который ни для одного из нас не был родным языком: итальянка, уругваец и русский – все ставшие американцами. Как-то я сказал, что мне для занятий по генетике нужна была бы книга-атлас СИБА, большой и дорогой учебник, один экземпляр которого в центре всегда был занят.
С обычной своей улыбкой и с дружеской готовностью она сказала:
– Я вам принесу, у меня есть. Можете читать сколько вам нужно.
Мне это казалось королевским жестом – доверить такую прекрасную и дорогую книгу.
Учебники в Америке стоят дорого: цена такой книги могла быть около $100–150. Я принёс тот шикарно изданный тяжёлый том домой и стал по ночам медленно вчитываться в текст и всматриваться в прекрасные иллюстрации доктора-художника Фрэнка Нэтгера, они во многом помогали мне понимать то, что я читал с трудом.
Медленное чтение занимало время, я стал вставать в 4 часа ночи (в Америке говорят – в 4 часа утра). Это давало мне 2–3 часа дополнительного времени занятий. Для всякого большого дела нужна самодисциплина, и вот я на долгие годы приучил себя просыпаться так рано, чтобы постепенно вникать в глубины знаний, которые пропустил по возрасту и времени.
Впервые в жизни я читал медицинский учебник с удовольствием. Трудно даже представить, какая большая разница была между американскими и советскими учебниками во всём: в глубине материала, в чёткости его изложения и в свободной и легко усвояемой манере его преподавания. Советские учебники все страдали перегруженностью марксистской идеологией, поверхностностью и скукотой изложения. И неудивительно: писать учебники там доверялось лишь тем, кто занимал высокие посты, а это были в основном коммунисты-карьеристы. Я терпеть не мог советские учебники, но с первой же страницы (как с первого взгляда!) мне понравились учебники американские. А та первая книга ещё помогла мне по-настоящему оценить значение медицинских иллюстраций: ничего нет лучше для усвоения трудно понимаемого материала, чем чёткие рисунки.
Тогда я ещё не представлял себе, что настанет день, когда будет издан мой учебник с моими иллюстрациями и коллеги станут называть меня вторым Фрэнком Нэтгером, и книга моя тоже будет стоить $150…
Однажды Хаим принёс в центр журнал с моим интервью. Я ешё не знал, что оно опубликовано. Мы стояли в коридоре втроём, когда он достал его из портфеля:
– Поздравляю! Прекрасное интервью. Здесь так много написано интересного про тебя, и фотографии твои из России прекрасные. Ты у нас теперь знаменитость!
Я с волнением взял журнал в руки: на обложке была моя большая фотография и анонс текста. Не успел я ешё открыть страницы, как Виктория ловко выхватила его и убежала с ним на своё место – читать. Издали я видел, как её длинные волосы свесились над моим портретом. Читала она долго, потом подошла ко мне. У меня были надеты наушники, и она положила мне руку на плечо – нежное прикосновение! Я снял наушники, и она шепнула:
– А я и не знала, что вы такой интересный человек: и профессор, и писатель, и изобретатель. Вы действительно необыкновенный человек.
– Ну, что вы! Самый обыкновенный…
Но что может быть приятней и волновать больше, чем похвала красивой женщины!
Дома Ирина и Младший стали возбуждённо читать интервью, я просил их переводить мне некоторые непонятные слова и выражения. Они перебивали друг друга, восклицали, смеялись, удивлялись – реакция радости и семейного единения. Потом мы пошли к родителям, и там Ирина читала и переводила им. Мама смотрела на меня с обожанием, а отец, всё ещё слабый после болезни, рассматривал фотографии со слезами на глазах.
Как и предсказывал журналист, скоро после опубликования мне стали звонить и писать письма люди со всех концов страны. Обнаружился в Алабаме мой бывший студент, который уже обогнал меня – сдал экзамен и был в резидентуре. Нашёлся мой старый приятель и коллега Валентин, который уехал раньше. Он почему-то экзамен не сдавал, работал хирургическим ассистентом (технический помощник на операциях) в Техасе. Доктор из Лас-Вегаса приглашал приехать погостить у него. Доктор из Калифорнии хотел обсудить со мной вопросы лечения травмы у артистов балета. Женщина-доктор на пенсии из Манхэттена предлагала заниматься с ней разговорным английским.
Один телефонный звонок был особенно важным для меня: доктор Павел Лапидус из ортопедического госпиталя для заболеваний суставов (Hospital for Joint Diseases) в Гарлеме предлагал мне приехать для переговоров о возможной работе. Мы с Ириной взволновались: на этот раз не я просил о работе, а меня приглашали для переговоров. Я ничего не знал ни о докторе Лапидусе, ни о том госпитале. Расположение госпиталя в Гарлеме меня не настораживало – я бы пошёл работать к чёрту на кулички.
Лапидус прислал мне приглашение прийти гостем на научную конференцию. Госпиталь был старый, и мой доктор тоже был старик, за восемьдесят, но подвижный человек. В руках он держал несколько журналов с моим интервью. Я стал его благодарить:
– Спасибо вам за приглашение и внимание.
– А?.. Что вы сказали?..
Он почти ничего не слышал, поэтому я больше молчал, а он с удовольствием старого человека, словившего нового слушателя, говорил и говорил – громко, как почти все глухие. С первого момента он процитировал мне строки из «Онегина», очевидно, демонстрируя свою память. Я удивился, и он рассказал, что сам сбежал из России сразу после революции в октябре 1917 года. Был он тогда одним из первых военных лётчиков царской армии, в чине поручика. Чтобы скрыться от красных, он на своём самолёте перелетел в Румынию. После долгих странствований попал он в Америку и в 1920-е годы стал первым доктором-резидентом этого госпиталя, а потом руководителем отдела хирургии стопы.
– Меня в Америке называют «отцом хирургии стопы», – с гордостью говорил он, – меня все знают и уважают.
Он скупил и раздавал экземпляры журнала другим докторам:
– Я хочу сделать вас популярным среди коллег, вы этого заслуживаете. Вот увидите, кто-нибудь из них обязательно предложит вам работу. Меня здесь все ценят и уважают, если я попрошу – так и сделают.
– Спасибо, я очень надеюсь, – кричал я ему в ухо. А так как он всё равно мог не расслышать, я старался изобразить благодарность мимикой.
Лапидус привёл меня в кабинет директора департамента ортопедии доктора Робертса. На его столе тоже лежал журнал с интервью. Директор улыбался мне, но когда Лапидус сказал про работу, крикнул ему в ухо:
– Пусть он сдаст экзамен, тогда посмотрим.
Возможно, в качестве утешения он добавил мне:
– Приходите с женой на вечерний коктейль в отеле «Хилтон».
Мой покровитель повёл меня к бывшему директору доктору Милгарму и целый час водил от одного влиятельного доктора к другому. В госпитале шла суета научной сессии, съехалось много народа из разных стран, британский профессор Фриман сделал интересный доклад о своём новом методе, все были заняты обсуждением, своими докладами и встречами в кулуарах. Я это понимал и чувствовал себя как бы бедным родственником. Лапидуса встречали с уважением, он раздавал журналы, представлял меня и заговаривал о работе. На это все отвечали примерно так:
– Хэлло, добро пожаловать в Америку. Я читал ваше интервью – очень интересно. Ах, вы хотите найти работу? Позвоните на следующей неделе моему секретарю…
В очередной попытке Лапидус подвёл меня к немолодому доктору с седыми усами прусского типа – торчком вверх. По пути он сказал мне:
– Это доктор Розен, очень влиятельный и добрый человек. – И обратился к нему: – Это русский доктор, интервью которого было напечатано…
Неожиданно усы доктора Розена пришли в ещё большее возбуждение, а их хозяин – в шумный восторг:
– Это вы? Да, да, я читал. Очень интересно, очень интересно! Меня и мою жену глубоко интересуют судьбы еврейских беженцев. Ведь когда-то наши родители тоже бежали из России в Америку из-за антисемитизма. Скажите, неужели антисемитизм в России всё ещё не убывает?
– Ему нужно помочь устроиться на работу. Ты можешь это сделать? – кричал Лапидус
– Работу? – конечно! Что за вопрос? Вот вам моя карточка, позвоните и приходите на той неделе, мы поговорим обо всём. Мне очень хочется поговорить с вами.
– Ты ему помоги найти работу, – кричал Лапидус.
– Конечно же! Обязательно позвоните, мы поговорим обо всём.
Я даже не знал, что сказать – так был обрадован и благодарен им обоим!
Банкет в «Хилтоне» завершал тот насыщенный день. Для нас с Ириной приём в одном из самых шикарных отелей был большой новостью. Собралось несколько сотен докторов, все одеты в смокинги, с жёнами в вечерних платьях. Коктейль-парти предшествовал обеду, все стояли и расхаживали по громадному залу, на столах по стенам были разложены изысканные закуски: сёмга, лососина, осетрина, чёрная и красная икра, разнообразные горячие закуски и красиво нарезанные овоши и фрукты. В нескольких местах бармены разливали напитки – кто что хотел и кто сколько хотел. Было довольно тесно и шумно: беседовали компаниями, перекидывались приветствиями, радовались встречам, ходили со скучающими лицами и все держали в руках бокалы и стаканы с напитками и тарелки с закусками. Такой вкусной еды мы не пробовали давно, но стеснялись и брали немного. По старой русской традиции я высматривал – есть ли пьяные? Не было ни одного.
Лапидуса не было видно, но я всё-таки подвёл Ирину к директору Робертсу – поблагодарить за приглашение. Он разговаривал с британцем Фриманом, а неподалёку стоял и Розен. Мне бросились в глаза шикарно накрахмаленные пышные рюшки на их манишках (сам я был в обычном пиджаке). Я указал на него Ирине:
– Это доктор Розен, к которому я пойду на переговоры о работе.
– Для еврея у него усы слишком прусские, – заметила Ирина.
Оба они были заняты и лишь вежливо нам улыбнулись. Но неожиданно нам встретился доктор-поляк, который помогал мне переводом у Селина четыре месяца назад. При виде него во мне всколыхнулись горькие воспоминания.
– Чем закончились ваши переговоры с ним тогда? – спросил он.
– Ничем. Он просто обманул меня.
– Жалко. Но на него это похоже. Скажу вам между нами: он такое дерьмо! – и как человек, и как специалист тоже. По моему мнению, как ортопед он вам в подметки не годится. Ему не нужен никто сильнее его. Когда вы стали показывать модели ваших искусственных суставов, я сразу понял, что он не захочет вас взять.
Я удивился:
– Какой же я ему конкурент, если у меня нет с ним равного положения?
Поляк понизил голос:
– Знаете, если хотите найти работу, лучше не упоминайте, что вы были большой профессор. Американцы этого не любят, они считают себя выше всех.
Острая на язык Ирина не удержалась, чтобы не вставить своё:
– Вот и я считаю, что американцы невежественные и заносчивые, а этот Селин – ещё и беззастенчивый обманщик.
Я с беспокойством оглянулся – вдруг услышит кто-нибудь, кто знает русский? А поляк вежливо улыбнулся, непонятно было – не соглашался или соглашался.
После коктейля гостей попросили перейти в другой зал с накрытыми для обеда столами. Но мы были приглашены только на коктейль, места за столами были все резервированы.
Мы с Ириной уехали домой и в тот же вечер переделали моё рабочее резюме (список должностей и званий), которое я заготовил для показа при приёме на работу. Мы сократили его наполовину, убрав оттуда мои учёные титулы, изобретения и число научных статей. Получилось вполне лысое резюме, без творческих выступов и научных локонов – ординарный доктор. Я отпечатал его на машинке, чтобы разослать докторам, с которыми меня познакомил добрый старик Лапидус.
На второй день конференции я опять отправился туда же и узнал, что этот госпиталь скоро должен переезжать в новый, специально построенный в центре города дом, и всех участников пригласили ехать на автобусах на стройку. Американцы называют центр города – даунтаун, нижний город. Дело в том, что длинный остров Манхэттен, где развивался первый большой город Америки Нью-Йорк, стоит на карте вертикально, и его административный и финансовый центры находятся в нижней части города. Ехать в даунтаун пригласили и меня, и я забился на заднее сиденье автобуса.
Стройка нового госпиталя подходила к концу, снаружи здание выглядело солидной шестнадцатиэтажной вертикальной башней: множество стекла, облицованного серым гранитом. Но внутренние работы ещё не были завершены, лифта не было, и мы пешком поднимались на этажи. По дороге директор Робертс и строители рассказывали, где что будет расположено. На тринадцатом этаже будет госпитальное кафе для сотрудников, и нам приготовили там лёгкий ланч: кофе, сандвичи, печенье. Из окна сверху я видел узкую улицу внизу и спросил:
– Какая это улица?
Оказалось, что это была та самая 17-я улица, по которой мы с Ириной гуляли в наш самый первый день в Нью-Йорке. Я стоял у окна и думал: как интересно получается – значит, именно эту стройку я наблюдал тогда издали, не предполагая, что это будет госпиталь и я потом приду сюда…
Да, мы многое не можем предугадать в нашем будущем. Если бы я тогда же догадался подняться всего ещё на один пролёт лестницы, на 14-й этаж, то я увидел бы помещение, где будет мой кабинет, а перед ним комната моего секретаря…
И если бы я мог мысленным взором заглянуть в будущее, то через пятнадцать лет увидел бы себя в смокинге, сидящим на очередном банкете за одним столом с докторами Робертсом и Розеном, как равный с равными…
Ни о чём таком я не думал. Но я жил в твёрдой уверенности, что моя судьба – добиться успеха.
Моя тётка Люба передала нам с родителями приглашение Джака Чёрчина на бар митцва его внука. Бар мит-цва – это традиционное еврейское празднование дня рождения мальчика, когда ему исполняется тринадцать лет. По-старому считалось, что в этот день он становится взрослым, поэтому в синагоге ему дают читать вслух очередные молитвы дня из Торы – книги еврейских законов.
Люба объяснила, что после этого все семьи устраивают празднование, а уж Джак постарается устроить настоящий шикарный приём.
Об этой традиции мы знали понаслышке, никогда ни на одном таком семейном празднике не были. Джак считал нас своими родственниками, мы оба с ним были Любиными племянниками с двух сторон. Празднование должно было происходить в синагоге маленького городка Смиттаун, в пригороде Нью-Йорка. Заботливый Джак взялся нас туда привезти на машине, снял для нас комнаты в местной гостинице и обязался через день отвезти обратно. Конечно, мы были рады поехать, познакомиться со всей его семьёй, а заодно и поглазеть на невиданное зрелище.
Джак приехал за нами на новой машине «Форд-Кэмнер» – грузовик с элегантным кузовом, приспособленным для путешествий, как комната: стол, четыре постели, маленькая кухня с полками, холодильник и туалет с душем. Всё это мы видели в первый раз, и нам было интересно. Даже мой слабый отец оживился от новых впечатлений. Нас привезли в гостиницу с большими комнатами. Всё в них было устроено с удобным стандартом. Когда-то мой приятель с радиостанции «Свобода» Мусин рассказывал мне о стандартах американских гостиниц. Я нашёл их очень рациональными.
Семья Джака приехала знакомиться с нами: жена Дороти, три замужние дочери и женатый сын. Старшая дочь Синди, сорокалетняя толстая дама, была замужем за пуэрториканцем Ральфом Ромеро. Это их сыну исполнялось тринадцать и звали его Карлос Ромеро – странное имя для еврейского мальчишки. От Любы мы узнали, что в угоду богатой семье жены бедный зять принял иудейскую религию. Я подумал, что Берл в таком случае сказал бы: «А, ничего, это Америка».
На следующее утро нас повезли в синагогу – просторное здание модерного стиля с одной сплошной стеклянной стеной. Она была реформистская, мужчинам и женщинам разрешалось быть вместе, поэтому моя Ирина не очень ворчала на религиозные правила. Богатый и щедрый Джак жертовал на эту синагогу много денег и был почетным членом кошрегации. Поэтому весь праздник был оркестрован ему в угоду и по его желанию. На стоянку перед синагогой то и дело подъезжали шикарные машины: «Кадиллаки», «Линкольны», «Ягуары», «Мерседесы», даже «Роллс-Ройсы». Собралось сотни три хорошо одетых людей – всё больше состоятельные друзья и партнёры Джака – с семьями, включая детей. Мужчинам раздали шапочки-ермолки, женщинам раздавали цветы, настроение было праздничное.
После долгого ожидания наступила сама процедура: Карлос бойко читал на иврите текст Торы, его поздравляли, родителей поздравляли, пуэрториканских его родственников (которые не понимали по-английски) поздравляли и, конечно, особенно поздравляли сияющего дедушку. Внушительного размера ребе произносил длинную речь, из которой мы узнали, что сам бар митцве бой (мальчик) хотел в будущем тоже стать ребе. Речь он закончил так:
«И если ты действительно станешь ребе, то ты будешь единственный в мире ребе с именем Карлос Ромеро».
Все громко засмеялись и обрадовались, что процедура закончена. В холле синагоги были накрыты длинные столы со множеством разнообразной прекрасной еды – кошерной и некошерной. Это был приём сразу после обряда, так сказать – закуска перед основным пиром. А вечером все были приглашены в смокингах и вечерних платьях в большой местный ресторан: там-то и была основная феерия праздника.
В ресторане гремел оркестр, повсюду были развешаны гирлянды цветов и трепетали разноцветные ленты, прибывающая толпа подогревалась коктейлями с закусками для предстоящего ликования. Когда наступило время, открыли широкие двери и все повалили в громадный зал с накрытыми столами. Каждый круглый стол на десять человек. Нас как родственников посадили неподалёку от главного стола, где будут сам бар митцве бой с родителями и дедушкой-бабушкой. Но пока их стол пустовал. И вот при торжественном объявлении по громкому микрофону и под звуки бравурной музыки, по-цирковому – по очереди и с интервалами, под аплодисменты и выкрики всего зала стали появляться: тёти и дяди именинника, бабушка-пуэрториканка с родными, сам дедушка Джак с женой, потом родители Карлоса и, наконец, под бой барабанов и завывание труб – он сам въехал в зал на подаренном мотороллере. Все взвыли в восторге. Разыграно это торжество было красиво и точно. Весь вечер гремел оркестр, все танцевали, и мы с Ириной. Она прекрасный танцор, а я – весьма средний, но мы всегда любили танцевать. А уже давно не приходилось.
Так мы получали массу удовольствия, подсмотрев, как веселится богатая Америка.
На разосланные мной лысые резюме ни один доктор, к которым меня подводил старик Лапидус, не ответил. Я звонил секретарям, они обещали напомнить, но ничего не произошло. Оставалась одна надежда – на доктора Розена, который, казалось мне, явно сочувствовал моему положению. Но он часто бывал в отъезде, за границей. Наконец, в назначенное секретарём время я поехал к Розену в большой госпиталь Бэт Израэль, в даунтауне, для переговоров о работе. В портфеле у меня было то же резюме, но для Розена я всё-таки захватил с собой свои изобретения – искусственные суставы. В душе я рассчитывал на полное его понимание, на беседу профессора с профессором.