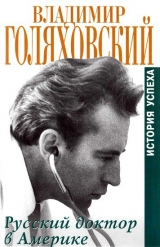
Текст книги "Русский доктор в Америке. История успеха"
Автор книги: Владимир Голяховский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Он прикрыл дверь и стал рассказывать:
– Понимаешь, старик, я проработал у них там (он делал ударение на слове «у них») на фирме две недели и решил вернуться сюда. Здесь работы немного, всё привычное, ну просто как в типичном советском учреждении. Атам они все работают, как сумасшедшие. Начинали мы в 7:30 утра и вкалывали, не разгибаясь, до 8 вечера. Правда, за всё сверхурочное время платили в полтора раза, так что заработок был хороший. Но слишком уж много у них надо работать. А я, по старой привычке, больше всего люблю свою личную свободу. Здесь я могу выйти на улицу, когда захочу, пройтись, освежиться, отдохнуть, выпить кофе или в книжном магазине полистать новые книги. А у них там об этом и подумать некогда. Нет, американцы жить не умеют, они умеют только работать. Вот европейцы работают, чтобы жить, а американцы живут, чтобы работать. Мозги, что ли, у них свихнуты?
У меня не было мнения – свихнуты ли у американцев мозги, я ещё не работал в Америке ни одного дня. Странно было, что после трёх лет жизни здесь он, знающий язык, всё ещё так подчёркнуто отделял себя от американцев, или американцев от себя. И его рассуждения были мне странны: мне представлялось, что зарабатывать больше – это хорошо. Как русский хирург я всю жизнь работал очень много, а платили там докторам мало. По мне, логичней было больше работать – и больше получать.
Мусин спросил:
– Ну, ты уже подписал контракт на книгу, получил аванс, сколько?
Я рассказал ему свою ситуацию.
– Ну, не горюй, старик, – сказал он, чтобы что-то сказать.
– Спасибо и на том, что выслушал, бывает хорошо облегчить душу.
Красавица Таня сидела в студии, нервно курила, и была рассеянна. Я невольно опять засмотрелся на неё: до чего же хороша! Но я должен был сказать ей, что чек её оказался неплатёжеспособным. Неприятно об этом говорить, но хотелось получить свои деньги обратно.
– Таня, мне не оплатили ваш чек на $50, – начал я и не успел докончить, как она вскочила в возбуждении, с покрасневшим лицом:
– Ах, доктор, миленький, извините… я не знала… это мой муж – он перевёл все деньги на своё имя, не сказав мне, – засуетилась. – Извините, извините, пожалуйста, как нехорошо получилось-то…
– Вы не волнуйтесь, ничего страшного не произошло.
– Всё равно, мне стыдно. Это всё муж. Он у меня все деньги отобрал… Но я вам отдам, я обязательно отдам. Когда вам нужно?
– Я предпочёл бы сейчас.
– Сейчас? К сожалению, у меня нет с собой… вы уж извините. Посидите, я пойду займу у кого-нибудь.
Она схватила сумочку и выскочила в страшном возбуждении. Я ждал и ждал, но она надолго пропала. В студию заглянул Мусин:
– Ты всё ещё сидишь?
– Жду Таню. Куда она делась?
– Я видел, как она уходила.
– Что значит уходила – до конца дня?
– Может быть. Она тебя записала?
– Нет, иначе я бы туг не сидел.
Позвали другого оператора, Танину подругу, и она записала мою передачу. А Таню я в тот раз так и не дождался.
Некторое время спустя она всё же вернула мне деньги.
– Доктор, вы уж не сердитесь на меня, – с жалкой улыбкой, губы её дрожали, и она добавила тихо: – У меня с мужем нелады. Ах, если бы вы могли понять!..
Это я как раз понять мог. И даже сам мог рассказать ей свои «нелады». А она продолжала:
– Я вам только как доктору скажу: он уже давно импотент, мой муж. Он уже ничего… не может. Ну и чтобы я ничего… не хотела… он приучил меня к наркотикам и водке. Чтобы я до забытья травилась. Сначала я отказывалась, а теперь уже не могу без них. А недавно его бизнес пошёл хуже. Вы знаете, чем он занимается?
– Он у вас писатель, кажется.
– Какой там писатель! – он играет в карты в аэропортах. Выискивает проезжающих людей с деньгами и обыгрывает их. А деньги он с какой-то мафией делит. Вы видели его синий «Кадиллак»? Он его использует как такси: берёт пассажиров и возит их за деньги. Но только он не каждого возьмёт. У них там целая организация. Они и наркотики покупают, прямо там же, у тех, кто привозит из Южной Америки. Ну вот, а недавно он потерял много денег, ему нечем расплачиваться с компаньонами. Вот он и решил заняться новым бизнесом: поставлять клиентам проституток. И он всё чаще стал брать меня с собой в аэропорты… а с недавнего времени перестал говорить своим клиентам, что я… его жена (она стала всхлипывать).
Мне уже неловко становилось слушать её, но и прерывать излияния души было тоже неловко. Таня запнулась, а потом закончила:
– Знаете, он хочет сделать из меня проститутку… и зарабатывать деньги на мне… Я так боюсь, я так боюсь его…
Чёрт подери, лучше бы я прервал её и ушёл, не дослушав. Она смотрела сквозь слёзы:
– Доктор, только вы не говорите никому, пожалуйста, я вас умоляю. Я буду о’кей, я всё улажу. Я решила уйти от него… скоро…
Я совершенно растерялся: как реагировать на этот рассказ-вопль. То, что её поведение становилось всё более странным, замечали все. И Мусин говорил об этом. Но такого поворота я не ожидал. Не приходилось мне ещё сталкиваться с подводными течениями преступного мира, тем более в Америке. Зачем она мне это рассказывала? У неё были друзья, наверное, они как-то смогут помочь ей…
По моим делам даже и размышлять обо всём этом мне было некогда: подходил день экзамена.
Много я в жизни сдавал экзаменов, сидя за столом напротив экзаменатора. Потом я пересел на другую сторону стола и много экзаменов принимал у студентов. Все они были устные, и оценка за них варьировалась не только от содержания ответа, но и от впечатления экзаменатора. Про предстоящий объективный письменный экзамен я слышал от многих уже целый год. Я приготовил себя к тому, что с первого раза его не сдам. Но во мне жило любопытство испытать всё самому – для тренировки к следующему разу.
Экзамен проводился в громадном бальном зале старого отеля «Стетлер-Хилтон».
Регистрация начиналась в 8 утра, но ещё за полчаса до этого я застал в вестибюле зала густую толпу молодых докторов, которая всё увеличивалась: собралось 1300 человек. Бросалось в глаза, что чуть не половина были из Индии и Пакистана – смуглые лица индийского типа доминировали, многие в чалмах и магометанских шапках, женщины завёрнуты в сари. Часто виделись и широкие и узкоглазые лица с Востока: филиппинцы, таиландцы, китайцы, индонезийцы. Попадались чёрные лица из Латинской Америки и с Карибских островов: пуэрториканцы, панамцы, доминиканцы, гаитяне, жители Ямайки. Несколько меньше приземистых смуглых людей с короткими шеями – мексиканцы, перуанцы. Белые европейские лица были в толпе в меньшинстве: из России, Польши, Чехословакии, Румынии, Греции. Немало было и американцев, закончивших медицинские институты в Мексике, Италии, Испании, на Филиппинах, – где образование стоило намного дешевле. И все, все почти – в возрасте около тридцати лет или меньше, ещё не работавшие. Женщин среди молодых было немного. Людей после сорока лет было мало: в основном из России и других восточноевропейских стран. Среди них почти половина были женщины. Моего возраста – около пятидесяти лет – были единицы. В той молодой толпе я был наверняка один из старейших.
Во всём этом я разобрался, прислушиваясь к разговорам и присматриваясь к окружающим. Национальные группы держались вместе и были легко различимы: на врачебный экзамен собрались люди из экономически слаборазвитых стран мира, их согнала в Америку бедность и неустроенность дома.
И мы, беженцы из Советского Союза, тоже были в этой пёстрой толпе выражением неустроенности в нашей бывшей «великой державе». Мне подумалось: как же неблагополучно положение моих коллег более чем в половине мира! Число сдавших экзамен производило впечатление настоящего нашествия: толпа докторов кинулась в богатую Америку заполнять бреши её медицины. И ведь такие же толпы в этот же самый день собрались для этого экзамена и в других крупных городах США. А экзамен повторялся каждые полгода.
Экзамен стоил $350, оплаченных заранее, и мы регистрировались по списку. Регистраторы строго сверяли фотографии и подписи с расписками при заявке (бывали случаи сдачи экзамена подставными лицами). Контроль был отработан чётко.
Глядя на разноплемённую толпу моих коллег, я думал: почему Америка с её богатством и высокой культурой профессионального образования не может сама обеспечить себя своими докторами? Много времени спустя я понял: по-настоящему передо мной тогда была иллюстрация силы культуры Америки – страна иммигрантов, она способна принять в себя толпы иностранных специалистов, в том числе и докторов, без опасения ослабить уровень своей техники, науки, медицины.
Между тем толпа возбуждённо гудела, переговаривалась на всех языках. Русские иммигранты сгрудились группами. Их можно было определить сразу: старше всех других и много женщин. Была там и доктор Тася, с сигаретой в зубах. Она нервничала и всем и каждому повторяла:
– Ой, кисанька-лапушка, я не сдам, не сдам, чего учила – не помню, ничего не знаю!..
Около неё с застывшим от страха выражением лица женщина-психиатр из Львова. Увидел я и того, кого подозревал в ночном звонке с угрозами расправиться со мной – доктора-коммуниста. Прислушавшись к его типичному хриплому голосу, я убедился, что это был он. Я подумал: «Вот приобретение для американской медицины!» – и отошёл.
Среди нас были ветераны сдачи: сдавали экзамен уже четвёртый-пятый раз и чувствовали себя здесь вполне привычно. Я прислушивался к разговорам. Некоторые тонко продумывали систему списывания и взаимной информации, об этом шло много разговоров:
– Слушай, если правильный ответ «А», ты показывай один палец; если «В» – два пальца, если «С» – три пальца, если «D» – четыре, если «Е» – пять. И держи пальцы на колене с моей стороны, чтобы проктор (наблюдающий служащий) не заметил. И я тебе по такому шифру. Ясно?
Были семейные пары, у мужа с женой тонко разработано, как списывать. Кто-то с завистью говорил, что индусы и филиппинцы заранее узнали вопросы по телефону из их стран (там этот же экзамен сдавался раньше по поясу времени).
– Моя сестра будет целый день сидеть возле женской уборной, а у неё в сумке будет лежать учебник. Как только я пойду в уборную, она за мной, не показывая вида, что мы знакомы. Я в туалете смогу быстро заглянуть в учебник.
– А я буду списывать у индуса, у которого соседний со мной номер. Я его спросил, он согласился, говорит, ему всё равно.
– Да, это индус, а вот американцы, так, наоборот, прикрывают свои ответы локтем. Жалко им, что ли? Мозги у них какие-то перевёрнутые, – вставила психиатр.
Мне, бывшему профессору, было неловко участвовать в этих разговорах, я держался в стороне.
Двери зала раскрылись, мы двинулись к своим индивидуальным столикам с номерами. Старший проктор по микрофону назидательным голосом сообщал правила проведения экзамена, мы нервно вслушивались. Прокторы в длинных проходах между столами раздали каждому запечатанный номерной буклет. На отдельном листе ответов мы написали своё имя, номер и дату рождения. В три приёма, по три часа, надо было отмечать карандашом правильный кружок ответа в выборе А, В, С, D, Е, соответственно номеру вопроса. Вопросы были разной длины: иногда одна строчка, иногда полстраницы, иногда на выбор четыре-пять кардиограмм или рентгенограмм, фотографий кожных болезней, длинные генетические таблицы. Всё прекрасно и чётко напечатано на меловой бумаге. Вопросов было более пятисот: на один ответ давалось менее минуты. Перед истечением времени каждой части звучали два сигнала, а с третьим, последним, буклеты строго отбирались – потянуть время нельзя было.
По команде мы разложили перед собой наточенные карандаши № 2, и строго в одно время нам приказано было распечатать буклеты и начинать отвечать. В зале с почти полутора тысячами человек наступила гробовая тишина – только шелест переворачиваемых страниц.
Первые же три вопроса оказались знакомыми – я их помнил из курса Каплана и быстро зачертил карандашом кружок правильного ответа. Это дало мне ощущение лёгкости. Зато потом около десяти вопросов подряд поставили меня в тупик: не только я не знал ответа, но даже не всегда понимал сам вопрос. Я потерял время, раздумывая. А думать было некогда, на размышлениях терялась необходимая скорость: знаешь, не знаешь ответ – отмечай. Но техника сдачи такого большого экзамена у меня отработана не была. Мозг лихорадочно работал: А или В, или С, или D?.. Я судорожно отметил какие-то кружки наугад. Для решений мозг едва поспевал за читающими глазами. В длинных вопросах я терял нить, приходилось возвращаться к началу, перечитывать. Через час такой гонки я обнаружил, что здорово отстал от соседей, потому что у них были открыты следующие страницы вопросов. Я занервничал: за остающиеся два часа надо было ответить на 140 вопросов. От напряжения голова моя начала гудеть. Не отрываясь от вопросов, я проглотил заготовленную обезболивающую таблетку Tylenol. Постепенно голова прошла, но от сидения в напряжённом положении заныли мышцы.
Мне тогда некогда было думать об этом, но позже я понял: уже сказывался возраст. У молодых, наверное, ни голова, ни мышцы не болели. Иногда краем глаза я видел, как сдавали экзамен мои соседи-американцы: они отмечали ответы с поразительной быстротой, буквально «щёлкали» вопросы. Индусы тоже шли вперёд довольно быстро. В результате некоторые стали вставать и сдавать свои буклеты ещё за час до срока. А у меня к перерыву остались непрочитанными 20 вопросов, и я судорожно ставил на все один ответ «С», помня, что лучше дать какой-то ответ, чем никакого. Какой-нибудь из этих «С» мог оказаться и правильным.
В перерыве толпа возбуждённых докторов гудела ещё больше, чем до начала: все лихорадочно спрашивали друг друга: какие ответы поставили на какие вопросы, спорили о правильности, перебивали друг друга. Наши русские засыпали вопросами американцев и индусов. Доктор Тася и женщина-психиатр расспрашивали ту, что ходила в уборную – подглядывать в учебник.
– Я два раза выходила и смогла подсмотреть кучу ответов, – хвасталась та.
– Кисанька-лапушка, скажи – какой ответ был правильный? – слышал я.
Прислушиваясь к разговором, я скоро обнаружил, что сделал несколько ошибок, особенно по теоретическим основам, – настроение сразу ухудшилось.
Но – снова за свой столик, снова отточенные карандаши, снова одновременно открываем буклеты. Ещё сотни вопросов, а я просто не понимал некоторые из них, потому что не успевал вчитываться. Опять терял время, опять глотал тайленол. Опять не успевал и снова ставил ответ «С» в последнюю минуту.
Во втором перерыве я снова услышал «кисанька-лапушка» и чей-то плач. Это Тася успокаивала рыдающую женщину, которая бегала в уборную подсматривать:
– … а на четвёртый раз за мной следом вошла в уборную какая-то… ой! откуда я знала, что она проктор?., а она следила… и как только я за учебник… она меня сразу накрыла… и повела к главному… сначала они хотели меня совсем снять с экзамена… ой! Потом разрешили мне сдавать… только предупредили, ой! что мой результат будет зачтён, если я сдам выше среднего на десять баллов… ой! – на десять баллов выше! Да я же никогда так не сдам… ой! Мама родная, что они со мной дела-а-а-а-а-ют-то?..
Психиаторша прокомментировала:
– Да они разве люди? – звери какие-то! Озверели с этим их экзаменом.
Тася была унылая:
– Ой, кисанька-лапушка, я столько наделала ошибок, столько ошибок! – ни за что мне не сдать!..
Я тоже обнаруживал, что сделал много ошибок. А ешё сколько я не знал!
После медицинской части был письменный экзамен по английскому языку на 45 минут. За это время надо было ответить на вопросы по грамматике, структуре предложения и показать понимание разговорного языка. Для этого на плёнке магнитофона был прочитан длинный рассказ, и надо было быстро отвечать на напечатанные вопросы по смыслу рассказа. Это требовало хорошего понимания и оказалось ещё трудней, чем экзамен по медицине.
Закончили мы в 8 часов вечера, я был абсолютно без сил. А молодые доктора с неизбывной энергией всё продолжали и продолжали обсуждать свои ответы.
Ирина ждала меня дома с подогретым обедом. Она сочувственно смотрела, как я вяло жевал, хотя не ел целый день. А я всё рассказывал ей свои впечатления от экзамена. Мне понравилось, как всё было продумано и организовано, никогда я не видел и не представлял себе такой глубокой проверки знаний по всем разделам медицины. Куда до этого устным российским экзаменам? – как моська по сравнению со слоном.
Результат должен прийти по почте через 6–8 недель, но мы с Ириной оба знали, какой он будет. За долгое время впервые ей было меня жалко. Уже засыпая, я сказал:
– Знаешь, для того, чтобы сдать этот экзамен с первого раза, мне надо было приехать в эту страну лет на двадцать раньше…
На следующее утро я уже снова сидел на своём месте в Каплановском центре. Чтобы облегчить запоминание отвлечённых истин теоретических основ медицины – механизмов работы клеточных элементов и тканевых процессов, – я решил делать для себя схематические рисунки. Зрительная память на изображения у меня была более развита, чем память словесная. А рисовать я всегда умел и любил, так что даже интересней будет заниматься.
Через день-два расслабленно начали появляться сдававшие экзамен, но не все: американцы и некоторые индусы больше не пришли, уверенные, что сдали. Зато наши русские явились в полном составе. Каплан разрешал продолжать учёбу до получения результата, к тому же никто не был уверен, что сдал. Все мы вспоминали вопросы, обсуждали ответы, спорили, какие правильны, сверялись с учебниками и собирали их вместе. Некоторые вопросы были из программы Каплана или очень похожи. Каждый помнил по три-пять-десять вопросов-ответов; собранные вместе, они давали цельное представление обо всём экзамене. Это могло помочь в подготовке к следующему.
Докторша-психиатр суетилась больше всех:
– Это издевательство – спрашивать такое, чего ни одному доктору в работе не нужно.
Тася опять плотно уселась в коридоре с сигаретой в зубах, называла всех «кисанькой-лапушкой», расспрашивала, где достать побольше «верных» вопросов-ответов для следующего экзамена. Она завела обмен этими вопросами и сумела и здесь плести интриги, так появились у неё и друзья, и недруги: вот натура! И повторяла:
– Ой, чувствую, что я опять не сдам… ой, опять не сдам.
– Да я его никогда не сдам! – вторила ей психиатр.
Некоторые из нас специально тренировали себя на скорость ответов, садились изолированно где-нибудь в угол на три часа и старались ответить на 180 любых незнакомых вопросов подряд, а потом проверяли себя. Я к этому ещё не был готов. Моё достижение было уже в том, что постепенно я всё ясней понимал лекции на плёнках и всё легче становилось мне читать главы американских учебников.
Есть поговорка: мы видим то, что знаем. Можно сказать: мы понимаем то, что знаем. До сих пор я с трудом прочёл лишь часть одного учебника СИБА, но когда мой английский улучшился и я стал понимать лекции и учебники, я вдруг обнаружил, как великолепно все они преподносили материал. Ничего похожего не было ни в аудиториях, ни в медицинских книгах в России. Теперь я по-настоящему был увлечён учёбой, за долгие-долгие годы мне впервые стало интересно учиться. Хорошо хотя бы в возрасте пятидесяти лет суметь прозреть ещё немного – всё-таки лучше поздно, чем никогда.
Второй раз в своей жизни я изучал медицину, и мне открывался мир знаний, которые я пропустил или забыл. Я слушал, читал, рисовал, запоминал и вникал в неизвестные мне ранее теоретические основы довольно глубоко. Теперь кое-кто из наших докторов иногда просил моих разъяснений и объяснений. И я читал им небольшие лекции по структуре ДНК и РНК, о которых ещё полгода назад не знал ничего, и иллюстрировал своими рисунками. Во мне просыпался дремавший уже более двух лет профессор.
Иногда по вечерам, после моих занятий, мы медленно прогуливались с Ириной вдоль Западного авеню Центрального парка (в темноте заходить в сам Парк было опасно), и я с энтузиазмом рассказывал ей о своих новых ощущениях и о предвкушениях сдачи экзамена – в конце концов. Вместе с интересом к занятиям во мне укреплялась уверенность в успехе. Я знал свой характер: я всегда добивался чего хотел, но для этого мне необходимо полностью погрузиться в это желание. Ирина слушала спокойно, хотя и грустно. В наших отношениях наступила новая фаза: теперь трудности нас не разъединяли, а наоборот – сближали. В этом и есть нормальная семейная жизнь.
А на Каплане появлялись новые русские доктора: шёл 1979 год, пик массового приезда беженцев в Америку. Советское правительство готовилось к проведению Олимпийских игр в Москве и несколько ослабило жёсткие правила эмиграции, через которые проходили мы. Новые беженцы приезжали в состоянии большей эйфории – выезд оттуда достался им легче. И вот недавно приехавшие врачи, осторожно оглядываясь, появлялись в Каплановском центре. Для них я был уже ветеран иммиграции, старожил в вопросах адаптации. Бывали среди них и старые знакомые. Они засыпали меня вопросами:
– Ты уже сдал их экзамен?
– Ты уже работаешь с ними?
– Зачли они тебе твои научные титулы и то, что ты заведовал кафедрой?
И на каждый вопрос я отвечал им – нет. Это их огорошивало, им ещё трудно было представить себе, какой сложный был процесс адаптации русских врачей в Америке.
Невропатолог Зиновий, старше меня, довольно самоуверенно говорил:
– Не понимаю: чтобы такой парень, как ты, за год здесь ничего не добился!.. Мне только бы показать кому-нибудь из влиятельных профессоров мои опубликованные статьи по теме докторской диссертации, и я уверен, что это произведёт впечатление. Они меня сразу возьмут профессором в любой университет.
Его жена, специалистка по истории крепостного театра в России XVIII века, добавляла:
– Мой муж такой специалист, такой специалист, что любой госпиталь сочтёт за честь принять его на работу. И я тоже не собираюсь унижать себя тем, чтобы хвататься за любой труд. А пока мы станем знакомиться с Нью-Йорком – здесь ведь так много музеев, выставок, театров. Не правда ли?
Оба не знали английский, а история русского крепостного театра в XVIII веке не была предметом широкого интереса в Америке. Как ветеран иммиграции я снисходительно выслушивал всплески их эйфории. После монотонно-унылой жизни в Советской России им представлялось, что здесь их ждут невероятные возможности свободного мира. Но они не знали и не ожидали, что за свободу им надо платить дорогой ценой. Пройдёт время, эйфория исчезнет, и наступит трезвая оценка сурового пути в новых условиях. Вот тогда-то и начнётся процесс понимания новой жизни. А внедрение в неё произойдёт только в процессе работы. Это я понимал по себе. И надо было знать американскую поговорку: «если дерево не гнётся – оно ломается». Судьба многих складывалась совсем не гак, как им сгоряча представлялось.
Наши русские дамы на Каплане звонили по телефону-автомату домой по нескольку раз: как их дети и внуки? нет ли каких новостей? Чемпионом звонков была, конечно, Тася, которая проводила за прослушиванием телефона больше времени, чем за прослушиванием плёнок с лекциями. Когда бы я ни выходил в коридор, всегда слышал:
– Кисанька-лапушка, ну как дела? Ничего? Ну, я позже ещё позвоню.
Некоторые звонили и в Россию, где оставались их близкие. Одна ленинградка, Ирина, мать двоих детей, каждую неделю звонила туда своей маме и уговаривала её приехать:
– Мамочка, ну как ты? Я скучаю, приезжай, мамочка!
Когда прошло шесть недель с экзамена, начали звонить в Филадельфию, в Центр по проведению экзамена, и пытались узнать – как скоро станут рассылать по почте результаты? А они всё задерживались. Но вот однажды психиаторша по телефону узнала, что её результат получен. Сразу помрачнев, бросила трубку:
– Чтоб он сдох, кто придумал этот экзамен!..
На Каплане начался невероятный ажиотаж: все звонили домой узнать результат. Большинство русских мгновенно расстраивались, большинство индусов начинали мгновенно ликовать. Медицинскую часть из наших удалось сдать нескольким, но сдать английский не удалось никому. Женщины, немного отойдя, носились по коридору вихрем:
– Сдал? Не сдал? Сколько получил?
Тася получила низкую оценку 65, а минимально необходимо было 75. Она нервно курила сигарету за сигаретой и повторяла:
– Ой, кисанька-лапушка, чувствую, мне не сдать этот экзамен, ни за что не осилить.
Такой же результат был и у той, что подглядывала в учебник в уборной. Она ревела белугой:
– Ой, что они со мной сдее-е-е-е-е-е-лали!..
Из наших отличились только двое: доцент-невропатолог из Харькова и молодая тихая докторша из Черновцов. Её и знал и-то мало, потому что она всегда тихо сидела и занималась в своём уголке, никуда не звонила, ни с кем не разговаривала. Теперь они оба были герои дня. Наши женщины окружили её, поздравляли, завидовали. Признаться, я тоже ей позавидовал. Но мне звонить было некому: Ирина на работе, сын в колледже. Я поспешил домой – проверить мой результат. Почти трясущимися руками (а на операциях они не тряслись) я раскрыл конверт и сразу увидел – 67 за медицину и провал по английскому. Так я и знал!
И хоть и знал, но остаток дня провёл в грустных размышлениях. Когда Ирина пришла с работы, мне не надо было говорить ей – результат был виден на мне. Она лишь мельком глянула на бумагу, и по привычке мы пошли гулять к Центральному парку. Я всё говорил и говорил. рассуждая – как и почему я сделал много ошибок, злился на себя, что менял ответы в моменты коротких размышлений: первое решение было правильным, а я начинал сомневаться – и делал ошибку за ошибкой. Вопросы часто ставились «с подковыркой», с «подводными рифами», и важно было сориентироваться и не споткнуться в принятии быстрого решения. В технологии сдачи такого трудного и длинного экзамена важно не только находить правильное решение, но и уметь им пользоваться: в большинстве случаев первое, непосредственное впечатление от вопроса подводит к правильному ответу. И на этом надо останавливаться.
Всё это были горькие уроки первого опыта. Я рассуждал, что и как я должен лучше подучить, чтобы не провалиться в следующий раз, Ирина сочувственно молчала. Она не корила меня, что я сам виноват, что не надо мне было делать того-то и того-то. Ей просто было меня жалко.
Когда на следующий день я явился на Каплана, многие кинулись ко мне с вопросом:
– Сдал? Что получил?
– Провалил. Шестьдесят семь.
Горько было это отвечать, и жгло внутреннее чувство стыда, что я – столичный профессор – не смог сдать, а молодая докторша из Черновцов, которая и работала-то всего три-четыре года, смогла. Можно было этому придумать много оправданий, но лучше я себя от этого не чувствовал.
Сколько мне ещё предстояло неудач и разочарований, я даже не предполагал.
Неожиданно умерла моя любимая тётка Люба, так много сделавшая для нас в Америке. Как горько, что я ничего не смог добиться ещё при её жизни! Она бы радовалась и гордилась, зная, что наша новая жизнь в Америке начала налаживаться.
Но Люба и после смерти опекала нас: она оставила небольшое наследство моей маме – десять тысяч долларов. Теперь мама была обеспечена надолго, при скромных её расходах – до конца дней. И это не только помогало ей самой, но и снимало с меня мысли о ее материальной поддержке.
Мы хоронили Любу вместе с кузеном Джаком, который взял все расходы на себя и безудержно плакал, пока ребе произносил речь над гробом. В Америке нет обычая устраивать поминки, и после кладбища все разъехались по своим домам.
Мы вернулись и прошлись с Ириной по парку, разговаривая о Любе. И как раз в тот день пришло письмо: журнал «Medical Economics – Медицинская экономика», один из солидных популярных ежемесячных изданий, принял к опубликованию в двух номерах подряд мою большую статью о социализированной медицине в Советском Союзе. Я получал гонорар $1000 и ещё премию $1000 за лучшую статью года. Эта статья могла стать важным подспорьем при предложении рукописи моей книги в любое издательство. Но я и о статье, и о книге уже и думать забыл.
А деньги нам были как раз нужны: живя на одну Иринину зарплату, мы на всём экономили. Хорошо, что продукты питания в Америке очень дешёвые – самые дешёвые в мире. На стол у нас уходила половина её заработка, на плату за квартиру и коммунальные услуги – другая половина. Вещей мы не покупали, донашивая привезенные; некоторые из наших туфель выглядели уже довольно плачевно. В общем, балансировали мы на грани возможного. А недавно выяснилось, что грант на Иринину научную работу скоро заканчивался, и ей нужно было искать новое место. Опять мы приуныли, я с некоторым трепетом ожидал, что Ирина будет теряться и нервничать. Но иммигрантский опыт закалил её: на этот раз она уже знала, как и что делать, и без паники и страха пошла в отдел кадров своего Колумбийского университета, и подала новое заявление на работу. Как у работника университета у неё было преимущество перед другими кандидатами. И вскоре появилось место старшего лаборанта в лаборатории электрофизиологии сердца при Департменте (кафедре) фармакологии. Через короткое время Ирину интервьюировал директор лаборатории д-р Майкл Розен, профессор Колумбийского университета.
Ещё не задавая вопросов, он стал рассказывать ей технику приложения электродов к живой ткани сердца животных в эксперименте, а потом спросил:

На выпускном банкете резидентов в 1985 году я показываю свой дружеский шарж на резидента д-ра Вильямса с Ямайки, которого мы прозвали Жирафом (он стоит рядом). Из моих шаржей составлена целая галерея, которая существует вот уже скоро 20 лет.

Я с сыном около медицинского института в городе Сиракьюз, в штате Нью-Йорк, 1982.

Ирина с д-ром Уолтером Бессером из Панамы (слева) – моим лучшим другом в Америке, который рекомендовал меня в резидентуру, и д-ром Рамиро Рекена из Боливии, который принял меня туда, несмотря на мои 52 года.

На конгрессе хирургов в Чикаго в 1986 году с д-ром Робертом Лернером, моим начальником и сверстником. Мы с ним подружились, он помог мне вынести трудности резидентуры.

В Бостоне в 1986 году на конференции читателей я подписываю свою недавно вышедшую книгу «Цена свободы

В 1988 году мы встретились с академиком Илизаровым в Нью-Йорке. К тому времени я первый а Америке стал делать операции по его методу.


Первый раз я оперировал вместе с Илизаровым в Москве в 1958 году. Эту операцию мы делаем вместе в госпитале в Нью-Йорке в 1991 году (он справа). Это была его последняя операция.
– Что вы знаете об электродах и проводимости сердечной мышцы?
Предполагалось, что поступающий на работу должен уверить нанимателя в своей компетентности. Ирина ответила:








