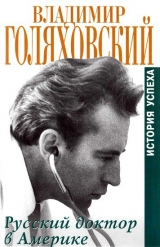
Текст книги "Русский доктор в Америке. История успеха"
Автор книги: Владимир Голяховский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
Только тогда я сообразил, что он предлагал марихуану для курения – smoke. Я всмотрелся в его компанию: подозрительно неопрятные, они были совсем не похожи на завсегдатаев читальных залов. На всякий случай, я побыстрей убрался подальше.
Придя на радиостанцию, я, смеясь, рассказал Тане:
– Представляете, оказывается, около библиотеки идёт бойкая торговля наркотиками. А я-то принял торговцев за посетителей библиотеки.
Она опустила пушистые ресницы:
– Да, я знаю. Я сама там покупаю.
– Вы?!
– А что вы удивляетесь? В Нью-Йорке чуть ли не все курят марихуану. А я здесь уже шесть лет. Да, можете меня поздравить – вчера я стала американской гражданкой.
– О, поздравляю!
– Спасибо, мы решили немного отпраздновать это здесь. Приглашаю вас остаться с нами.
Получить гражданство США казалось мне чуть ли не пределом мечтаний. Это означало, что ты уже гтрожил здесь не менее пяти лет. А для нас, в нашей теперешней ситуации, продержаться такой срок было нелегко. Что-то с нами со всеми будет через пять лет?..
Пока Таня с несколькими женщинами готовила стол для праздника, я, как всегда, разговорился с Мишей Мусиным. Он казался мне большим авторитетом: жил здесь уже три года, знал английский, они с женой оба работали и прилично зарабатывали, дочка училась в колледже – чего ещё можно желать? Но в голове у него всегда роились странные мысли и планы. И на этот раз он размечтался:
– Вообще-то я хотел бы жить в Европе. Знаешь, старик, там всё так приятно и близко. Сел в субботу на машину, отъехал пару сотен километров от дома – вот тебе уже и другая страна, другие люди, другая культура. Не то, что здесь: один и тот же стандарт во всех штатах, во всех мотелях, во всех ресторанах. Можешь зайти в любой американский мотель и с закрытыми глазами, на ощупь, всегда найдёшь выключатель, лампу и кровать – всё на тех же самых местах, что и во всех других мотелях всех других штатов. Это скучно, и жить от этого здесь скучно.
Я слушал с удивлением. Америка, казалось мне, должна быть очень многообразна и совсем нескучна. Но я-то ещё нигде не был. А он продолжал разглагольствовать:
– Я вот думаю: не бросить ли мне эту радиостанцию к чёрту и не стать ли оптиметристом? Работа не тяжёлая: проверяй зрение, примеряй очки, да и только. А зарабатывают они здорово. Открою офис где-нибудь на хорошей улице. Красота!
– А ты умеешь это делать? У тебя есть образование?
– В том-то и дело, что нет. Вот если бы как-нибудь раздобыть лицензию… А то вот, знаешь, давай вместе писать книгу.
– Какую?
– Да вот хоть про медицину в России. Ты знаешь материал, а у меня есть опыт в журналистике. Я по образованию химик, но пятнадцать лет работал журналистом.
Я признался:
– По правде говоря, я всё время думаю о книге. Но надо, чтобы она заинтересовала американских читателей. А для этого надо написать хорошую книгу.
– Необязательно хорошую. Можно написать любое дерьмо, и американцы его проглотят.
Я удивлённо на него посмотрел, а его понесло дальше:
– Ты ещё новичок здесь, и к тому же не знаешь английский. А я живу тут три года и много читаю. Ты даже себе не представляешь, сколько здесь издаётся самых разных книг – сотни тысяч названий каждый год. Зайди в любой книжный магазин и там найдёшь десятки разных книг по любому вопросу. Ты думаешь, все они хорошие?
– Но ведь кто-то же читает эти книги, – возразил я неуверенно.
– Конечно, читают. Вот в том-то и дело, что всё читают. Вон Танин муж, который никогда не был писателем в России, здесь написал какое-то говно про половые связи и извращения знаменитых советских актёров и спортсменов. Издали! И он даже хорошо заработал на этом. А ведь, на самом деле, казалось бы – кому здесь это нужно? Да в Америке все эти извращения известны лучше, чем в Москве! – а вот издали.
– Может быть, насчёт извращений ты и прав. Но я не стану писать заведомо плохую книгу. У меня может не получиться хорошая, но не потому, что я этого не хочу.
– Не это главное, – перебил он. – Главное – получить деньги вперёд, аванс на книгу. А потом можно вообще не писать – деньги всё равно обратно не просят. А если и попросят, всегда можно отговориться, что, мол, продолжаем писать.
– Ну, знаешь ли, – расхохотался я, – ты меня совсем огорошил. Так что же: писать или не писать?
– Давай попробуем. Надо собрать кое-какие статистические данные по здравоохранению в Союзе и представить их в настоящем виде. Американцы любят читать всякие рассуждения, подкреплённые статистикой. Особенно, если дать таблицы и схемы.
– Хорошо, я подберу необходимые цифры и подумаю, какие схемы и таблицы составить. А что такое «литературный агент»? Для чего он нужен, где его искать и что вообще он делает?
– Агент нам не нужен, – убеждённо сказал он, – агент обычно берёт десять – пятнадцать процентов от гонорара автора и ничего не делает.
– Да?..
В это время разгорячённая Таня позвала нас в другую комнату, где на столе стояла большая бутыль водки и закуска по русскому обычаю: винегрет из овощей, нарезанная селёдка, чёрный хлеб. Как видно, во все годы в Америке эти люди придерживались традиций русского стола.
Первый тост выпили за новую гражданку Америки. Все потянулись чокаться пластмассовыми стаканами, выпили залпом и стали передавать друг другу закуски. Прожевав, шумно заговорили и принялись выкрикивать ей свои пожелания:
– Таня, чтоб ты стала миллионершей! – кричала в общем шуме её подруга.
– Пусть муж купит тебе норковую шубку!
– Чтоб ты всю жизнь ездила на «Кадиллаках» и «Мерседесах»!
– Нет, нет, пусть она ездит на «Роллс-ройсах»!
Таня уже выпила два больших стакана, раскраснелась, смеялась.
– Доктор, а что вы мне пожелаете?
– Родить такую же красавицу, как вы сами! А если будет мальчик, то – богатыря. Можно и того, и другого.
– Богатырь? Как мой муж? – спросила она и залилась хохотом.
– Если он богатырь… – ответил я неуверенно.
– Доктор, – хохотала она, – вы же не знаете: мой муж старый, он на 25 лет старше меня. И он маленький и некрасивый.
– Ну, тогда родите двух девочек-красавиц.
– Нет, я хочу родить богатыря, – капризно говорила она, всё больше смеясь и пьянея. – И я знаю способ, как этого достичь!..
– Таня, расскажи нам твой способ! – хмельно кричала её подруга.
– Нет, нет, это мой секрет. Я его расскажу только доктору, наедине…
Я профессионально заметил, что опьянела она слишком быстро и у неё тряслись руки, когда она подносила стакан с водкой к губам.
Когда мы вышли, она уже покачивалась и попросила меня:
– Проводите меня, доктор. Я тут недалеко живу, на Третьей авеню.
Я крепко удерживал её под руку и по дороге купил ей большую розу на длинной ножке.
– Ах, какой вы милый, доктор, – говорила она, прижимаясь, – вы мне очень-очень нравитесь…
– И вы мне нравитесь, Таня.
– А вы знаете, мой муж очень-очень ревнивый…
– Я его понимаю: с такой красавицей-женой нельзя не быть ревнивым.
– Вообще-то я не даю ему поводов ревновать, но иногда… – она заливалась смехом и без умолку говорила. – Я вышла замуж, когда мне было девятнадцать… Я была глупая-глупая девчонка… Он был инженер и состоятельный человек, красивая обстановка… Он прекрасно танцевал и всех обыгрывал в карты – вот я и влюбилась… А когда мне было 21, мы уехали в Америку. Мне казалось это очень-очень романтичным – уехать в Америку… Я же говорю, что была молоденькая дурочка… А потом я стала тосковать по маме, по дому и всё время плакала… Вот, доктор, а мы уже пришли.
– Вы дойдёте одна?
– Естьдорман, он поможет… он мне обязательно поможет.
– Таня, вы счастливы, что живёте в Америке?
– Счастлива?.. – переспросила протяжно. – Да я иногда проклинаю тот день и час, когда прилетела сюда. А иногда – ничего. Когда муж издал книгу, нас приглашали на банкеты и приёмы. Было красиво, но и противно… Ах, это всё трудно рассказывать, хотя вы и доктор… – и опять пьяно рассмеялась.
– А как вы думаете, Таня, может ли ваш муж помочь мне найти издателя для книги? Я хочу написать книгу о русской медицине.
Она перестала смеяться и посмотрела на меня очень задумчиво.
– Наверное, он может. Только…
– Что – только?
– Нет, ничего, это я просто так, – встряхнула головой, – вы сами с ним поговорите, я в его дела не вмешиваюсь… если он не просит.
И нетвёрдой походкой Таня вошла в дверь дома.
Была в этой русской красавице какая-то тайна.
В тот вечер я пришёл домой позже обычного, и от меня пахло водкой. Ирина посмотрела осуждающе, но ничего не сказала. После полуночи, когда мы уже засыпали, раздался телефонный звонок. Так поздно нам никто не звонил. Может, это от родителей? Может, отцу опять плохо? Ирина зажгла свет и взяла трубку. По её растерянному лицу я понял, что она слушала что-то странное.
– Это тебя, – она передала трубку мне.
– Алло?
Очень глубокий и хриплый мужской голос по-русски произнёс:
– Прекрати писать свои блядские статьи в газете!
Не ожидая ничего подобного, я сначала растерялся. Мне показалось, что я слышал какие-то другие голоса и пьяный шум неподалёку от говорящего. Я соображал: кто бы это мог быть? Характерный голос был похож на один, принадлежавший московскому доктору-беженцу, которого я однажды встретил в НЙАНА. Он тогда рассказывал, что работал заместителем главного врача в 1-й градской больнице в Москве. Должности эти обычно занимали коммунисты, причём довольно активные – им приходилось иметь дела с официальными организациями, включая милицию и КГБ, они имели к ним прямое отношение. Решив, что это его голос, я задал вопрос:
– Что вам не нравится в моих статьях?
– Мне не нравится, что ты – шкура, – прохрипел он.
Пожалуй, это был его голос. Но продолжать такой разговор я не собирался и повесил трубку. Ирина спросила:
– Кто это был?
– Не знаю, мне показалось, что голос знакомый. По-видимому, это один из докторов-иммигрантов.
Телефон зазвонил опять. Ирина снова взяла трубку и через несколько секунд со злостью бросила её обратно. Она была очень возбуждена и напугана.
– Опять? – спросил я. – Что теперь?
– Он сказал: «Если ты, сука, не прекратишь свою писанину, мы заставим тебя замолчать».
Оба мы ждали – не раздастся ли ещё звонок?
У Ирины в глазах стояли слёзы:
– Что теперь делать? Ты добился своего. Я тебя просила не писать в газету, нет, ты всё равно продолжаешь!.. Вот теперь твоя жизнь в опасности. Кто тот человек, на которого ты думаешь?
– Ты успокойся. Во-первых, голос был пьяный, да и другие пьяные голоса слышались в трубке. Эти угрозы – это всё несерьёзно…
– Откуда ты знаешь?
– Да потому что, если бы кто-то захотел расправиться со мной, то не стал бы предупреждать меня заранее. По-моему, это был тот заместитель главврача, которого я встретил однажды. Очень характерный голос.
– Что, ты считаешь, мы должны делать?
– Давай завтра позвоним в ФБР и расскажем эту историю. А ещё я поговорю с редактором газеты, он может такие дела знать и подсказать, что делать.
Мы заснули только на рассвете. Всю ночь каждый из нас думал о своём: Ирина о том, что будет, а я – о том, почему некоторые из моих русских коллег были так недовольны тем, что я писал о советской медицине. Если тот голос не принадлежал действительному врагу, то ответ мог быть только один: они не хотели признавать собственную отсталость – обычный синдром отрицания; и они боялись, что правда о состоянии советской медицины может как-нибудь повлиять на их устройство в Америке – будто наивные американцы, принимая их на работу, будут ориентироваться не на их знания и опыт, а на мои русские статьи. Непонимание всей разницы условий жизни и работы здесь – вот что всё это было.
Рано утром Ирина позволила в ФБР и рассказала о ночном звонке. В тот же вечер, когда меня ещё не было дома, пришли два молодых американца, и через дверную щель показали свои удостоверения. Ирина с опаской впустила их. Они были корректные и деловые. Когда я пришёл, Ирина уже успела рассказать им всю историю.
– Вы кого-нибудь подозреваете? – спросили они меня.
С помощью Ирининого перевода я рассказал о моих статьях и выступлениях на радио, о своих подозрениях, и объяснил, что позиция заместителя главного врача во многом в Союзе была политическая. Агенты поблагодарили за информацию:
– Нам известно, что среди массы новых иммигрантов из России есть не менее двухсот разведчиков КГБ. Мы следим за всеми подозрительными.
Ирина встревоженно спрашивала:
– Насколько это опасно для моего мужа? Что теперь нам надо делать?
– Это не опасно, но мы вам советуем – держитесь подальше от них всех.
На следующий день подозрительная Ирина всё-таки опять позвонила в ФБР, чтобы убедиться, что это были их сотрудники, а не подставные советские агенты.
Интересно, что через несколько дней после этого в «Литературной газете», где когда-то печатались мои статьи, была опубликована ещё одна статья, на этот раз – обличающая меня в продаже Родины (кому? за что?) и ещё с какими-то чёрными обвинениями. Сам я её не читал, но почти уверен, что связь между ночным телефонным звонком и той статьёй была.
Так начало моей журналистской карьеры в Америке привело к напряжённой ситуации дома, к конфронтации с бывшими коллегами, да ешё и с Россией. Но мне это было неважно: я собирался продолжать писать во что бы то ни стало.
Опять серьёзно заболел мой отец – сердце всё слабело. Его срочно положили в отделение интенсивной терапии в Госпитале Святого Луки (St. Lucas Hospital), где лежали самые тяжёлые больные. Теперь мы с мамой ездили ежедневно его навещать. Я представился персоналу как русский доктор и разговаривал по поводу состояния отца с врачами и сёстрами, а потом переводил это маме. Как к доктору ко мне отнеслись очень сердечно и разрешили приходить и оставаться в любое время. Конечно, я был тронут таким отношением. А сёстры и санитарки даже приносили нам кое-что из госпитальной еды. Мы всячески старались отказываться, но из вежливости должны были есть – они ведь это делали от чистого сердца.
Отец был на грани жизни и смерти: его подключили к аппарату искусственного дыхания, ему делалось постоянное внутривенное введение жидкостей и лекарств. Тяжко было видеть его в таком состоянии, в слабости, в полузабытьи, со множеством проводов, трубок, катетеров в его полуживом теле. Мама часами сидела возле него, держала руку или гладила по голове. Что она думала? – они прожили вместе почти пятьдесят трудных лет, дожили до благополучия, оставили это позади, чтобы не расставаться со мной, единственным сыном, и вот теперь были без своего жилья, без своих вещей, без всего, к чему привыкли. А сейчас ей ещё грозило вдовье одиночество. Мне тяжело было смотреть на них обоих.
В Америке все старики и пожилые беженцы за 65 получают достаточное обеспечение: возрастное вспомоществование для неимущих (SSI) – около двадцати долларов в день (они по привычке называют это пенсией), им дополнительно дают купоны на продукты (foodstamps), их селят в дешёвые квартиры. И что особенно важно для них – они имеют бесплатную медицинскую страховку Медикэйд (Medicaid), по которой лечат в больницах и поликлиниках и выдают любые необходимые лекарства. Вряд ли какая другая страна так хорошо обеспечивает старость иммигрантов. Прожить им на всё это можно скромно, но безбедно. Но, кроме этого обеспечения, как важна им моральная поддержка друг друга – единственный остаток их прежней привычной жизни.
Иммиграция, беженство – болезненный процесс переселения, болезнь своего рода. И выздоровление от этого во многом зависит от возраста переселяемого. Пересадите на новое место молодое деревце, оно сначала только слегка свесит листья, потом быстро пустит корни в новую почву и вскоре приживётся. Не то со старыми деревьями: они долго болеют, вянут, их корни медленно и неохотно врастаются в новую почву – чужеродную среду. Некоторые из них гибнут, так и не прижившись. Мы, хирурги, называем всё это болезнью трасплантации – своеобразным страданием ткани, пересаженной на новое место тела. Так вот и моим старикам досталось страдать при переселении, и у постели умирающего отца я не мог не винить за это себя, хотя бы отчасти.
Но и нам, среднему поколению, нелегко доставалось быть зажатыми между двумя другими: сверху – больные и немощные старики-родители, нуждающиеся в постоянной помощи и заботе, а снизу – подрастающее поколение детей, которому тоже нужна поддержка и которое тоже нельзя оставить без внимания. А нам и самим необходимо биться и карабкаться, чтобы заново достичь своей цели. Американцы называют такое положение среднего поколения – возрастная генерация сандвича: начинка зажата посередине между двумя слоями хлеба.
Я смотрел на родителей, и все эти мысли проносились в моих мозгах. Мы с мамой проводили в госпитале часы, и она деликатно уговаривала меня:
– Ты иди, занимайся своими делами и семьёй, я доеду домой одна.
Но не оставлять же маму в госпитале одну, когда каждый день мог стать последним для отца. И пока мы сидели возле него, я с любопытством оглядывался вокруг и старался побольше понять из работы коллег.
Всю мою прежнюю рабочую жизнь я проводил много времени в отделениях реанимации, при мне создавалось первое из них ещё в 1950-х годах. Так что я был в курсе состояния этого раздела медицины в России. Здесь же большая часть оборудования была мне незнакома: новые аппараты и приспособления, применение стерильных однократно используемых пластмассовых шприцов, пластмассовых систем из трубок и наборов для вливания (в так называемой «передовой медицине» России стеклянные шприцы и резиновые трубки кипятили для использования сотнями раз), всевозможные приспособления для быстрой диагностики. Любые анализы крови, её газовый состав, самый важный фактор в определении критических состояний (редко тогда в русских больницах определяемый) – всё это делалось умными аппаратами с их мозгами-компьютерами за быстрые минуты.
Но особенно поражало меня, что я ни разу не слышал и не заметил, чтобы чего-то необходимого в том отделении не было: всё всегда было под рукой. Бичом наших русских больниц всегда была нехватка даже самого необходимого оборудования и лекарств: доминировало русское «нет». Здесь слова «нет» как будто вообще не существовало. И сама атмосфера работы в отделении, ритм и суета лечебного процесса – всё было намного организованнее и активнее, чем в больницах России. Насколько я успел заметить, ни доктора, ни сёстры никогда «не опускали руки» возле тяжёлых больных, каким бы критическим ни было их состояние. В русских больницах, особенно по небольшим городам, больные зачастую умирали потому, что в критическом состоянии не получали необходимого лечения – нечем было лечить, и во многих случаях им просто «давали помереть». И это было привычной нормой.
Хотя я не задавал лишних вопросов, но за долгие дни сидения там понял, что в американском госпитале работать было намного интересней. И мне снова хотелось поскорее надеть белый халат и встать рядом с моими американскими коллегами, чтобы научиться их действительно передовой медицине. И вот, перебирая в памяти недовольные замечания моих корреспондентов-врачей, которые, ничего не зная, критиковали американскую медицину, я думал: какими же надо быть слепыми, чтобы хвалить нашу дремучую отсталость.
И произошло чудо американского лечения: мой отец стал поправляться. Его по-настоящему спасли от смерти и через десять дней выписали в довольно хорошем состоянии. Когда мы с мамой забирали его, мы подарили персоналу отделения коробку шоколадных конфет. Чем ещё могли мы отблагодарить их?
А через несколько дней отцу прислали из Медикэйда копию счёта за лечение – четырнадцать тысяч долларов, что получалось по полторы тысячи в день! Родители испугались, думая, что с них требуют оплату. В панике они позвонили нам:
– Володенька, что-то такое неладное случилось, я даже боюсь сказать…
– Что-нибудь с папой?
– Нет, папа, слава Богу, здоров. Но пришло письмо: требуют массу денег за лечение.
Мы с Ириной пришли, чтобы выяснить. Документ такой мы видели впервые и разобрались тоже не сразу. Пробежав его глазами несколько раз, мы увидели, что наверху было написано – «это не счёт к оплате». Когда мы объяснили родителям, что это лишь информация о том, сколько заплатила госпиталю их страховая компания, оба они были растеряны. Мама даже начала плакать, а отец всё повторял:
– Неужели столько заплатили за моё лечение? Ведь я же ничего не сделал для Америки, я же ни дня тут не работал!..
В моем возрасте легче быть профессором, чем студентом
Я закончил четыре уровня (класса) кембриджских языковых курсов. И хотя мне далеко было до совершенства в английском, но уже пора было двигаться вперёд – к медицине. Дальнейшее изучение языка можно проходить параллельно с подготовкой к экзамену ECFMG – Квалификационный экзамен для лиц с иностранным медицинским образованием.
Готовиться к этому экзамену лучше всего было в специальном подготовительном Центре Стенли Каплана. Приглашающие рекламы этого Центра висели на стенах в НЙАНА, и практически все доктора-иммигранты там занимались. Полгода занятия стоили $600. и сам экзамен тоже стоил $350. За беженцев всё платила НЙАНА. Платные курсы к платным экзаменам – новое для нас чудо. Что это такое? Никто в Советский Союз не иммигрировал, и экзаменовать там было некого. Но в Америку сплошным потоком, как колонны переселяющихся муравьев, прибывали толпы врачей из разных стран всех континентов. Какой у них уровень подготовки – было неизвестно. А разбавлять свой высокий образовательный стандарт новоприбывшими американские доктора не собирались.
И с начала XX века для врачей был установлен закон: хочешь стать медицинским доктором (М.D., Medical Doctor) – докажи, что уровень твоих знаний соответствует уровню американских требований. Экзамен для всех докторов Америки один и тот же.
В Америке всё образование – частное, включая колледжи и университеты. И стоит оно дорого. Вот и создавались специальные Центры по подготовке к таким экзаменам. Говорили, что мистер Каплан когда-то сам не смог сдать медицинский экзамен и поэтому организовал курсы для подготовки. Постепенно дело разрослось и стало дорогим. За меня НЙАНА платить не хотела: у меня зарабатывающая жена. Но заработка ее едва хватало на самый примитивный быт, и мне удалось уговорить их дать половину, с последующей выплатой.
Экзамен был пугающий: надо ответить на приблизительно тысячу письменных вопросов по всем разделам практической и теоретической медицины, дав на 75 % правильные ответы. Требования и форма экзамена были для нас большой новостью, камнем преткновения на пути к работе по профессии. Привычное нам советское образование стояло на трех консервативных китах: единство системы на всех уровнях, преподавание в классических традициях (почти 100-летней давности) и строжайший государственный (партийный) контроль за программой. Официально врачи и учителя должны были периодически совершенствовать свои знания каждые три года, но это была лишь проформа. Уровень наш явно отставал от американского, и намного.
Почти двести лет назад Пушкин писал:
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь…
и
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, больше ничего.
Это оставалось актуально и для советской эпохи. Хотя массовость образования в России с её колониями-республиками сильно возросла, но отсталость от уровня высшего образования в старанх Запада уменьшалась очень медленно. Мы, советские врачи той эпохи, одну треть времени в медицинских институтах тратили на изучение марксизма-ленинизма. Самый первый и важный выпускной государственный экзамен всегда был по марксистской философии – идеология превыше всего. Об этом я тоже писал в своих статьях в русской газете, и это тоже вызывало недовольство некоторых моих коллег. Но теперь нам всем приходилось расплачиваться, догоняя уровень знаний и подготовки американских докторов.
Когда я впервые пришёл на занятия в Центр Каплана в Манхэттене, я ожидал увидеть аудиторию, слушающую лекции, так проводились все занятия в России. Вместо этого девушка-регистратор выдала мне первую по программе магнитофонную кассету и буклет с напечатанными по теме кассеты вопросами-ответами.
– Что мне с этим делать?
– Сидите и слушайте, как другие.
– Где и как слушать?
Она повела меня в небольшой зал, где стояли длинные столы с множеством магнитофонов. Почти все были заняты: в тишине каждый слушал свою кассету через наушники. Приложив палец к губам, она усадила меня на свободное место, дала наушники.
– Это всё? – шёпотом.
– Всё. Прослушаете первую кассету, подойдёте ко мне – я обменяю её на следующую.
Я надел наушники и приготовился услышать медленную внятную речь. Вместо этого лектор говорил так быстро, что я не разбирал буквально ни одного слова. В растерянности я остановил ленту, перекрутил к началу, опять включил – то же самое.
У лектора не было достаточной для меня внятности речи. В стремлении понять я сконцентрировался и напрягся, как перед поднятием тяжёлого веса – не помогло. В растерянности я стал оглядываться вокруг: как другие слушают такую непонятную скороговорку? Неподалёку какие-то молодые доктора, в основном мужчины, сидели, расслабленно откинувшись на спинки стульев, и слушали наушники с видом любителей классической музыки, погружённых в звучание симфонии в концертном зале. На столах рядом с ними стояли принесенные из соседнего кафе бумажные чашки с кофе, который они время от времени пили мелкими глотками. Некоторые из них положили ноги на стол – и по этому, и по кофе в них сразу узнавались американцы. Изредка, по ходу слушания, они заглядывали в буклеты, сверялись с вопросами и ответами, опять закрывали глаза и откидывались, чтобы слушать. Их было немного.
Другая группа подальше – лица индусского и азиатского типа, смуглые или чёрные из стран Азии и Латинской Америки, тоже молодые, но среди них довольно много женщин, некоторые одеты в национальные одежды и сари. Они тоже слушали плёнки без видимого затруднения, но не так расслабленно, как американцы. На столах рядом с ними лежали толстые американские учебники и тетради с записями. Они иногда останавливали магнитофон, листали учебники, что-то записывали и продолжали слушать. Кофе они не пили и ноги на стол не клали.
Дальше сидели, сгруппировавшись, доктора постарше. Они часто снимали наушники, нервно листали словари и переговаривались шёпотом. Среди них много женщин среднего и выше возраста. Они слушали плёнки с видимым трудом, и по тоскливому беспокойству в их глазах нетрудно было распознать нашего брата – русских беженцев. Кофе они не пили, но часто, по одному – по два вставали и выходили в коридор.
Распознав своих, я тоже вышел и сразу натолкнулся на группу курящих мужчин, беседующих по-русски. Никого из них я не знал, но кивнул им. Они поизучали меня глазами, сильно не заинтересовались. Все были в возрасте около сорока, двое помоложе, а двое явно старше меня. Я закурил, для компании, и стал слушать. Очевидно, они тут были старожилы, и разговор шёл о результатах последнего экзамена. Вёлся он в таком примерно ключе:
– Сколько ты на этот раз получил?
– Немного продвинулся: шестьдесят восемь – далеко до заветных семидесяти пяти.
– А та женщина из Черновцов не добрала всего один балл.
– Да ну?! Обидно, конечно.
– А что толку-то? – всё равно не сдала.
– Наши опять на одном из последних мест по статистике.
– Да, в этот раз мало кто сдал. Но и вопросы были такие, что я вам скажу! А знакомых по Каплановскому курсу всего три-четыре вопроса – совсем мало.
– Нет, я насчитал штук десять знакомых.
– Во всяком случае, с первого раза наши вообще не сдают.
– Было несколько случаев.
– Были, но это молодые с хорошим английским. Таких всего один-два – и обчёлся.
– В среднем все сдают по три-четыре раза.
– Я знаю наших, которые сдавали пять и шесть раз.
– Ну, есть такие и не только среди наших. Вон, из Доминиканской Республики одна сдавала уже семь раз и теперь снова готовится.
– Чёрная?
– А какая же ещё!
– Так чего же ты от неё хочешь?
– Ну, есть чёрные ребята, которые сдавали с первого раза.
– Есть, но это американцы, закончившие институты в других странах, или те, кто учились по американским учебникам.
– Да, говорят, по американским-то учебникам заниматься лучше.
– Лучше тем, кто читает свободно. А я одно и то же слово по десять раз в словаре ищу.
– Да, и я от словаря почти не отрываюсь тоже.
– Если бы ясно понимать, чего они там говорят на этих плёнках…
– Некоторые занимаются дома, по учебникам.
– Ещё лучше иметь копии всех вопросов-ответов и шпарить прямо по ним.
– Да, я знаю наших, которые готовятся дома по таким вопросам.
– Где же их достать?
– В Бруклине продают – полный набор экзаменов за последние пять лет.
– Сколько стоит?
– Сто пятьдесят долларов.
– Так дорого!
– А что – люди складываются вместе, по пять-шесть человек, и покупают.
Дальше разговор перешёл на какие-то истории и анекдоты. Я вернулся на своё место, надел наушники и снова стал слушать. Если можно образно так сказать, я впился ушами в наушники. Но нужно было не только знать слова, но и иметь привычку слушать обычную речь, не видя лица и артикуляции собеседника – как по телефону. И я слушал, слушал – и опять ничего не понял. Устав от непривычного напряжения, снова вышел в коридор. Там стояли те же и другие курящие русские, на этот раз к ним прибавилось несколько женщин. Пожилая женщина, на вид за пятьдесят, с раздражением говорила:
– На чёрта он мне нужен, этот экзамен! Я тридцать лет проработала в одной и той же больнице, во Львове, психиатром, и уже вышла на пенсию. А теперь вот сижу здесь и чувствую себя дура дурой. Чтоб он сдох, кто придумал этот экзамен!
– Почему вы решили его сдавать? – сочувственно спросила другая.
– Потому что мне надо работать: у меня дочка разведённая и внучка маленькая. Нас некому поддерживать. Ах, как я не хотела уезжать из России! Дочка меня уговорила, и пять лет назад мы поехали в Израиль. И всё было хорошо: с моим стажем я начала там работать без всякого экзамена, дочка вышла замуж, внучка родилась. И вдруг как гром среди ясного неба – дочка разошлась! И не захотела там больше оставаться. Чего это нам стоило – выбраться из Израиля сюда… Два года ушли на разрешение, и мы всё ещё не устроены. Откуда я знала, что этот дурацкий экзамен обязателен для всех, даже с моим стажем? И вот, в мои-то годы, я пришла на эти курсы. Ну, разве это справедливо?
– Вы знаете английский?
– Откуда мне его знать? Кое-как разбираюсь со словарём.
– Говорят, в Калифорнии докторам разрешают работать без экзамена.
– Ха!., если правда… но это же – опять переезжать и устраиваться на новом месте!..
Я решил попробовать другую тактику работы с магнитофоном: слушать короткими частями, буквально одну-две фразы, и повторять их много раз подряд. Бог с ним, со смыслом лекции – нужно научиться слышать отдельные слова, а уже потом из них начнут складываться целые фразы. Когда – потом? Наверное, через неделю-две. Я нервно включал и выключал магнитофон каждую секунду. Включу – напряжённо вслушаюсь, перекручу назад и опять – включаю и вслушиваюсь. Довольно трудное занятие. Американец, сосед по столу, стал на меня коситься, а я с завистью поглядывал на него – небрежно развалившегося и слушавшего лекцию без остановок.







