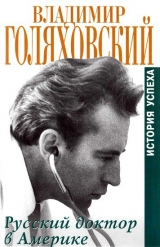
Текст книги "Русский доктор в Америке. История успеха"
Автор книги: Владимир Голяховский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Европа есть Европа, а дом в Америке
Мы летели навстречу солнцу – на Восток, в Европу. Впервые мы, бывшие бесправные рабы советской власти, были свободными путешественниками – свободно купили билеты за границу и свободно заказали гостиницу в Париже. Мы с Ириной придумали для себя такую игру – я спрашивал:
– А куда это мы едем?
На что Ирина как бы небрежно отвечала:
– А что такого?
Она детально разработала маршрут и была этим горда, как лягушка-путешественница из сказки Андерсена:
– Это я, это я придумала!
И вот мы летим. Любые изменения ощущаются острей, когда ломается рутина повседневности. Одно дело было знать, что мы можем свободно лететь в Европу, как все американцы, другое дело – действительно лететь, с американскими долларами и кредитными карточками. Сидя в салоне просторного самолёта DC-10 голландской компании KLM, мы были счастливы ощущением свободы международного передвижения. Но… ничего нет на свете абсолютного: надо было так случиться, что в самолёте у Ирины разболелся зуб. И она всю ночь промаялась, страдая от боли. Она пила обезболивающее, стонала, и мы решили, что как только обоснуемся в гостинице – сразу позвоним в американское посольство, узнать, у кого лечиться в незнакомом нам городе. Паспортный контроль – непривычно простой, и мы едем в такси – по Парижу! Мимо Триумфальной арки, по Елисейским полям… Ирина, держась за щёку, крутит головой по сторонам. И вот мы в номере «Hotel Du Colisee», и у нас нетерпение – выйти на улицу. Позвонили в посольство, там нерабочий день – Memorial Day – День поминовения погибших. Как быть с зубом? Придётся ехать в госпиталь завтра, а пока – на улицу. Целый день мы бродили, в экстазе восторга, в восторге экстаза. И к концу дня Ирина вдруг:
– Ой, а зубная боль прошла совсем!..
Прекрасное и эмоциональное – сильней всего, даже зубной боли.
Десять дней в Париже, там мы взяли в прокат маленькую машину «Renault», пять дней ездили по шато и городкам вокруг, и помчались в Голландию. За восемь дней я влюбился в голландцев – лучший из народов мира. У них есть пословица: Бог создал мир, но Голландию создали голландцы. Как верно! После Голландии – неделя в Бельгии. Мы наслаждались путешествием, но Ирине в Европе было особенно приятно: впервые за долгое время она чувствовала себя спокойно, не боясь опасного окружения.
В Бельгии радостная встреча с друзьями – Колей и Леной Савицкими. Это они помогали нам с выездом из России и встречали нас в Вене четыре года назад. О нашей жизни в Америке рассказывал им в основном я; Ирина с волнением и злостью описывала лишь опасности Нью-Йорка и трудности нашего устройства, в очень уж мрачном свете:
– Это наше путешествие – единственное хорошее с момента отъезда из Москвы, что с нами происходило и происходит.
– А мне Америка нравится, несмотря ни на что, – возражал я.
Коля примирительно:
– Ну, я так и думал, что у вас уйдёт около пяти лет на первое становление в Америке.
Ирина кипятилась и спорила, критикуя и ругая Нью-Йорк. Но вот однажды, за несколько дней до отлёта обратно, она задумчиво сказала:
– Знаешь, я хочу домой, в Америку.
Как я был обрадован! – наконец-то она почувствовала, что Америка – наш дом.
Новый этап
Всё во мне пело от счастья, когда ранним утром 30 июня 1982 года, через четыре года после переселения в Америку, я ехал на своей машине начинать вторую в жизни докторскую карьеру: нас, резидентов первого года трейнинга, собирали на «ориентацию» – для знакомства друг с другом, с госпиталем и его правилами.
Еврейский госпиталь Бруклина считался одним из самых плохих и бедных. Но было время, когда он славился своими знаменитыми докторами и был одним из лучших и богатых госпиталей Америки. И это было не так давно – до 1960-х годов. Когда в 1948 году у великого Альберта Эйнштейна развилась опасная для жизни аневризма аорты, расширение главного кровеносного сосуда, то для спасения его привезли на операцию именно в наш госпиталь. И профессор Ниссан сделал ему операцию, какие тогда мало где производились. В нашем госпитале лечились король Англии, несколько президентов, знаменитые политические деятели и интеллектуалы страны. Теперь всё это было в прошлом. Что же произошло и почему так быстро?
Госпиталь построила в начале века еврейская община района Бедфорд-Стайверсант. Тогда там жили белые состоятельные люди, в основном евреи (весь Бруклин был еврейским городом до его слияния с Манхэттеном в конце прошлого века). Их красивые дома утопали в зелени садов, это был самый процветающий район города. Но вместе с окончанием расовой сегрегации с 1950-х годов там началось постепенное замещение местного населения. Сначала в Бруклин стали вселяться рабочие черные семьи, а за ними массой покатилось нашествие легальных и, чаще, нелегальных чёрнокожих иммигрантов из Латинской Америки и с Карибских островов. Из своих стран-колоний они привезли три характерные черты: бедность, культурную отсталость и преступность. Это их я и увидел возле метро в мой первый визит в госпиталь.
Еврейские семьи стали массами уезжать в пригород, в район Long Island. Как при стихийном бедствии, они бросали свои квартиры и дома, потому что их никто уже не хотел покупать. И их тут же наводняли новые иммигранты, вселяясь десятками туда, где прежде жила одна семья. Они не поддерживали дома, не сажали цветы и деревья, не следили за чистотой – всё это было чуждо им, детям дикой природы. И за пятнадцать – двадцать лет им удалось разрушить всё, что создавалось там более ста лет.
Пострадал и пришёл в упадок и наш прекрасный госпиталь: ушли основные доктора, заменился персонал, и прекратился приток средств. Когда я начинал резидентуру, ещё теплились какие-то традиции, некоторые директора департаментов (соответствует заведующим отделениями) были белые и оставались от прежних времён, но весь остальной состав докторов были темнокожие иммигранты, в основном из Индии и Гаити. Внутри госпиталя национальные группы враждовали между собой, борясь за пациентов: каждый лагерь старался не допустить, чтобы другому досталось больше. И уже при мне уходили из госпиталя последние белые доктора, и во главе него стал гаитянин, довершивший разрушение.
Как капля воды отражает всё небо, так судьба Еврейского госпиталя (и всего Бруклина) отражает поучительную историю нашего времени – разрушительная сила в нём порой сильней созидательной. Поразительно то, что нашествие варваров в Бруклин было отнюдь не военным, а мирным, и явилось результатом неверной иммиграционной политики и неумения контролировать и сдерживать разрушающие силы. Общество самой развитой и сильной страны не сумело оградить себя и обуздать своих же варваров. И не смогло сохранить наш госпиталь.
Всё это мне стало известно и ясно постепенно, но я решил заранее показать общий фон, на котором прошли потом пять лет моей работы в Бруклине.
Группа новых резидентов в миниатюре напоминала то, что я видел в толпе на экзаменах, – смешение всех рас и наций с преобладанием индусов, пакистанцев, филиппинцев и чёрных жителей Карибских островов. Были китайцы, один японец, один поляк и один португалец.
Американцев среди нас не было – в тот госпиталь они уже давно не стремились. И конечно, преобладала молодёжь до тридцати лет – в возрасте моего сына. Я был самым старым (и, кстати, самым старым хирургическим резидентом за всю историю Америки, этот «рекорд» не побит до сих пор).
Меня обуревали смешанные чувства: с одной стороны, я был счастлив оказаться опять в докторском ранге, с другой стороны – среди молодёжи я чувствовал себя неловко, как старый петух среди цыплят. И с самого начала я понял, что, хотя умел кукарекать вполне по-взрослому, придётся мне пищать вместе со всеми по-цыплячьи: придётся всё проходить заново – нет же программ для трейнинга профессоров.
Это подтвердилось в первый же день. Нас собрали в учебной комнате, пришла старшая операционная сестра и спросила:
– Кто из вас хоть раз мыл руки на операцию?
Я поднял руку и оглянулся: поднялись ещё одна-две руки. При таком соотношении она наиподробнейшим образом рассказала нам два этапа обработки рук – мыть намыленной щёткой в проточной воде, от кистей и наверх – до локтей, по пять минут каждый раз; потом показала, как вытирать руки стерильным полотенцем, тоже начиная с кистей и кончая локтями. Я впервые делал это тридцать лет назад, когда мои теперешние сотоварищи по группе не родились или были ползунками. Конечно, была ирония в том, что приходилось повторять такие азы. Но не мог же я самовольно регламентировать программу своего обучения.
После этого нас по одному раздали резидентам второго года, которые стали нашими непосредственными учителями и руководителями. Все они ещё только вчера сами были учениками первого года, а теперь получили право обучать. Им нравилось командовать нами, они себя чувствовали на высоте положения. Мой ментор был чёрный как смоль парень из Гаити по имени Луис.
– Ты откуда? – спросил. – Ах, из России. Ты когда-нибудь мыл руки на операцию?
– Немного (не начинать же знакомство с рассказа о моём профессорстве, чтобы не вызвать непонимание, а может быть, и смех).
– Сейчас посмотрим, как ты это делаешь. Повторяй всё за мной. Не так держи щётку! Давай, начинай всё сначала. Так не годится! Э, да ты, я вижу, совсем ещё зелёный в нашем деле.
Мне хотелось послать его к чёрту (но опять-таки, не начинать же с препирательств и скандалов: раз висит на тебе ярлык младшего, то и веди себя как младший).
Зато в тот день впервые мне завязывали халат за спиной, а не я завязывал, как было на прежней работе техником. Меня взяли ассистировать, и сестра спросила:
– Доктор, не туго я завязала вам халат?
– Нет, спасибо, как раз хорошо.
(Если бы она знала, какое это для меня имело значение!)
И вот, впервые в Америке в качестве доктора, я у операционного стола. Шла операция обычного грыжесечения, оперирующий аттендинг и его ассистент Луис склонились над операционной раной. Я встал сбоку, держа руки наготове, но они не обратили на меня внимания. В какой-то момент хирург оглянулся и с удивлением посмотрел в мою сторону:
– Новый резидент? Как зовут? Это что за имя? Ах – русское. Ладно, становись вот сюда и тяни крючки. Да не со всей силы. Ты когда-нибудь ассистировал на операциях?
– Немного.
– Вот и хорошо. Раз ты уже ассистировал, бери ножницы и срезай кончики ниток, которые я завязываю. Да не очень коротко.
Я старался делать, как просят.
– А ножницы в руках ты держать ещё не умеешь. Смотри, как надо.
Он перевернул их так, что мне стало совсем неудобно резать, я изогнулся и старался изо всех сил.
После операции Луис сказал тоном приказа:
– Смотри, русский, чтобы точно в четыре часа в истории болезни была твоя запись о динамике состояния этого пациента после операции.
Оператор по радио объявил, что в три тридцать доктор Рекена проводит занятие с резидентами и все мы обязаны быть там. Я поспешил к тому пациенту, проверил его состояние, осмотрел, сменил намокшую кровью повязку и записал в историю болезни. Это была моя первая запись, и я старался написать как можно более чётко.
Когда занятия с доктором Рекена закончились, Луис спросил:
– Эй, русский, ты сделал, что я тебе приказывал?
– Да, я осмотрел пациента и сделал запись.
– Ну, что ж: пойдём – проверим.
Увидев запись в 3.30, он пришёл в ярость:
– Ты обманул меня!
– Почему – обманул? Вот моя запись.
– В какое время я приказывал тебе записать состояние пациента?
– В четыре часа. Но в то время были занятия.
– Это меня не касается. Раз старший приказывает тебе, ты должен выполнять точно.
– Если бы ты просил проверять пациента каждые полчаса, ты должен был написать «проверять жизненные показания каждые полчаса». Какая разница, если запись на полчаса раньше?
Он сверкнул белками больших глаз на чёрном лице:
– Ты мне не умничай (Don’t get smart with me)! Я тебе это припомню.
Так. Младший резидент находится в полной зависимости от старших. Я попадал в зависимость к гаитянину Луису и обрёл в нём недоброжелателя.
Резидент – в переводе значит «проживающий», тот, кто постоянно живёт в данном месте. В медицине резидент тоже значит – проживающий при госпитале. И действительно, так раньше и было, и даже и теперь подавляющее большинство медицинских резидентов живёт в домах на территории или рядом с госпиталем.
Корни резидентуры очень древние и происходят от монастырских начал: как юные «послушники» жили при монастырях, полностью подчиняя свою жизнь их укладу, так и медицинские резиденты должны полностью растворять свою жизнь в обучении при госпитале. В Америке резидентура была скопирована с немецкого и английского образцов прошлого века – молодые врачи там проходили трейнинг за содержание и кормёжку в госпитале. Американский хирург Уильям Холстед (William Halsted, 1852–1922), который внедрил в хирургическую практику резиновые перчатки, также ввёл в начале века обязательное прохождение резидентуры для будущих хирургов. Тогда они не получали никакой зарплаты, живя на содержании госпиталя и работая столько, сколько требовалось – хоть двадцать четыре часа в день. Это были молодые мужчины, но они не имели права жениться и заводить семьи. Постепенно правила становились мяпе, резидентам стали платить, разрешили жить, где они хотят, и заводить семьи. Но одно остаётся неизменным до сих пор: резидент это тот, кто должен работать столько, сколько от него требуют. Никаких прав отказаться у него нет.
Хотя рабство в Америке было отменено, но одна форма его осталась – это медицинская резидентура.
Но жёсткий режим изучения специальности всё-таки даёт настоящий опыт, и после резидентуры ты уже натренированный специалист. Только через три года трейнинга американский доктор получает лицензию на право самостоятельного лечения больных. А чтобы стать специалистом в любом разделе медицины, он должен пройти ещё один или два года специализации (Fellowship) и сдать дополнительный экзамен.
России надо бы перенять хороший опыт трейнинга врачей у Америки, может, с некоторыми поправками.
На вторую ночь я впервые дежурил – младшим из группы пяти резидентов. Фактически я был на побегушках у всех, но непосредственным моим шефом на дежурстве оказался японец Юкато, тридцати лет, резидент второго года – маленький, сухощавый, страшно подвижный, с глазами-щёлочками. Японец быстро перебирал короткими кривыми ногами и ветром обходил-обегал пациентов на восьми этажах. Я едва поспевал за ним и на ходу записывал свои обязанности. Понимать его странное японское призношение было невероятно трудно – напрягаясь в беготне, я ещё напрягался, вслушиваясь в его быструю речь.
Мои обязанности: проводить полное обследование и вести все записи на вновь поступивших пациентов (их обычно от десяти до двадцати), самому брать у них анализы и разносить пробирки по лабораториям; опять по лабораториям собирать данные сделанных анализов и записывать в истории болезней; налаживать необходимое срочное лечение – внутривенное вливание, смену повязки, переливание крови или что другое; первым являться на любой вызов дежурных сестёр и тут же докладывать старшему, при этом никаких самостоятельных решений и действий; а кроме того – ассистировать на срочных операциях; а кроме того – помогать дежурному резиденту по неотложной помощи; а кроме того – всегда являться по вызову старшего дежурного, резидента четвёртого года; а кроме того… Только и всего?..
На дежурстве бесплатно дают ужин (если есть время прийти в кафетерий) и каждому выделяют отдельную комнату для спанья. Она находится в другом корпусе, соединённом двумя переходами, так что даже бегом оттуда до пациентов – минут пятнадцать – двадцать. В пять часов следующего утра надо проверить все анализы и записи в историях болезней предоперационных пациентов. В шесть тридцать быть на конференции резидентов и доложить о происшедшем за ночь. В восемь утра надо уже стоять у операционного стола – ассистировать. Никаких перерывов после дежурства нет – до конца дня, часов до восьми-девяти вечера. В общей сложности это 36–38 часов подряд. И через день или два – дежурство опять. А в остальном, прекрасная маркиза… можно и отдохнуть.
Обежав весь госпиталь, мы ненадолго уселись в кафетерии. Юкато спросил:
– Ты почему уехал из России?
– Я эмигрировал как политический беженец.
– А когда закончишь резидентуру, поедешь обратно в Россию?
– Нет, я останусь в Америке. Мне обратной дороги нет, я и гражданство там потерял.
– А я поеду обратно в Японию, – мечтательно, зажмурив узкие глазки, сказал он.
– Почему ты решил проходить резидентуру в Америке? Здесь что, преподают лучше, чем в Японии?
– Ну, не думаю, что лучше. В Японии прекрасная хирургия. Я решил приехать, чтобы познакомиться со страной, которая так быстро захватила доминирующее положение во всём мире. Из-за Америки и моя страна стала быстро меняться. Мне любопытно пожить среди американцев, понаблюдать их, понять, почему они такие заносчивые. Почему они стали теперешними хозяевами мира?
Ага, вот оно что! Значит, Юкато с чисто японской дотошностью и методичностью изучает не только американскую хирургию, но и самих американцев. Но ведь здесь, у нас в госпитале, их почти и не было. Странно немного.
Старшим над нами был толстый индиец Схали, лет сорока. Очевидно, растолстевший на американских хлебах (все остальные индусы были худые), он двигался медленно, как сумчатый медвежонок коала, перебирающий лапками по ветвям деревьев. Говорил он тоже медленно, со страшным индийским акцентом твёрдого произношения всех гласных. Понимать его было ещё трудней, чем японца. Схали стал учить меня, как лучше записывать результаты анализов в записную книжку, чтобы потом легче переписать их в истории болезней. И заодно преподал мне тактический урок:
– Ты должен запомнить: чем важней аттендинг, тем свежей должен быть анализ у его пациента. Вот, например, поступает частный пациент директора доктора Лёрнера, а другой – госпитальный пациент (не имеющий частной страховки) младшего атгендинга доктора Пурсида, – тут он назидательно поднял палец. – Сразу надо заняться пациентом Лёрнера, провести полное его обследование и всё наиподробнейшим образом записать в историю, – он опустил палец. – После этого можно заняться пациентом Пурсида. Если у тебя будут вопросы к старшим на дежурстве, сначала спрашивай Юкато, а он будет консультироваться со мной. Сам ты меня беспокоить не должен. Понял?
– А если пациент младшего аттендинга в более тяжёлом состоянии, чем пациент старшего аттендинга, как в таком случае поступать? – я спрашивал наивно, по-дурацки, попадая в тон его инструкции.
– Ты не должен решать, кто из них тяжелей. Ты ешё не в той позиции, чтобы принимать самостоятельные решения. Зови Юкато, а он будет консультироваться со мной. Понял?
В 9 часов вечера в отделение неотложной помощи поступила чёрная девочка семи лет, у которой были все признаки аппендицита. Я брал у неё кровь для анализа и видел, как Схали её осматривал. Он как будто не мог решить, что делать: срочную операцию или ждать до утра. Сам, без аттендинга, оперировать он не имел права, а беспокоить его не решался. Состояние девочки ухудшалось, и после полуночи он всё-таки позвонил на дом аттендингу. Но так невнятно описывал ему картину заболевания, что сонный аттендинг, очевидно, переспрашивал. Наконец Схали сказал:
– Вы сейчас приедете? Тогда я всё подготавливаю к операции.
Повесив трубку, он стал дотошно проверять мою запись в истории.
– Почему ты ничего не записал, живёт ли пациентка половой жизнью?
– Да ей же только семь лет! Какая половая жизнь в таком возрасте?
– Ты ещё свежий в нашем госпитале и не знаешь, что в здешней округе творится. Здесь всякое может быть. Обязательно надо проводить гинекологическое обследование и записывать в историю. Только делать это надо с согласия матери и в присутствии свидетелей.
Час от часу не легче! Я просто не знал, как решиться задавать такие вопросы ребёнку. Если надо, то придётся. Но как?..
И тут оператор по радио срочно вызвал всю бригаду в неотложную – доставили пациента с тяжёлым огнестрельным ранением. Неотложная в полуподвальном этаже, два лифта заняты – ползут вверх. Я побежал вниз, за мной топал Схали. В неотложной суета вокруг каталки с пациентом, много полицейских. Оказывается, шла перестрелка и привезли нескольких раненых, один в состоянии глубокого шока от кровотечения.
Спасти его не удалось, он умер через несколько минут. Схали велел мне писать свидетельство о смерти. Это в первый раз: надо чётко заполнять графы свидетельства, нельзя делать ошибки и нельзя исправлять. Я сидел над этим целый час.
В 2 часа после полуночи начали, наконец, операцию. Оперировал Схали под руководством аттендинга, я был вторым ассистентом – «на крючках». Хирургических навыков у индийца не было, и аттендинг с едва сдерживаемым раздражением подсказывал ему каждое следующее движение. Когда, наконец, выделили воспалённый аппендикулярный отросток, стало ясно, что операцию надо было делать раньше – так сильно он уже был воспалён.
В ту первую ночь я не спал совсем. Может, по неопытности, но анализы и записи заняли у меня почти всё время. В 4 часа ночи я, не раздеваясь, положил голову на подушку в своей комнате, но тут же раздался звонок телефона: сестра седьмого этажа что-то спрашивала. Понять что – я не мог.
– Я сейчас приду.
Прибежав на седьмой этаж, я спросил:
– Что случилось?
– Ничего не случилось, доктор. Я просила вас дать мне устное разрешение на обезболивающее лекарство для пациента после операции. Вам не надо приходить, вы можете подтвердить по телефону, а утром записать в историю.
Сестра была чёрная, из Доминиканской Республики, и у неё был тоже новый для меня акцент – вот я и не понял. Раз уж пришёл, я написал что нужно и побрёл в свою комнату. Но только опять положил голову на подушку, как позвонил Юкато и велел идти с ним на обход предоперационных пациентов. Аккуратный работяга-японец хотел проверить, всё ли я сделал правильно.
Едва успев проглотить завтрак, в 8 часов утра я уже стоял у операционного стола «на крючках». За той операцией была другая. Всего четыре часа стояния на ногах в постоянном напряжении: тянуть крючки не так легко, их надо вовремя передвигать, давая место рукам хирурга. Иногда он в нетерпении хватал меня за руки и передвигал вместе с крючками. Время от времени я тайком моргал и таращил глаза, чтобы не слипались, и переминался, перенося нагрузку с ноги на ногу.
Перед концом рабочего дня – обязательная часовая учебная конференция, на которой проверялись наши теоретические знания. Тут нужна концентрация другого рода: вслушиваться в вопросы, которые читал шеф-резидент, и знать на память ответы. А у нас у всех глаза закрывались и головы свешивались от усталости.
После конференции шеф-резидент делал с нами обход всех оперированных за день пациентов. Мы, младшие, должны докладывать, что и как было сделано.
У меня профессиональная привычка хирурга: я мог не спать по двое-трое суток. Но это было в молодости. Тогда организм быстро перезаряжался энергией за два-три часа отдыха. Теперь я был уже не тот. Ну, что ж: надо, так я и теперь выдержу.
В семь вечера я вышел на улицу и подходил к машине на госпитальной стоянке, у меня немного кружилась голова. А предстояло ещё около часа ехать в потоке машин. Дома Ирина спрашивала, пристально приглядываясь, как я перенёс первое дежурство.
– Не так уж плохо, – постарался я успокоить её.
Молодым моим сотоварищам по работе не приходило в голову, насколько я старше – ровесник их родителей. И не потому, что я выглядел моложе своих лет и был пока ещё достаточно энергичным. Просто они сами были в том возрасте, когда о возрасте не думают. Да если бы они и подумали о моих летах, то всё равно это не изменило бы их отношения ко мне: все мы были в одной упряжке и должны были скакать одинаково. А скакать приходилось в буквальном смысле слова.
У новичков первого года не было никаких навыков работы, их обучали старшие резиденты – на этом построена система постепенного освоения опыта в резидентуре.
И мы многому учились у них в повседневной практике. Резиденты 4-го и 5-го годов казались нам чуть ли не профессорами. Но обучая нас, они же нас и эксплуатировали, заставляя делать вместо себя мелкую работу, а то и используя нас на посылках. То и дело наши бипперы на поясах пищали – бип-бип-бип, – и мы кидались к телефонам – это вызывали старшие!
Резидент 4-го года Фунуча, филиппинец, вызвал меня, когда я был в детском отделении.
– Срочно принеси мне рентгеновские снимки (имя пациента). Я жду тебя на третьем этаже, в операционном блоке.
Срочно? Я был уверен, что он чем-то очень занят, потому что рентгеновское отделение как раз над операционным блоком и ему всего-то подняться на один этаж, а мне надо идти длинными переходами из другого корпуса.
Я поспешил. Когда, запыхавшись, принёс снимки, то увидел его в холле операционного блока. Он сидел, развалясь в кресле, и лениво перелистывал страницы журнала «Плейбой» с картинками голых красавиц. Не сразу оторвавшись от них, он мельком глянул на принесённые мной рентгенограммы:
– Отнеси обратно, – и опять погрузился в приятное созерцание.
Отнеся снимки, я снова поспешил в детское отделение. Проходить надо было мимо неотложной, там в коридоре меня перехватил резидент второго года индиец Гупта, 28 лет. Он дежурил по неотложной, и его обязанностью было принимать травму.
– Эй, русский, ты куда идёшь?
– В детский корпус.
– Что там?
– Надо сделать перевязку.
– Потом сделаешь. А теперь помоги мне зашить ножевую рану. Ты когда-нибудь зашивал раны?
– Приходилось.
Ножевые ранения были дежурным блюдом нашего госпиталя каждый день и целый день – создавалось впечатление, что в нашей округе разговора без ножа не происходило.
На этот раз рана была небольшая и неглубокая, я быстро справился с заданием. Гупта наблюдал, стоя позади:
– А ты действительно умеешь. Хорошо.
И я побежал на перевязку. Но лучше бы я не показывал ему своего умения. В течение ночи он вызывал меня ещё несколько раз на каждое зашивание раны – делать за него то, что ему самому полагалось. В результате у меня скопилась уйма недоделанных дел, не были собраны анализы и не вписаны в истории их результаты. Мой непосредственный шеф Юкато был недоволен – нервный, как все японцы, он строго следил за мной и требовал точности выполнения. С чисто японской хитростью он шпионил, что и когда я сделал. Не находя записей, он упрекал, я обещал, но меня снова вызывал Гупта для зашивания очередной раны. Японец выходил из себя. И вот мы с ним столкнулись в холле биохимической лаборатории. Японец стоял перед длинным листом результатов анализов и делал выписки. Увидев меня, стал кричать:
– Почему ты недоделал это? Ты обещал сделать.
Когда он повысил голос, я не выдержал и тоже обозлился:
– Почему ты кричишь на меня?
– Потому что ты – лжец!
– Я не лжец, но я не успел это сделать, меня Гупта заставляет зашивать раны.
– Ты лжец, лжец! – он собрался в комок, как будто хотел наскочить на меня.
На меня нахлынула волна злости. Я стал в позицию, чтобы ударить его первым. Прищурясь, быстро прикидывал, как получше нанести удар. Он понял и ещё больше съёжился. Так мы стояли друг против друга, тяжело дыша и смотря с ненавистью – точно два бойцовых петуха. В моём сознании мгновенно пронеслось, что назавтра наша драка станет известна директору, обоих нас, с синяками, вызовут для разбора: два доктора подрались на дежурстве! Я здесь новичок и меня никто не знает, а он уже работал полный год. К тому же, я ведь намного старше и обязан вести себя соответственно возрасту. Нет, начинать с драки мне невыгодно: могут выгнать совсем. А этого я боялся больше, чем расквашенного носа. Я подумал и сдержался.
А жаль. Очень мне хотелось врезать ему – до того допекли меня придирки и понукания.







