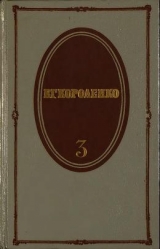
Текст книги "Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 51 страниц)
Да, только гениальному человеку можно простить такие советы, говорил мне один «горожанин», прочитавший статью… Беда в том, что вопрошатель Толстого едва ли выезжал на дачи. А если выезжал, то ему были доступны, только дощатые сооружения в Шувалове, Парголове, Перкиярви, откуда каждый день с портфелем под мышкой он должен ездить на работу в канцелярию, контору или редакцию… «Уехать на дачу» в голодающие губернии!.. Но тогда он немедленно очутится с семьей в положении того же «голодающего», так как у него нет ни богатого поместья, ни мужичьего надела, а только «образование», гонорар, построчная плата… Он продает свой труд за деньги… и отдать он может только деньги, столько-то рублей в месяц. А столько-то рублей – это, по условиям хлебного рынка, столько-то пудов хлеба… То есть столько-то накормленных людей.
Толстой – честь и слава его живому чувству – сам, по-видимому, не удовлетворился своим ответом, отступил от своей схемы, стал принимать денежные пожертвования и менять деньги на хлеб. И он сделал в голодный год большое и важное благотворительное дело…
А затем… Можно было думать, что этот резкий эпизод, это бьющее в глаза противоречие теории с неизбежной практикой (вред от раздачи денег – деньги зло; необходимость денежной помощи – деньги благо) заставит Толстого остановиться в новом раздумье и что отсюда начнется новое отрицание. Но на этот раз он удержался все-таки в занятой позиции, в атмосфере волшебного сновидения об иудее первого века. Хотя – кто знает – даже и теперь, покончит ли на этом неутомимый искатель, или мы услышим еще раз о новых сомнениях этого вечно бодрого ума… Паломник в страну непосредственности и гармонии духа опять, быть может, возьмет свой страннический посох, чтобы отправиться в новый путь, и самый поздний закат застанет его среди этого неусыпного вечного стремления… [78]78
Это писано в 1908 г. Чрезвычайно интересно проследить, как в последние годы жизни еще раз менялись некоторые взгляды Толстого. Символически – картина выдержана до конца. Смерть застала великого искателя в пути…
[Закрыть]
VI
Итак, Толстой-мыслитель – весь в Толстом-художнике, и изъяны его построений почти целиком вытекают из указанного выше пробела в области его художественных наблюдений. Его прекрасная мечта о водворении первых веков христианства может сильно действовать на простые, непосредственные или на уставшие души. Но мы, люди из просмотренного художником междуполярного мира, не можем последовать за ним в эту измечтанную страну. Для этого у нас нет ни достаточно воображения, ни достаточно досуга и, наконец, настроения. Жизнь, усложненная, запутанная современная жизнь с ее условиями обдает нас, междуполярных жителей, бурными вихрями от обоих полюсов. Мы тоже еще недавно верили в близкое царство божие на земле и так же, как Лев Николаевич, признавали формулу: все или ничего. Но суровая история борьбы нескольких поколений напомнила нам старую истину, что «царство божие нудится», что одной проповеди недостаточно даже для воспитания, что формы общественной жизни являются в свою очередь могучими факторами совершенствования личности и что необходимо шаг за шагом разрушать и перестраивать эти формы. В одной из статей Толстого приведены слова Генри Джорджа, которого Лев Николаевич ставит очень высоко. «Я знаю, – говорит Генри Джордж, – что предлагаемая мною реформа не водворит еще царства справедливости на земле. Для этого и сами люди должны стать лучше. Но эта реформа создаст условия,при которых людям легче совершенствоваться…» В этой совершенно правильной мысли – узел того спора, который разделяет порой так резко настроение Толстого-мыслителя и чтущей великого художника передовой части русского общества. Никто не отрицает, что человек должен стремиться стать и внутренно достойным свободы. Дело только в том, что между внутренней и внешней свободой есть органическая связь и для возможности самой проповеди о внутреннем совершенствовании необходимы лучшие, более нравственныеформы общественных отношений. И вот почему идет эта тяжкая борьба, которая потребовала уже столько жертв из той именно сферы жизни, которую проглядел Толстой-художник и с которой не желает считаться Толстой-мыслитель и моралист. И потребует еще много. И не для «всего», не для водворения сразу царства божия на земле, которое кажется таким простым, если бы всезахотели и могли поверить озаренному светлому сну о первом веке христианской эры, а только для того, чтобы ступень за ступенью, ряд за рядом класть основы, на которых будет построен храм будущей свободы. И когда среди этой тяжкой борьбы, порой идущей среди тьмы и тумана, иудей первого века смотрит с пренебрежительной усмешкой или с тяжким упреком на эти усилия, осуждая не только средства, которые разнообразны, но и цели, за которые люди (а теперь уже массы людей) отдают свою жизнь, – то становится понятным чувство ответной горечи, которое являлось временами по адресу Толстого среди передовых слоев борющегося общества и народа… И порой невольно приходит в голову, что только благодаря тому, что Толстой знает, видит, чувствует лишь самые низы и самые высоты социального строя, – ему так легко требовать «все или ничего», так легко отказываться от «односторонних» улучшений, вроде конституционного строя и ограничения законом внешнего произвола во всех его видах. Низы долго страдали и безропотно, смиренно терпели… До высот, особенно до той высоты, на которой стоит гениальный художник, – не может доплеснуть волна никакого утеснения. А нам, людям из неведомой и непризнанной области, нам нужен от времени до времени хоть глоток свежего воздуха, чтобы не задохнуться в этом царстве гнета и безграничного произвола…
А теперь уже не мы одни, междуполярные жители, но самые низы готовы, по-видимому, отказаться от «внутренней свободы» безропотного и безграничного терпения… И пока будет устроен на земле рай полнойсвободы – они хотели бы раздвинуть и расширить свое теперешнее помещение, сломать ненужные, сгнившие постройки и – главное – почувствовать себя хоть до известной степени хозяевами в собственном доме.
VII
Я пишу не панегирик к юбилейному дню, а стараюсь только дать посильную характеристику гениального художника и крупного, искреннего, смелого человека. Толстой не нуждается в дифирамбах, а характеризовать его правильно, со всеми свойствами его выдающейся личности – значит дать образ, вызывающий восторг и удивление. Без указания же на отмеченные выше черты характеристика была бы не полна…
Но в той же толстовской мечте есть также источник его силы как беспощадного критика современного строя. Мы не можем последовать за Толстым в измечтанную им область. Но искренняя мечта всегда была отличным критерием действительности. Где теперь было бы человечество, если бы по временам действительность не вынуждалась стать перед судом мечты. Притом же нельзя забывать, что простые истины, вынесенные из первого века нашей эры, являются признанными, официально освещенными и закрепленными основами нашего строя. Это та формальная почва, которая является для современного государства источником его показной официальной морали. И в этой области выходец из первого века, со всей своей наивностью и даже благодаря ей, может сказать с большим авторитетом много живого и интересного.
И вот под влиянием своего чудного сновидения, в котором он сам слышалслова Учителя, – Толстой смотрит на нашу действительность и в изумлении протирает глаза при виде всего того, с чем когда-то так страстно мечтал примириться. Как? Так это христианство? Как? Это – общество, основанное на заветах Христа!.. Иудей первого века глубоко изумлен, а всякая изумленная фигура среди сутолоки будничной жизни невольно привлекает общее внимание, возбуждает и заражает…
Отсюда изумительное искусство Толстого говорить общеизвестные истины. Да, именно общеизвестные истины говорить очень трудно, то есть говорить так, чтобы они приобретали свежесть, оригинальность и жизнь, а именно в этом особенно нуждается наша современность. Мы, образованные люди, знаемочень много, но в нашей жизни сделаноочень мало из того, что для нас стало уже избитой, азбучной истиной. Отсюда – многое в нашей современной литературе и, между прочим, стремление к тому, «чего никогда не бывало». У нас – секут мужиков вповалку, иногда женщин и детей и старых почтенных стариков. Это позорно. И это незаконно. И об этом говорилось много раз. И говорилось как о вопиющем и позорном нарушении человеческого права, но… господа губернаторы продолжают свои упражнения давно – ив «мирное время» столь же свободно, как и во время смуты, любой петербургский пшют, очутившийся, благодаря протекции, в роли помпадура, приказывает разложить почтенного старика, который годится ему в прадеды, а в своем деле во сто раз умнее, чем помпадур в своем, и… в воздухе свищет лоза. Мы узнаем это и, если сможем, напечатаем негодующую статью, в стиле которой, однако, звучит скрытое уныние и скука: и погромче нас были витии… Ни для кого это, увы! – не новость.
Но вот в один прекрасный день в конце 80-х годов такой легковесный администратор в Орле отправляется в экспедицию и производит экзекуцию над мужиками. Конечно, все это сойдет ему благополучно… Однако через некоторое время откуда-то налетает вихрь, и карьера орловского помпадура разбита. Что же случилось? Ничего особенного. Только иудей первого века узнал об этом эпизоде и изумленно вскрикнул, что это не по-христиански. Но разве мы все, сверху донизу, этого не знали? Разве это не общеизвестная истина? Да. Но Толстой, из глубины своего настроения иудея первого века, сумел сказать эту истину так, что она вновь потрясает не только готовое к негодованию «общество», но и тех, кто терпел, поощрял, даже награждал ретивых помпадуров за такие же мероприятия. Сказал Толстой… Это много. Но еще – сказал «иудей первого века христианской эры», – а это, пожалуй, еще больше.
И дело, конечно, не в том, что один администратор, легкомысленный и жестокий, потерял карьеру. Придут другие, не менее легкомысленные и жестокие. Это мы знаем лучше и тверже, чем иудей первого века… Но дело в том, что под пером Толстого такие «общеизвестные истины» теряют свою тусклость и избитость, сверкают опять всеми красками жизни, будят новое негодование, тревожат, вновь заставляют искать выхода… И еще: они перестают быть мертвым капиталом, лежавшим на сохранении до лучших времен, а расходятся широко, проникая и захватывая такие слои, где раньше царила тупая непосредственность, жалкая покорность или слепое безразличие.
В такие моменты преграда между Толстым-проповедником и его принципиальными противниками из среды междуполярных жителей рушится. Потому что в его речах слышится глубокая искренность. И когда онговорит о непротивлении злу насилием, то он не похож на тех фарисеев, которые обращаются с своей проповедью исключительно к стороне слабейшей. Толстой уже раньше бесстрашно и резко осудил тех, кто обладает властью и силой и кто пытается обосновать эту власть на авторитете христианства и его морали…
И в ту минуту, когда я пишу эти строки, весь образованный мир читает опять одну из «общеизвестных истин» в освещении Толстого: его простые слова на азбучную тему о смертной казни опять потрясают людские сердца… И, конечно, все, что может сделать человеческое слово в прямом смысле и еще более – что оно может сделать косвенно, освещая мрачные бездны нашего порядка, – все это сделает слово гениального мечтателя, которому приснилось однажды, что он слышит в знойной пустыне слова любви и мира из уст самого великого Учителя…
VIII
Есть еще одна сторона в огромной и сложной личности Толстого-писателя, которая заставляет нас, междуполярных жителей, сочувствовать Толстому-мыслителю и восхищаться им даже в тех случаях, когда мы принципиально далеко не во всем с ним согласны: он поднял печатное слово на высоту, недосягаемую для преследования.
Правда, для самого Толстого тут есть источник своеобразного нравственного страдания. Около двадцати лет назад я, еще молодым человеком, только что вернувшись из отдаленной ссылки, в первый раз посетил Толстого, и первые его слова при этой встрече были:
– Какой вы счастливый: вы пострадали за свои убеждения. Мне бог не посылает этого. Заменя ссылают. Наменя не обращают внимания.
Это понятно: запечатлеть свою проповедь жертвой за исповедуемые идеи – стремление всякого проповедника, и Толстой много раз после этого печатно бросал русскому правительству упрек в непоследовательности и неправосудии: почему гонят, сажают в тюрьмы, преследуют тех, кто увлечен его проповедью, и оставляют в покое самого проповедника?
Еще недавно, полемизируя с Толстым, официозный орган «конституционного» министерства отвечал между прочим и на этот упрек. Что делать, говорит «Россия», Толстой – плохой мыслитель, но он же и великий художник. Его проповедь (например, против смертной казни?) очень вредна, но злая судьба создала правительству специальное затруднение в пресечении этого вреда: приходилось бы преследовать великого художника, к которому чувствуешь «невольную нежность», которого необходимо беречь…
Внушить «невольную нежность» людям, защищающим применение смертной казни как повседневное, широкое, бытовое явление, – уже это, если принять а la lettre [79]79
Буквально (фр.) – Ред.
[Закрыть]заявление официоза, является, конечно, огромным нравственным завоеванием. «Другие», не столь официозные, но одинаково во многом настроенные люди такой нежности не испытывают: по всей России идет теперь исступленный поход против великого писателя и против его чествования благодарным русским обществом, а известному кронштадтскому иерею даже приписывали особую молитву, очень напоминающую доклад по департаменту о необходимости скорейшей административной высылки великого писателя за пределы этого мира: он будто бы кощунственно просил у бога скорейшей смерти Толстому. О, как далеко это «христианство» от того учения, которое иудеи первого века слышали на берегах озер и с пустынных холмов [80]80
Впоследствии писали, что сочинение этой молитвы, ходившей по рукам в известных кругах, приписывалось Иоанну Кронштадтскому неправильно.
[Закрыть].
Да, нежность к великому русскому художнику ретроградных слоев русского общества, потрясаемого простым и могучим словом «плохого мыслителя», – очень условна. И однако факт остается: Толстого не решились тронуть, хотя никакие запреты не в состоянии остановить распространение его мыслей и его наивно-простых, но ужасных обличений. Толстого это печалит. Мы не можем этому не радоваться.
И не только потому, что нам при всех наших разногласиях дорог этот неугомонный великий старец, но и потому, что в нем мы видим первую победу свободы совести и мысли над нетерпимостью и гонением. Да, он поднял свободное слово на такую высоту, перед которой преследование бессильно.
И это он сделал только внутренней силой своего гения. Великий художник создал это положение смелому мыслителю. Мы не великие художники, и вся остальная литература бредет еще в густой тьме произвола и бесправия. Но впереди, перед нею, возвышаясь светящимся колоссом, стоит над туманами, заволакивающими еще поле русской жизни, могучая фигура, шагнувшая за пределы этой тьмы и этого бесправия. И мы чувствуем с особенной силой, что он все-таки наш, и гордимся, что он достиг этой высоты силою одного только слова. Нас ободряет то, что он вынес свет свободной совести и слова за пределы угнетения. И, глядя на высоко поднятый им факел, мы забываем наши разногласия и шлем восторженный привет этому честному, смелому, часто заблуждавшемуся, но и в самых ошибках глубоко искреннему великому человеку…
1908
Лев Николаевич Толстой. Статья вторая *
Блаженны алчущие и жаждущие правды.
I
Кто-то – если не ошибаюсь, Лессинг – сказал: «Если бы бог протянул мне в одной руке абсолютное знание, а в другой только стремление к истине и сказал: выбирай! – я бы тотчас ответил: „Нет, творец! Возьми себе абсолютное знание, вечное и неподвижное, а мне дай святое недовольство и непрерывное, беззаветное стремление“».
Л. Н. Толстой – яркий представитель такого стремления, беспокойного, бескорыстного, неустанного и заразительного.
Формулы, в которые Толстой от времени до времени заключает это свое стремление, как готовую истину и как мораль для поведения, менялись не один раз, как менялись они у его героев – Пьера Безухого, Левина. Если посмотреть на Толстого с этой точки зрения, то весь он – на протяжении своей долгой и гениальной работы – одно зыбкое противоречие.
Вот, например, одна из таких формул:
«Благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передают ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие люди в этих случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор,пока в душе его чувство оскорбления и местине заменяется чувством презренияи жалости…» [81]81
«Война и мир», 7-е полное издание соч., т. VIII, стр. 170.
[Закрыть]
Эти слова, в которых чувство «противления» сказалось во всей своей непосредственности и даже крайностях, где даже к побежденному врагу нет другого отношения, кроме жалости, смешанной с презрением… Можно ли поверить, что они написаны той же рукой, которая впоследствии писала другие строки: если бы даже дикие зулусы вторглись в страну, убивая стариков и детей, насилуя жен и дочерей, – и тогда христианин не в праве дать волю «чувству вражды и мести», и тогда он не может силу противопоставить силе…
А между тем это писала действительно одна и та же рука… Этого мало: формула абсолютного непротивления продиктована тем же основным душевным мотивом, из которого вышла жестокая сентенция о благе нерассуждающей вражды и мести…
Этот мотив, единый и никогда не изменявшийся у Толстого, – искание правды, стремление к цельному душевному строю, который дается только глубокой, неразложимой анализом верой в свою истину и непосредственным ее применением к жизни.
II
Тоска по непосредственности и искание веры, дающей цельность душевного строя, – такова основная нота главных героев Толстого-художника, в которых всего полнее отразилась его собственная личность.
Мир раскололся – и трещина прошла по сердцу поэта, – сказал Гейне. Замечательный образ, многое объясняющий в нашем душевном строе. Мир раскололся давно – и одна часть человечества идет по солнечной стороне великой социальной трещины, другая бредет в темноте и тумане. В наше время особенно чувствуется, что трещина приходится по сердцам на одних поэтов, и Толстой с необыкновенной силой таланта и искренности умеет изображать это ощущение душевного разлада людей, оставшихся на солнечной стороне. Вся его жизнь, вся его гениальная работа как художника и мыслителя есть выражение этого душевного разлада, истекающего из сознания великой неправды жизни, и стремление к исцелению в какой-нибудь единой вере, способной примирить противоречия, внести мир и гармонию в смятенные души.
Одно время не только Толстому казалось, что душевная цельность осталась только в простом народе как дар судьбы за тяжкое бремя страдания и труда. Но этот дар стоит всех благ, которые унесли с собой счастливцы, идущие по солнечной стороне жизни. Он драгоценнее даже знания, науки и искусства, потому что в нем заключена цельная всеразрешающая мудрость. Неграмотный солдат Каратаев выше и счастливее образованного Пьера Безухого. И Пьер Безухий старается проникнуть в тайну этой цельной мудрости неграмотного солдата, как сам Толстой стремится постичь мудрость простого народа.
Едва ли случайно великий художник взял для самого значительного из своих произведений эпоху, в которой непосредственное чувство народа спасло государство в критическую минуту, когда все «рациональные» организованные силы оказались бессильны и несостоятельны. Гениальность Кутузова как полководца Толстой видит лишь в том, что он один понял силу стихийного народного чувства и отдался этому могучему течению, не рассуждая, слепо, с закрытыми глазами. Сам Толстой, как его Кутузов, в этот период тоже был во власти великой стихии. Народ, его непосредственное чувство, его взгляды на мир, его вера – все это, как могучая океанская волна, несло с собой душу художника, диктовало ему жестокие сентенции о «первой попавшейся дубине», о презрении к побежденным. Это цельно, и, значит, в этом закон жизни. Вчитайтесь внимательнее в изумительную эпопею народной войны, и вы найдете там, с удивлением, может быть, с душевным содроганием, почти оправдание убийства пленных… Это делал народ, не знающий душевного разлада, обладающий мудростью цельного, неошибающегося непосредственного чувства, более правильного, чем все расчеты… Значит, в этом правда…
III
Однако человек, который умел так изобразить душевный разлад, муку сомнений и исканий, как их изобразил Толстой в Левине, Безухом, Нехлюдове, не может надолго остаться в таком настроении. В силе народного подъема в эпоху освободительной борьбы с внешним нашествием он нашел непосредственныйпорыв и весь поддался гипнозу этого народного порыва, могучего и цельного, непосредственного и нерассуждающего. Искания этой непосредственности и для себя приводят его к жажде такой же цельности. Но эта цельность – все-таки чужая. А сомнения и душевный разлад Пьера, рефлексии Левина, его падения, ошибки, все новые и новые искания, это – свое,родное, органически присущее душе самого Толстого. И по мере того как обаяние великой эпопеи, овладевшей душой писателя, ослабевало, сомнения поднимались снова, анализ начинал подтачивать гипноз «простой веры» Каратаевых… «Власть тьмы», в которой мудрый простой народ изображен на крайних ступенях темноты и порока, наметила новую фазу в эволюции Толстого. Художник оказался способным дать эту картину. Это значило, что мыслитель освободился от подчинения народному мировоззрению, вышел на новый путь для своих неутомимых поисков.
Нужно бы написать целую книгу, чтобы проследить захватывающую историю этих скитаний великого и беспокойного духа в поисках за исцеляющей гармонией истины. В другом месте я попытаюсь с несколько большей подробностью наметить главные этапы этого пилигримства. Здесь скажу только, что, разложив своим анализом все то, чему поклонялся еще недавно в «простой и цельной народной вере», Толстой не нашел успокоения и убежища во всем современном мире. По собственному признанию в «Исповеди», мир в это время казался ему мертвой пустыней. Ум безрадостен и сух, «народная вера» полна лжи и суеверий… На этом распутье Толстой-художник протянул руку истомленному страннику-мыслителю, и гениальное воображение создало для него мир прекрасной и великой мечты. В эпоху «Войны и мира» перед восхищенным взором Толстого колыхался океан душевной цельности проявляющегося и борющегося народа. И он признал эту цельность борьбы законом жизни. Теперь послушная мечта развернула перед ним картину другой цельности, такой же могучей, такой же стихийной и такой же захватывающей. На него повеяло настроением другого народа, который на заре христианства под грохот разваливающегося старого мира готовился завоевать человечество не чувством вражды и мести, а учением любви и кротости… Обаяние этой мечты охватило его, убаюкало беспокойную мысль, унесло на своих волнах в страну непротивления, к душевной ясности христиан первого века… Через тьму столетий до его слуха донесся призыв Христа, и надолго он остается в своей измечтаннои стране, призывая мир, мятущийся и страдающий в сетях непримиримых противоречий, в свое мирное убежище…
IV
Таковы противоположные полюсы единого душевного стремления, такова в сухих и общих чертах история этой яркой, великой жизни. Сквозь тьму веков из страны своей мечты великий художник и искренний мыслитель смотрит орлиным взглядом на противоречия и несовершенства нашей жизни, и это особенное положение делает такой неотразимой его критику нашего строя, считающего себя тоже основанным на христианских началах.
Правда, мы не можем последовать за Толстым в страну его мечты. Но сладость этой мечты мы чувствуем и глубоко ценим искренность его неустанных исканий правды. И, кроме того, мы понимаем, что если мыслитель порой закрывает глаза на то, что между первым веком христианства и нашей современностью залегли бездорожья и туманы девятнадцати столетий, в течение которых родились новые, сложные и непредвиденные условия, то все же отголоски великих истин, прозвучавших тогда для человечества, отдаются порой в голосе художника-мечтателя с такой силой, которая как бы разгоняет туманы веков. На их обаяние отзываются простые сердца, а среди фарисеев великого учения и среди торгующих в храме они порождают смятение и тревогу…
Теперь среди все возрастающего смятения, под мрачными тучами, завесившими наш горизонт, великий художник и смелый искатель правды стоит на величавом закате своей жизни, а вокруг него, проповедующего кротость и непротивление, кипят и волнуются страсти, начиная от восхищения и восторга и кончая темной ненавистью и враждой…
Пройдут еще годы, десятилетия, века… Страсти нашей исторической минуты смолкнут. Быть может, закроется уже и великая трещина, раскалывающая мир на счастливых и обездоленных от рождения; человеческое счастье, человеческое горе и борьба найдут другие, более достойные человека формы, умственные стремления направятся в своем полете к новым целям, теперь недоступным нашему воображению. Но даже и с этого отдаления на рубеже двух давно истекших столетий еще будет видна величавая фигура, в которой, как в символе, воплотились и самый тяжкий разлад, и лучшие стремления нашего темного времени. Это будет символический образ гениального художника, ходившего за мужицким плугом, и российского графа, надевшего мужицкую сермягу…
1908








