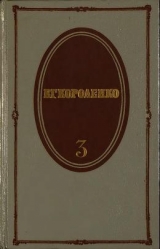
Текст книги "Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 51 страниц)
В журнале «Русское богатство» в марте 1899 года была напечатана очень интересная статья, озаглавленная «Переселенец о Сибири». Статья эта была прислана из Каннского округа Томской губернии и писана крестьянином. Автор ее, Иван Ефимович Беляков, человек хорошо грамотный и очень толковый. То, что он рассказывает своеобразным языком умного самоучки, тем любопытнее, что статья изображает взгляды не одной только темной крестьянской среды, но и более развитой части крестьянства того сравнительно недавнего времени.
Беляков – переселенец. «Наше село Пушкино, – писал он, – (в 1898 году) было крепостное, господ Столыпиных, а раньше Мордвинова. Местоположение его прекрасное, с ровными поемными лугами и протекающими вдоль и поперек речками. Одна из них, Сивин, впадает в Мокшу, а сама Мокша – в Оку, у Саровской пустыни. Есть и леса с вековыми дубами и другим чернолесьем. От города Инсары наше село отстоит к северу на 25 верст; а от станции Инсары Московско-Казанской железной дороги всего лишь 4 версты. Одним словом, – говорит автор, – я бывал и видал много мест на запад, на юг и на север и нигде не находил такого прекрасного по природным условиям местоположения: леса казенные не далее 4-х верст, земля с хорошим черноземом, всякий хлеб, что ни посеешь, народится по ее плодородью и умеренному климату. Кто бы ни побывал в нашем селе из временно служащих, как-то: попы, управляющие, волостные писаря и последние подлецы кабатчики – все они через месяц принимают вид здорового телосложения».
Одним словом, свою родную сторону автор рисует настоящим земным раем. Почему же его жители переселились в Сибирь? Дело в том, что раем эта сторона была не для всех; пахарям жилось в ней много хуже, чем в других местах.
Причину этого автор рисует следующим образом:
«Когда наступил долгожданный день 19 февраля 1861 года, то есть свобода русскому народу от крепостной зависимости, и правительство хотело наделить землицей по 3 дес. на каждую ревизскую душу и 50 дес. строевого леса (на общество), то земли наши старые дураки на коленях выпросили лишь по 3/4 десятины, а от остальной просили христом-богом бурмистра и посредника их уволить. Бурмистр и посредник все силы употребили, чтобы посадить пушкинцев на полном наделе, а пушкинцы думали, что если-де нас царь-батюшка отобрал у господ, то и землю, которая осталась за помещиками, тоже отберет и отдаст ее нам даром.
Наш барин жил в то время в Москве и то и дело писал, чтобы старики взяли земельку… Наши господа были люди добрые, а бурмистр, наш односелец, клялся своими детьми, что-де вам, старым дуракам, желают добра, и, хоть крепостное право уже кончилось, многим задавал хорошую баню. Посредник до трех раз выходил к сходу с вопросом: отказываетесь ли от надела? „Отказываемся, – отвечали крестьяне, – ваше благородие, пожалейте, посадите на дарственный надел“. Посредник на это в ответ, закрывши актом лицо, неудержимо хохотал: чего эти глупцы просят…»
«И что же вышло из этого далеко знаемого, богатого села Пушкина после реформы?» – спрашивает автор. Надела крестьяне так и не приняли. А затем – «насел управляющий Иван Журавлев, крутого нрава, положил на землю 28 рублей и 45 рублей десятину», и пушкинцам пришлось напрасно с 1861 по 1886 год тягаться за ту же землю, от которой они отказывались, слезно умоляя на коленях посадить их на даровой надел.
Оказалось, что и помещик, и мировой посредник, и односелец голова давали пушкинцам добрые советы. Вообще нужно заметить, что в то время в среде образованного общества у крестьян было много доброжелателей, а обе семьи, названные автором в качестве владельцев села Пушкина, были исстари проникнуты традициями просвещения. Семья Мордвиновых дала известных в истории XVIII и начала XIX века деятелей и писателей, один из Столыпиных был друг Лермонтова. Самое освобождение крестьян в 60-х годах без глубоких потрясений было плодом не одной только царской воли, но и сознательного стремления наиболее просвещенных слоев общества.
Но народ не знал и не признавал этого. Господское просвещение казалось ему враждебным и чуждым. Между царем и народом он представлял себе лишь сплошную массу чиновников и помещиков, стремящихся заодно обмануть царя и всячески обездолить народ. Все образованные люди – в сюртуках ли или в мундирах – представлялись русскому крестьянину на одно лицо – хитрыми врагами. Только цари рисовались природными и естественными доброжелателями народа. Они только и думают о народном благе, от них только и следует ждать облегчения. И вот, когда до обездоливших себя пушкинцев дошли сведения о правилах для переселенцев, они сразу истолковали этот акт: господа успели-таки испортить и извратить царскую милость, и свобода оказалась неполной, а крепостная зависимость осталась и в новых формах. Это оттого, что царь не может справиться с господами европейской России… Но в Сибири у него много собственных земель, а помещиков там нет вовсе… Кто успеет добраться до Сибири, тот окажется там лишь в милостивой царской воле. Там царь уже строит новые села, для чего из других земель нагнали плотников. «Царь все уже приготовил, только идите, дети, на землю мою от господ… Я лучше, говорит, растворю один амбар с деньгами, а уж господам не дам опять крестьян. У меня в Сибири земли много. Солдатчества не буду требовать до третьего поколения, а о податях и помину в Сибири нет».
В уме Белякова, который все это описывает, мелькали порой сомнения… Ему попадались книжки, в которых образованные люди писали о Сибири и о жизни переселенцев на новых местах. Читал он чиновника Голубева, Марусина, полковника Надарова (о Южно-Уссурийском крае), но веры этим писаниям даже и он не давал. П. А. Голубев, как и Марусин-Швецов были интеллигентные люди, не своей волей попавшие в Сибирь, люди очень хорошие (я лично знал обоих). Но автору они казались просто господами, которые «не иначе как посланы из господских детей, чтобы оконфузить Сибирь, чтобы народ не уезжал от помещиков».
Многим еще памятно огромное и чисто стихийное движение переселенцев в Сибирь в 80-х годах. Простодушных пахарей манила сказочная страна, где добрый царь ждет своих деток, чтобы окончательно осчастливить их. Царская легенда сияла впереди путеводной звездой, увлекая за собой десятки и сотни тысяч темных людей, веривших в эту легенду, как в откровение. Несмотря на массу статей по переселенческому вопросу, на ряд корреспонденции, рассказов, картин, которыми образованные люди пытались осветить положение переселенцев в Сибири, целые тучи крестьян летели, как бабочки на огонь, в чудесную страну, где маяком светился перед их духовными взглядами образ доброго царя, зовущего своих детей в земной рай. Увлеченные сказкой, люди шли и гибли сотнями. Беляков очень простодушно рассказывает о разочарованиях, которыми сразу же встречала переселенцев Сибирь.
«Была у нас одна старуха 70 лет… На родине она жила хорошо, даже содержала годовых работников. Проснулась она как-то ночью и увидела месяц, который ей показался совсем другим месяцем, а не какой она видела на родине: будто он ниже ходит, чуть-чуть за землю не задевает и тут же, не пройдя больше трех сажен, закатывается. И вот наутро она встала и говорит: „В Сибири и месяц другой, а не наш, российский. Наш-то повыше ходит и закатывается в это время за барским двором. А этот как встал, так тут же опять и ушел под землю. И как же мы тут будем жить?“ И, долго не думая, заткнула сарафан к поясу и побрела обратно по дороге к Омску». Сын нагнал ее уже верст за 10 и с помощью других насильно взвалил на телегу и повез дальше. Что ему было до месяца: впереди светился сияющий образ могущественного и добродетельного царя. Даже когда оказалось на месте, что никаких амбаров с золотом никто не отворял, даровых семян новоселы не получили и осталась добрая половина даже без хлеба, – то и тогда сияющий образ царя не померк: это его опять скрыла господская туча, рассуждали крестьяне.
Славянофилы, как известно, разделяли и поддерживали эту народную мечту, и вообще у нее была своя философия не в одной России. Известно, как радужно смотрел на самодержавие английский историк-философ Карлейль. Мне самому пришлось встретить такой же взгляд у европейца. Я начинал свою литературную карьеру, когда меня посетил очень известный теперь чешский деятель – Крамарж. Он с большой горечью говорил о «конституционных» притеснениях чехов австрийцами и о том, что в самодержавной России борьба за свободу была бы легче. Я думал иначе и приводил факты: у нас всякая попытка борьбы за интересы народа подавляется крутыми мерами самовластия. У них политическая борьба трудна. У нас она совсем отсутствует, и в этом в значительной степени виновато романтическое представление народа об общественных отношениях и вера в то, что одни цари могут дать ему настоящую волю. Крамарж с этим не согласился.
– Вера, – говорил он, – двигает горами. Народ ваш верит в своих царей. Конечно, самодержавие, не докончив реформы, свернуло на путь реакции, но это лишь временное недоразумение. И солнце порой скрывается за тучами. Они могут рассеяться. Александр II освободил крестьян… Возможно опять что-нибудь великое в том же роде, и Россия сразу двинется на столетие вперед. Народ чувствует это в своей наивной вере в самодержавных царей.
Мудрено ли, что наш народ-пахарь, невежественный, темный, удаленный от широкой общественной деятельности, «народ не политик», как говорили славянофилы, держался своего взгляда на протяжении почти полустолетия после освобождения… Мудрено ли, что он посылал тучи переселенцев на царские земли в Сибирь и целые рои «ходоков» в Петербург, к царскому дворцу. Это движение ходоков было тоже огромно. Оно затихло только к началу нового столетия и нашло сочувственное отражение в литературе. Многие, вероятно, еще помнят маленький очерк Глеба Успенского (из серии «Наблюдения одного лентяя»). На улице появляется мужик и растерянно ищет чего-то. Когда его зазывают в комнату, то оказывается, что он ходок от мира насчет земли. Но объяснить, в чем дело, не может. Туманно и с усилием он говорит о том, что человек прах и земля тоже прах. «И ежели я, к примеру, пойду в землю, каким же родом с меня можно брать выкупные?» У этого ходока, очевидно, нет никаких представлений о законах, на которых основаны гражданские правоотношения. Он имеет дело только с самыми общими, может быть, возвышенными соображениями, которые, в свою очередь, не имеют связи с реальной жизнью современного общества, проникнутою идеями римского права. Мне пришлось во время моих ссыльных и иных скитаний не раз встречаться с такими ходоками. Это были настоящие подвижники мирского дела. Они самоотверженно несли тяготу своего мира, но их рассказы о тяжбах, за которые они пострадали, поражали детским непониманием самых простых вещей. Два брата Санниковы, например, которых я встретил в 70-х годах, в ссылке в Вятской губернии, были вполне уверены, что их землю просто-напросто захватил в свою пользу сильный человек, министр, по фамилии Финляндцев, так как в спорном лесу были поставлены столбы с надписью «М. Ф.» (Министерство финансов).
Мир действительных отношений был крестьянам совершенно непонятен и поэтому враждебен. Против этого непонятного мира они и выдвигали фантастическую идею «великого государя».
«Это понятие (писал я в 90-х годах), обвеянное мечтательным обаянием, неопределенно, сказочно, смутно и… анархично. „Великий государь“ этой сказки – прежде всего враг наличного государства, враг бар и чиновничества и находится с ними в постоянной борьбе… Это таинственная безличная сила, которая может быть приведена в движение и тогда непременно заступится за мужиков… Дойти до нее трудно, но есть какие-то особенные слова, которые ее приводят в действие. И те слова, как волшебные заклинания, не всегда знают мудрейшие и ученые. Отставной солдат, бредущий на родину из Петербурга, порой простой неведомый прохожий кинут иной раз такое „вещее слово“, и пойдет оно перекатываться от деревни к деревне, от мира к миру, как лесное эхо… И по дорогам к столице потянутся мирские ходоки, уверенные, что от проходящего человека они получили самую настоящую формулу заклинания…» [55]55
См. очерки «В пустынных местах». Гл. «Лесные люди».
[Закрыть]А по селам и деревням надеются, пропускают сроки в судах и все ждут, что оттуда, с высот власти, вдруг грянет желанное могучее слово.
Пока народ питал свои надежды этой сказкой, в самодержавии не сказочном, а действительном происходил, после короткого периода реформ, важный переворот. Александр II когда-то назвал себя «первым из помещиков». И он подавал пример освобождения сверху. Но чувства его все-таки были гораздо ближе к помещикам, чем к крестьянам. Скоро он удалил от себя советников начала царствования и вместо них приблизил Валуевых, Толстых, Победоносцевых. Они убедили его, что для крестьян сделано слишком много, а дворянство, наоборот, несправедливо обижено реформой. Великое движение страны, неудержимо двинувшейся вперед, было остановлено на всех путях. Права и влияние «обиженного сословия» восстановились, на поддержание естественно падающего дворянского землевладения тратились огромные государственные средства, власть дворянства над «всесословным» земством искусственно поддерживалась мерами администрации; литература прижималась, всякое стремление к общественной деятельности среди разночинского общества, а порой даже среди наиболее просвещенных дворян, – подавлялось в корне. Так шли дела при Александре II и Александре III. Они остановили также и развитие земельной реформы, не думая даже исправить такие явные ошибки, сделанные по темноте, как ошибка пушкинцев. И много по лицу всей русской земли явилось таких же обездоленных сел и деревень.
А народ по-прежнему верил в самодержавную сказку, считал образованное общество сплошь враждебным себе и готов был подавить всякое его движение против самодержавия.
При таких условиях я встретил на раздорожье лукояновских мужиков, покорно несших к становому астыревскую прокламацию о «мужицких доброхотах».
IV. История одной книгиЗакон всякой жизни, в том числе и общественной, – движение. Застой ведет к разложению и смерти. Застой в земледельческой стране, как наша, прежде всего отражается на земле.
С освобождением крестьян голодовки, довольно частые при крепостном праве, казалось бы, не должны повторяться. Но они появились вновь – сначала лишь частичные, потом все шире и чаще. В 1873 году от сильного голода страдала левая сторона Поволжья (Самаро-Оренбургская). В 1884 году голод захватил Казанскую губернию. Люди питались лебедой, ели даже кору, и о бедствии много говорили. Некоторые исследователи и экономисты предсказывали, что бедствие будет повторяться. И действительно, в 1890 году, а затем в 1891-м памятный голод поразил сразу все среднее Поволжье.
Самодержавное правительство отнеслось к бедствию довольно беззаботно. Сначала оно просто пыталось отрицать его. Газетам запрещено было употреблять самое слово «голод». Цензоры всюду заменяли его словами «недород хлебов». Это подавало повод к курьезам. В одну поволжскую газету была отдана статья: «Физиологические последствия голода». Цензор выполнил требование циркуляра, и статья появилась под заглавием: «Физиологические последствия недорода хлебов».
В то время я жил в Нижнем Новгороде, и Нижегородская губерния была одна из голодающих. Я решил побывать на местах, присмотреться к бедствию и написать ряд статей о голоде. Приступая к этим очеркам «Голодного года», я имел в виду не только привлекать пожертвования в пользу голодающих, но еще поставить перед обществом, а может быть, и перед правительством, потрясающую картину земельной неурядицы и нищеты земледельческого населения на лучших землях. Голод 1891 года во всякой другой стране вызвал бы огромное движение и пересмотр общего положения государства. Заговорили бы в парламентах, вероятно, сменились бы министры. У нас о парламентах тогда еще не было и слуху. Печать оставалась единственным скромным средством общественного воздействия.
Задача при наших порядках была нелегкая. Земледельческое население покорно и тупо несло свою долю, а правительство заботилось только о том, чтобы агитаторы из городов не попытались разбудить его от дремоты. Я был на плохом счету, а неблагонадежным людям нелегко было даже проникнуть в голодающие местности. Губернатор Баранов, тогда ко мне довольно благожелательный, предупреждал меня, что я рискую доносами и высылкой, а когда я настоял на своем желании, он вынужден был все-таки послать за мной специального соглядатая.
Затем нужно было провести эти очерки через цензурные затруднения. Сначала они печатались в «Русских ведомостях» с некоторыми невольными выкидками. Потом ежемесячный журнал «Русское богатство» решил перепечатать их из газеты, чтобы дать их в более цельном, менее разбросанном и значительно дополненном виде. Журнал был подцензурный, но цензура мягче относилась к перепечаткам, особенно из московских изданий… Воспользовавшись этим, я стал в первоначальный текст «Русских ведомостей» вставлять дополнения, которые цензор пропускал подряд, не замечая, что это позднейшие вставки. Наконец то, что окончательно задерживалось петербургской цензурой, я проводил в других журналах. Некоторые главы прошли в «Русской мысли».
Вот к каким хитростям приходилось прибегать русскому писателю, который тридцать лет спустя после освобождения крестьян хотел в самой скромной форме говорить в печати о невозможном положении земледельческого народа. В своих очерках я описывал лишь то, что видел. А видел я ужасные вещи, и самое страшное было то, что к этим ужасам привыкли. Лукояновские земские начальники, которые воевали не с голодом, а с попытками кормления голодных, доказывали, между прочим, что никакого голода, в сущности, нет. А если есть голодный тиф, то, говорили они, «ведь это у нас всегда». И это была страшная правда: ни голод, ни голодный тиф не выводились в уезде в самые урожайные годы… Были целые деревни, у которых хлеба хватало только до середины зимы. А с января приходилось нищенствовать. Во многих местах после того, как я кончал списки голодных, которых мы принимали в столовые, мужики окружали меня и говорили:
– А кто же поможет нам?.. Посмотрите на нас: нешто мы жители? Какие мы жители?
«Трудно представить себе, – писал я тогда, – впечатление этих слов: „какие мы жители“, когда целая деревня говорит это о себе… Унижение, потупленные глаза, стыд собственного существования… В одной деревне (Дубровке) у меня потребовали писать в столовую всех подряд…
– Все мы равны, все нищие… Какие мы жители… Земли у нас по пяти сажен на душу.
В некоторых местах составление списков для даровых столовых производило впечатление какого-то страшного кошмара. В словах, которыми характеризовалась бедность, было что-то жгуче-жестокое, устрашающее, отчаянное… „Не дышим… Разорвало от травы… Все помираем…“»
В темных курных избах с низкими потолками стлался низкий нездоровый пар, и стоял гул озлобленных, жестоких определений. Нищие силой проталкивались к моему столу. «Жители», хозяева, отталкивали нищих… «Мы хуже вас… Вы хоть просить привыкли». Бабы беспомощно плакали… Я с какой-то внутренней дрожью замечал себя в положении человека, дразнящего эту толпу напрасными жалкими подачками для нищих, тогда как население иных деревень было сплошь все на положении нищих… Порой прорывались озлобленные вопросы: «Ты что это пишешь? Кто еще такой приехал? Откуда взялся?» Голова начинала кружиться. Признаюсь, была минута, например в деревне Пралевке, когда у меня рождался вопрос: выйду ли я, выйдем ли мы все из этой темной избы?.. Или все ринутся и на меня, и друг на друга в общую свалку?..
Это, конечно, было лишь в некоторых местах, совершенно обделенных землей. По большей части это были так называемые четвертинки или дарственники, не согласившиеся во время освобождения крестьян принять выкупные наделы. Рассказанная выше история пушкинцев повторялась во многих местах, по всему лицу темной России, верившей только в царя. В деревне Дубровке мне показали седого лохматого старика, одного из тех, которые «при выкупе» обездолили Дубровку, не приняв надела. Тут в точности повторилась рассказанная Беляковым история. В Нижнем Новгороде во время освобождения был губернатором Муравьев, декабрист, бывший политический ссыльный, человек истинно доброжелательный к мужикам. Он лично выезжал в Дубровку, уговаривал мужиков взять надел. Об этом и рассказывал этот старик. «Нечего сказать: правду он говорил тогда. Что вы, говорит, мужики. Опомнитесь… Берите надел… Мы не верили… Потом осердился (человек был крутой) и даже принялся сечь…» Но дубровцы уперлись… По этой мужицкой Руси носились сказочные слухи… «Зачем платить за землю? Что господа станут делать с землей? Без крепостных они и сами бросят землю и уедут за границу. А царь отдаст землю мужикам и без выкупных платежей». Но господа не уехали, и над упрямцами нависло опять крепостное право. Помещичья земля сомкнулась вокруг деревни, подошла к самой околице, «курицу некуда выгнать, сохе негде повернуться»… И вот в то время, как в других деревнях и селах рабочим одна плата, «вольная», – для дубровца существует другая, хотя дубровец работает рядом. Землю дубровец арендует дорого, самую плохую, истощенную… Когда на полях уже созрел хлеб, я видел эти поля. По одну сторону дороги моталось на ниве что-то тощее и жалкое, о чем говорят: «Колос от колосу не слышно голосу», а рядом наливался буйный экономический хлеб… «И ведь одни руки работали», – говорили мне дубровцы… Дело в том, что им сдавали самую плохую, выпаханную землю.
Таких четвертников, или дарственников, было много по всей России и на Украине. Все это порождало слепую, темную, но по существу справедливую вражду… «Кабы не Владычица, – говорил мне на дороге к Полетаевскому монастырю встречный местный мужик, – мы бы этот монастырь с четырех концов зажгли… Владычицу обидеть боимся». Оказалось, что монастырь владел землями, отделявшими полосой деревню от реки, и монахини, пользуясь этим истинно «безвыходным» положением, наложили на мужиков тяжелые повинности за простое право прогона скота к водопою…
– Кто же, ваше благородие, поможет нам, прочим жителям? – то и дело спрашивали у меня мужики, когда я кончал составление списков для столовых. Мне приходилось отвечать, что я не «высокородие», никакой власти не имею и в начальниках не числюсь… Но у меня была надежда, что, когда мне удастся огласить все это, когда я громко на всю Россию расскажу об этих дубровцах, пролевцах и петровцах, о том, как они стали «нежителями», как «дурная боль» уничтожает целые деревни, как в самом Лукоянове маленькая девочка просит у матери «зарыть ее живую в земельку», то, быть может, мои статьи смогут оказать хоть некоторое влияние на судьбу этих Дубровок, поставив ребром вопрос о необходимости земельной реформы, хотя бы вначале самой скромной.
Русский писатель – большой оптимист, я тоже русский писатель. Если мне удастся, думал я, обратить внимание хотя бы на эти пределы народного бедствия, на этих «нежителей», если удастся показать, как они остаются до сих пор в прежней крепостной зависимости и к какому справедливому озлоблению это подает повод, то, быть может, начнется некоторое движение в стоячей воде и наконец приступят хоть к этому маленькому уголку реформы… Об ней заговорит литература, ученые общества… Лиха беда начать. В этом деле все так связано одно с другим, что стоит нарушить этот запрет, эту печать невольного молчания, тяготеющего над вопросами земли – и необходимость серьезной земельной реформы выступит сразу во всем объеме…
В июле месяце 1894 года я напечатал в «Русском богатстве» последние, заключительные главы «Голодного года», и мы решили издать его отдельной книгой. Книга была набрана. Но вдруг над нею нависла цензурная гроза…
В Воронеже был вице-губернатор некто Позняк. Покойный писатель Эртель писал мне, что этот вице-губернатор, присутствуя на вечере в пользу голодающих, на котором читались выдержки из моего «Голодного лета», пришел в ужас и с трудом поверил, что все это напечатано в легальной газете. И случилось так, что этот же Позняк был вскоре назначен членом главного управления по делам печати. Одним из первых его дел по вступлении в новую должность была большая докладная записка, составлявшая донос одновременно на меня и на цензурное ведомство, допустившее печатание моих очерков.
«В июльской книжке журнала „Русское богатство“, – писал он, – появились заключительные главы статьи господина Короленко „В голодный год“… Автор задался целью воспроизвести в подробностях печальную картину равнодушия, непредусмотрительности и нерадения, которыми-де грешили многие местные, как земские, так и правительственные, деятели, особенно последние в лице земских начальников, при выяснении степени нужды пострадавшего от неурожая населения, и кстати отметить спасительное значение „добровольцев благотворительности“, явившихся на помощь народу помимо всяких требований и предписаний…»
Надо заметить, что в моей книге я, наоборот, указывал настойчиво и много раз ничтожное значение нашей благотворительности там, где государственная помощь отсутствует или направлена ложно. Так же бесцеремонно Позняк приписывал мне многое, чего я не писал, например, будто власти во время освобождения «насильно принуждали крестьян к принятию так называемых нищенских наделов». И тут я говорил как раз обратное: нижегородский губернатор Муравьев убеждал дубровцев к принятию полного надела, как и мировой судья – пушкинцев. Я не стану дальше отмечать эти «ошибки» цензора, тем более что главную сущность моей книги и мои намерения Позняк передал все-таки довольно верно.
«Основная мысль автора, – продолжает он, – последовательное обнищание крестьянства вследствие недостаточности наделов, настоятельно-де требующих правительственных мероприятий. По мнению господина Короленко, освобождение крестьян представляет картину, набросанную широкою и мастерскою кистью, но к ней придется еще вернуться… „Малый надел“, „даровой“ и „нищенский“ наделы – какие это знакомые, какие избитые термины по всему лицу нашего обширного, богатого простором отечества. Они-то и составляют почву, на которой сложилась жизнь Малиновки, которую я посетил в тот же день, и Пралевки, и Логиновки, и Козаковки, и многих других деревень в уезде, в губернии, по всей России… Отчего бы это ни происходило, но все же это пятна, портящие картину (освобождения), к которой, несомненно, придется еще вернуться не для одной только ретуши, но и для более смелых поправок в самой перспективе… И кому это нужно? Во всяком случае, не обществу, не государству. О, если бы печать могла и эти скорбные вопли Дубровок поставить в ряду практически неотложных вопросов, выдвинутых „голодным годом“…»
Я имею некоторое основание считать, что выступление Позняка было не случайно и не единолично. Одно время взгляды всех мужиконенавистников обратились к дальнему Лукояновскому уезду, где кучка дворян выступила с необыкновенной откровенностью против помощи голодающему крестьянству. «Гражданин» и «Московские ведомости» предложили им свои страницы, а иногда и свои бойкие перья. Писали инсинуации и доносы о крамоле. Но замечательно, что при этом ни разу не было попытки опровергнуть приводимые мною факты и цифры. Не упоминали даже моей фамилии. Я приписываю это тому обстоятельству, что в моей работе я пользовался, между прочим, указаниями и советами Николая Федоровича Анненского, заведовавшего тогда нижегородской земской статистикой. Один раз с благословения губернатора Баранова была сделана попытка нападения на данные этой статистики, но Анненский отразил их с таким блеском и силой, что после этого не только Баранов, но и сам защитник лукояновцев перешел на его сторону… Понятно, что с таким союзником никакие гласные опровержения мне не были страшны.
Теперь цензор Позняк выступал не с гласными возражениями, а с келейным бюрократическим доносом. «Итак, „черный передел“, – говорил он в своей записке, обобщая по-своему мои призывы к пересмотру наших земельных порядков. – Вот до чего договорился господин Короленко, откровенно братаясь на страницах подцензурного журнала в единомыслии с органами подпольной прессы…»
Легко представить себе тревогу, какая водворилась в цензурном ведомстве. Ведь это оно, начиная с цензора Елагина и кончая цензурным комитетом и главным управлением, допускало в течение многих месяцев проповедь «черного передела», тогда как, по словам Позняка, подобные идеи не могут быть терпимы даже и в бесцензурных органах печати как «опасные для общественного спокойствия» и «порождающие несбыточные надежды в малограмотных слоях общества»…
Наш цензор Елагин, искренний и довольно мрачный черносотенец, с горя запил. В «ведомстве» стали говорить о неприятностях, надвигающихся на главное управление… Предусматривали даже крушение некоторых карьер и возвышение новых звезд на цензурном горизонте. В литературных кругах с тревогой ожидали, что воссияет звезда Позняка, что было бы чрезвычайно вредно для всей печати.
Но… давно уже сказано, что Россия только и жива чиновничьей непоследовательностью. Бывают порой счастливые случайности, и одна из них оказалась в пользу моей книги. В то время в недрах самодержавного строя были еще живы деятели первой, либеральной половины царствования Александра II. Они уже были не ко двору, но самодержавие благодушно предоставляло им нечто вроде почетной опалы.
Один из таких обломков был некто Деспот-Зенович, поляк, бывший сибирский губернатор, известный своей честностью и независимостью. Теперь он состоял «членом совета министра внутренних дел» и живо интересовался литературой и общественными вопросами. Между прочим он следил за моими очерками и ждал выхода книги.
Узнав о записке Позняка, он поднял маленькую бурю в высших чиновничьих кругах. Он был человек настойчивый и пользовался большим уважением в своей среде. Ему удалось заинтересовать даже Победоносцева и Плеве. Первому он указал на мой теплый отзыв об одном, действительно интересном, священнике. Второй – тогда еще не министр фактически, но уже министр в возможности – слегка либеральничал и был в естественной оппозиции к фактическому министру внутренних дел Дурново…
Я говорю не о знаменитом Петре Николаевиче Дурново, тогда еще директоре департамента полиции, а о другом Дурново, Иване Николаевиче, бывшем черниговском предводителе дворянства и екатеринославском губернаторе. С миросозерцанием уездного предводителя, с некоторым внешним лоском, достаточным для придворного представительства, но необыкновенно невежественный и легкомысленный, он едва ли прочел в своей жизни хоть одну русскую книгу. И это-то, быть может, спасло мой «Голодный год».








