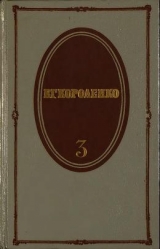
Текст книги "Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 51 страниц)
В 1853 году на острове Гернси в Ла-Манше человек по имени Джон Шарль Тапнер явился ночью к женщине и убил ее. Затем он ее ограбил и поджег дом. Расследование этого дела бросило ужасный свет на несколько других преступлений, в которых можно было подозревать ту же руку.
Тапнера судили. «Его судили с беспристрастием, – писал по этому поводу Виктор Гюго, живший на этом острове в качестве политического изгнанника, – судили с добросовестностью, которая делает честь свободному и беспристрастному суду. Тринадцать заседаний были посвящены рассмотрению факта. Третьего января 1854 года решение состоялось единогласно, и в девять часов вечера, в публичном и торжественном заседании, председатель суда, судья Гернси, объявил подсудимому разбитым и прерывающимся, дрожащим от волнения голосом, что „так как закон наказывает убийцу смертью, то он, Джон Шарль Тапнер, должен приготовиться к смерти, что он будет повешен 27 января на месте своего преступления. Там, где он убил, он будет убит“».
Виктор Гюго обратился к жителям острова с письмом, в котором, нисколько не смягчая отвратительного преступления Тапнера, предостерегал их против преступления общественного. «В эту минуту, – писал он, – среди вас, жителей этого архипелага, находится человек, который в этом будущем, неведомом для всех людей, ясно различает свой последний час… Когда все мы дышим свободно, говорим и улыбаемся – в нескольких шагах от нас в тюрьме находится дрожащий человек, который живет со взором, устремленным на один день этого месяца, на день 27 января, на этот призрак, который все приближается к нему. Этот день, для нас всех скрытный, как и все другие, перед ним уже обнаруживает свое лицо… мрачное лицо смерти».
Он убийца… Да… «Но, – продолжает Гюго, – какое мне дело до этого? Для меня, для всех нас этот убийца более не убийца, этот поджигатель более не поджигатель. Это дрожащее существо, и я хочу его защитить. Жители Гернси! Не дайте виселице бросить тень на ваш чудный остров… Не примите на себя страшной ответственности захвата божественного права человеческим правом. Кто знает? Кто проник в загадку? Есть бездны в человеческих поступках, как есть бездны в волнах. Вспомните о днях бурь, о зимних ночах, о темных и разъяренных силах природы, которые овладевают вами в иные минуты… Не допустите, чтобы в ваши паруса дул ветер с могил. Не забывайте, мореплаватели, не забывайте, рыбаки, не забывайте, матросы, что только одна доска отделяет вас самих от вечности… что и вы всегда находитесь лицом к лицу с бесконечным, с неведомым. Разве вы не будете думать с содроганием, что ветер, который будет свистеть в ваших снастях, встретил на своем пути эту веревку и этот труп?.. Ваши свободные учреждения отдают в ваше распоряжение все средства для того, чтобы выполнить этот священный, этот религиозный подвиг. Соберитесь законным порядком. Взволнуйте общественное мнение и совесть… Жены должны убеждать мужей, дети должны умолять отцов, мужчины должны составлять прошения и петиции. Обратитесь к вашим правителям и судьям. Требуйте отсрочки, требуйте смягчения правосудия. Спешите, не теряйте ни одного дня».
Это было пятьдесят шесть лет назад, по поводу предстоящей казни одногочеловека, после судебного разбирательства, длившегося тринадцать дней, со всеми гарантиями защиты и при полнейшей очевидности факта. Сердца моряков и матросов откликнулись на благородный призыв французского изгнанника, и остров рыбаков закипел петициями, собраниями и протестами против казни…
Что сказал бы теперь великий поэт и гуманист, если бы дожил до нашего русского «обновления» и увидел целую страну, где не один человек, а сотни и тысячи«живут со взглядами, устремленными на свой последний день, в то время как другие дышат свободно, разговаривают, смеются…» Где чуть не каждую ночь в течение нескольких уже лет происходят казни… Где предутренний ветер то и дело встречает на своем пути виселицы, веревки, качающиеся трупы и несет на поля, на деревни, на города «святой Руси» последние стоны и хрипы казнимых. Где в вагонах отцы рассказывают «спокойно» о гибели сыновей, почти мальчиков, и о непреклонности генералов Каульбарсов. Где самая казнь потеряла уже характер мрачного торжества смерти и превратилась в «бытовое явление», в прозаические деловые будни. Где не хватает виселиц, и людей вешают походя, ускоренным и упрощенным порядком, без формальностей, на пожарных лестницах, при помощи первых попадающихся под руку, обрывающихся, гнилых веревок… И потом так же наскоро зарывают трупы, торопливо, с цинической небрежностью, точно в самом деле во время повальной моровой язвы…
В июне прошлого года в газетах мелькнуло коротенькое известие, не обратившее на себя особенного внимания. В Екатеринославе на окраине города начали строить казармы. Едва землекопы принялись рыть фундамент, как тут же наткнулись на трупы казненных. Узнать их было нетрудно: трупы лежали в земле в кандалах [49]49
«Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.
[Закрыть].
Встает старая легенда, оживает мрачное суеверие седой старины, когда «для прочности» фундаменты зданий закладывались на трупах… Не достаточно ли, не слишком ли много трупов положено уже в основание «обновляющейся» России? «Кто знает, кто проник в загадку?» – скажем мы вместе с великим французским поэтом. Есть бездны в общественных движениях, как есть они в океане. Русское государство стояло уже раз перед грозным шквалом, поднявшимся так неожиданно в стране, прославленной вековечным смирением. Его удалось заворожить обещаниями, но «кто знает, кто проник в загадку» приливов и отливов таинственного человеческого океана. Кто поручится, что вал не поднимется опять, так же неожиданно и еще более грозно? Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период «успокоения»?.. Чтобы к историческим счетам прибавились еще слезы, стоны и крики мести отцов, матерей, сестер и братьев, продолжающих накоплять в «годы успокоения» свои страшные иски?
Нужно ли?…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На этом я пока заканчиваю эти очерки «бытового явления». «Продолжение» несет с собою каждый наступающий день, каждая «хроника» нового газетного листа, каждый новый приговор упрощенного военно-судного механизма. Мы не можем, подобно великому французскому писателю, сказать: «Наши свободные учреждения предоставляют все средства для борьбы в пределах закона» с этим обыденным ужасом. Мы не можем «собираться в законном порядке», не можем на этих собраниях «волновать общественное мнение и совесть», облекать это мнение в форме «петиций для обращения к правителям и судьям». Тем важнее, скажу даже – тем священнее обязанность печати хоть напоминать о том, что ужас продолжается в нашей жизни, чтобы не дать ему превратиться окончательно в будничное, обыденное, бытовое явление, своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознание и совесть.
В заключение считаю своею обязанностью принести искреннюю благодарность человеку, который в самом центре этого ужаса, в соседстве со смертниками имел мужество собирать, черта за чертой, этот ужасный материал и помог ему проникнуть за пределы тюремных стен и роковых «задних дворов».
Читать это тяжело. Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее… Но ведь это, читатели, приходится переживать сотням людей и тысячам их близких.
Март-апрель 1910
Легенда о царе и декабристе *
Страничка из истории освобождения
I
10 сентября 1856 года губернатором в Нижний Новгород был назначен генерал-майор Александр Николаевич Муравьев.
Послужной список нового губернатора был не совсем обыкновенный. Родился в 1792 году, девятнадцати лет участвовал в Отечественной войне, получил знак отличия за Кульмское сражение. Двадцати четырех лет был уже полковником, но в 1816 году, заразившись заграничными идеями, внезапно бросил службу и вместе с Никитой Муравьевым основал первое в России тайное общество «Союз благоденствия». Еще шаг – и он очутился в среде декабристов.
В «Росписи государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям» по делу о восстании 14 декабря, А. Муравьев значится в разряде VI, где о нем сказано так:
«Полковник Александр Муравьев. Участвовал в умысле цареубийства согласием, в 1817 году изъявленным, равно как участвовал в учреждении тайного общества, хотя потом от оного совершенно удалился, но о цели оного не донес» [50]50
См. «Декабристы» (официальные документы). Изд. В. М. Саб-лина.
[Закрыть].
По приговору суда государственные преступники этого разряда (которых, впрочем, было только двое: полковник Муравьев и дворянин Люблинский) подлежали ссылке в каторжные работы на шесть лет и поселению в Сибири. Но ввиду «чистосердечного раскаяния» участь А. Н. Муравьева была смягчена. Он был сослан в Восточную Сибирь без лишения чинов и орденов, а через два года получил право определиться в государственную службу. Бывший полковник, основатель «Союза благоденствия» и декабрист стал в 1828 году иркутским городничим.
С этих пор он проходил разные ступени чиновничьей иерархии, был последовательно председателем – сначала иркутского, потом тобольского губернского правления, исправлял временно должность тобольского губернатора, затем в 1834 году возвратился в европейскую Россию в качестве представителя вятской уголовной палаты. Потом занимал ту же должность в губернии Таврической, потом стал губернатором в Архангельске. В 1854 году опять поступил на военную службу и участвовал в севастопольской кампании. Здесь застала его перемена царствования.
Молодой император не скрывал своего желания приступить к освобождению крестьян. Искренность этих его тогдашних намерений обнаружилась, между прочим, в том, что он окружил себя людьми, настроенными освободительно: параллельно с оживлением в обществе и народе, в бюрократии тоже происходили соответственные перемещения и перемены. Муравьев решил опять бросить военную службу и отдать великому делу свою административную опытность, приобретенную в сибирских, вятских и архангельских чиновничьих дебрях.
Таким-то образом в тревожные, как грозовое весеннее утро, годы накануне реформы, когда в воздухе уже реяли всевозможные слухи и превратные толкования, когда в народе разносились крамольные вести о предстоящей свободе, а дворянство и власти растерялись и не знали, как отнестись ко всему происходящему, – Нижний Новгород был осчастливлен вестью о назначении губернатором основателя первого в России тайного общества, бывшего участника «в замысле цареубийства», декабриста, приговоренного некогда к каторге.
Что же представлял он на самом деле и каково «искреннее раскаяние», которое позволило «каторжнику» подвигаться по ступеням службы и занять наконец один из важнейших после Петербурга и Москвы губернаторских постов? Да еще в такое тревожное время?
Естественно, что этот вопрос, очень важный, пожалуй, трагический для тогдашних «командующих классов» нижегородского губернского мира, занимал всех при этом назначении. Ждать его разрешения пришлось недолго. Губернатор-крамольник обнаружил свою личность выразительно и ярко, надолго оставив по себе память в нижегородском крае.
II
В то время, когда я поселился в Нижнем, то есть в половине 80-х годов прошлого столетия, там еще сохранялись кое у кого списки многочисленных сатир и пасквилей, в которых поэты, главным образом дворянского сословия, пытались воспроизвести фигуру Муравьева в том виде, как она представлялась с дворянской точки зрения. Летописец нижегородского края, известный в свое время «областник» А. С. Гациский, тщательно собрал и сохранил от забвения эту рукописную литературу, передав ее в местную архивную комиссию. В 1897 году некто г-н Юдин извлек из архивных недр и напечатал в «Русской старине» (сентябрь) самое объемистое из произведений этого «муравьевского цикла», так и озаглавленное: «Муравиада». Нужно сказать с некоторым прискорбием, что это поэма очень грязная, написанная неуклюжим стихом и вообще бездарная до оскорбления вкуса. Но для характеристики Муравьева в ней все-таки есть интересные черты. Г-ну Юдину показалось даже, что она выражает отрицательное отношение к Муравьеву всего населения. Это наивность тем большая, что «всего населения» тогда, пожалуй, вовсе и не было. Были мужики, нетерпеливо ждавшие свободы и глухо волновавшиеся в этом своем нетерпении; было образованное общество, с восторгом встречавшее всякий шаг на пути освобождения, и было большинство дворян, растерянных и испуганных реформой. И у каждого из этих элементов было свое отношение ко всему, в том числе, конечно, и к Муравьеву. Не трудно было разглядеть, что «Муравиада» отражала губернатора-декабриста в крепостническом зеркале. Вся она проникнута острой, но бессильной враждой, вынужденной питаться пошловатыми, мелкими сплетнями, направленными вдобавок (не совсем по-джентльменски) не столько даже против самого Муравьева, сколько против жившей у него племянницы, фрейлины Муравьевой.
Надо, однако, отдать справедливость дворянской музе. Она не ограничилась одной «Муравиадой» и в некоторых не столь объемистых ее произведениях видны, пожалуй, и искренность, и одушевление. Искренность вражды, одушевление ненависти, но все же эти чувства подымают тон, диктуют порой яркие, гневные, иной раз даже слишком выразительные эпитеты.
Например:
И от злости ты ревел,
Лиходей лукавый,
Что в крестьянах не успел
Бунт возжечь кровавый.
Или:
Ты хитрейший санкюлот,
Хуже всех французских.
Девяносто третий год
Готовил для русских.
Самые мягкие из этих отзывов обвиняют Муравьева в том, что он
…популярности искал,
Свободы дух распространял,
Прогрессом бредил и народ
На бунт подталкивал вперед.
Особенно часто и злорадно дворянская сатира останавливается на так называемой «Муравьевской башне». В 80-х и даже 90-х годах остатки ее еще можно было видеть на высоком берегу Оки, против ярмарки, и нужно признать, что сооружение вышло не из удачных. Предполагалось водрузить на ней огромный циферблат, видный «со стрелки», который, по-видимому, должен был напоминать всероссийскому купечеству обязательные часы открытия и закрытия лавок во избежание законного штрафования. Оказалось, однако, что часы видны плохо. Башня, кроме того, дала трещины, и верхний ее этаж пришлось для безопасности проходящих снять. Дворянская сатира нашла в этом предмете обильную пищу, и около «муравьевской дылды» зароились стишки, остроты, обвинения, как грачи около ста-, рой колокольни. Много неуклюжих строк посвящено этой башне в «Муравиаде». Другой поэт видит в ее постройке скрытую цель:
Ты башню здесь соорудил…
Чтоб поколения земли
В виду ее с почтеньем шли,
Воспоминая всякий раз,
Как ты господствовал у нас,
Как вольность здесь восстановил,
Вопрос крестьянский в ход пустил.
Здесь дворянская муза непосредственно простодушна и искренна: она ставит вопрос прямо, не прибегая к мелкой сплетне. Для нее преступление Муравьева состоит в том, что он «восстановил вольность» и «пустил в ход крестьянский вопрос», что и было на самом деле. Однако – много было на Руси губернаторов, которые по приказу свыше и по долгу службы «восстановляли вольность» и содействовали по мере сил и усердия решению крестьянского вопроса, однако, сколько известно, ни один не вдохновлял в такой степени и такое количество дворянских сатириков, как Муравьев. Вероятно, потому, что в них видели просто исполнителей; на Муравьева же смотрели иначе:
Тайным действуя путем,
С молотком масона,
Он хотел быть палачом
И дворян, и трона.
Крепостническое дворянство чувствовало в Муравьеве не простого, хотя бы даже энергичного и умелого, исполнителя реформы. В его лице в тревожное время перед испуганными взглядами явился настоящий представитель того духа,который с самого начала столетия призывал, предчувствовал, втайне творилреформу и наконец накликал ее. Старый крамольник, мечтавший «о вольности» еще в «Союзе благоденствия» в молодые годы, пронес эту мечту через крепостные казематы, через ссылку, через иркутское городничество, через тобольские и вятские губернские правления и наконец на склоне дней стал опять лицом к лицу с этой «преступной» мечтой своей юности. Только теперь, – с горечью говорил дворянский поэт,—
…все изменилось:
За что он погибал,
За то теперь возвысился,
В чести и в славе стал.
И был это уже не мечтатель из романтического «Союза благоденствия», а старый администратор, прошедший все ступени дореформенного строя, не примирившийся с ним, изучивший взглядом врага все его извороты, вооруженный огромным опытом. Вообще противник убежденный, страстный и – страшный!.. Научившийся выжидать, притаиваться, скрывать свою веру и выбирать время для удара. Когда, – говорит автор «Муравиады»,—
…на губернаторство
К нам прибыл Муравьев,
Скрывалсвое он варварство,
Покуда здесь был нов.
Скоро, однако, он выпустил когти, и прежде всего, по свидетельству того же поэта, – «верхушки стал ломать».Поэма с нескрываемым сочувствием называет (инициалами) нескольких крупных деятелей откупного и чиновничьего мира, которых «сломал» сбросивший маску декабрист, а затем продолжает с негодованием:
Да разве мы причиною,
Что с некоторых пор
Идет здесь под сурдиною
Всем людям перебор.
Помещиков, сановников —
Всех гонит наш кащей,
И душит он чиновников,
Как жирный кот мышей.
К статье А. А. Савельева («Р<усская> старина», июнь 1898 г.), из которой я заимствовал некоторые из цитированных фрагментов дворянской сатиры, приложен и портрет Муравьева. В широком, несколько скуластом лице седого человека в генеральском мундире сразу можно уловить типичные муравьевские черты; близкое родственное сходство с его печально знаменитым виленским братом сказывается ясно: та же энергия, тот же властный, только более спокойный взгляд, тот же отпечаток суровой угрюмости, только более одухотворенный и благородный. Губы энергического склада, густые брови над выразительными молодыми глазами. И мне кажется теперь, когда я знаю основные черты этого характера, что, спокойные на портрете, эти глаза должны легко вспыхивать, а около губ ютится предчувствие угрюмо-насмешливой улыбки…
Еще характерная черточка бывшего заговорщика.
В 80-х годах в одном из журналов (кажется, в «Вестнике Европы») печатались записки крестьянина кустарного села Павлова Сорокина. Это был мечтатель, человек беспокойный, типичный «ходок», много и успешно воевавший с могущественным крепостником Шереметевым за интересы крестьян знаменитого села Павлова. Дело это было сложное и запутанное, Шереметев – противник опасный. Когда однажды Сорокин явился к Муравьеву, тот принял его, выслушал очень внимательно, а затем подвел к иконе и заставил поклясться, что он действительно стоит только за интересы мира и не отступит перед гонениями. После этого до конца своей (недолговременной, впрочем) службы Муравьев горячо поддерживал Сорокина.
Мне известен и другой случай. В Нижнем я был знаком с Василием Михайловичем Ворониным (о котором мне еще придется говорить дальше). В годы своей юности он служил при Муравьеве чиновником особых поручений и тоже был приведен старым декабристом к такой сепаратной присяге. Муравьев некоторое время присматривался к нему, давал разные поручения. Однажды, оставшись с ним наедине в своей канцелярии, он посмотрел на него особенным, глубоким и, как показалось Воронину, растроганным взглядом и затем сказал:
– Молодой человек. Вот вы только начинаете жизнь, прямо со школьной скамьи. Вы – не из дворян. Ваши отцы были мужики. Хотите вы действительно послужить делу народа?
Удивленный и озадаченный этим необычным обращением сурового начальника, внушавшего всем трепет, молодой чиновник ответил утвердительно. Муравьев поднялся с кресла, взял его за руку, подвел к иконе и заставил поклясться, что он будет служить народу, не отступая ни перед приманками, ни перед угрозами.
Воронин был уже старик, когда я с ним познакомился, но и по прошествии четверти века об этой минуте вспоминал с волнением… Старый декабрист, очевидно, не вполне доверял устойчивости реформаторских течений, знал, что старое еще постоит за себя, и, кроме официальных сотрудников, вербовал для предстоящей борьбы своего рода членов тайного союза благоденствия.
К таким своим присяжным приближенным Муравьев и относился особенно. Для остального чиновничьего мира это была гроза. «При проклятом Мураше, – говорил А. С. Гацискому один из тогдашних чиновников, – никто покоен не был. Того и гляди, бывало, ляжешь спать судьей, а проснешься свиньей» [51]51
А. С. Гациский. «Люди нижегородского Поволжья».
[Закрыть].
III
– Да, страшный был, – говорил тот же В. М. Воронин. – Хватка, понимаете, мертвая. Все в нем было необычайное какое-то, непривычное, приноровиться было трудно. Мужикам был доступ к губернатору чуть не во всякое время. В важных случаях – уводил ходоков в канцелярию и тут опрашивал часами. Потом, обдумав, начинал действовать.
Для характеристики муравьевской «мертвой хватки» Воронин очень одушевленно, почти художественно рассказывал разные эпизоды, которые я тогда же – к сожалению, слишком краткими чертами – набросал на клочках. Постараюсь восстановить здесь один такой случай.
Являются однажды ходоки от N-ской волости (Воронин назвал одну из волостей, кажется, Семеновского уезда). Волость заволжская, богатая, промышленная. Завелись в ней издавна крупные злоупотребления. Застарелые, так сказать, освященные обычаем… традиции! При назначении в уезд так и считалось: жалованья столько-то, ну там квартирные, разъездные, да еще в N-ской волости. Кроме уездных властей, перепадало и губернским чиновникам, и так эта традиция укрепилась, что никому и в голову не приходило посягать на нее. Куда там! Твердыня, и только. Мужичишки и жаловались, особенно новым губернаторам, на всякие сверхъестественные поборы и растраты, да сами же всегда оставались виноваты. Прослышав о Муравьеве, не в долгом времени по его назначении, опять послали ходоков. Служили молебны, снаряжали, точно на войну. Знали уже по опыту, что дело это опасное.
Принял их Мураш, долго и секретно беседовали. Потом зовет меня: «Займитесь, молодой человек, рассмотрением дел по прежде бывшим жалобам мужиков N-ской волости. Потребуйте из канцелярии делопроизводство». Через несколько дней спрашивает: «Ну что? Разобрались? Поняли, в чем дело?» – «Нет, ничего не понял, ваше превосходительство. По документам как будто все правильно». – «Ну конечно, говорит. Конечно».
Через несколько дней, так, уже перед вечером, прибегает за мной курьер: «Пожалуйте, спешно требует губернатор». Бегу во дворец [52]52
Губернаторский дом в Нижнем принадлежит дворцовому ведомству и называется дворцом.
[Закрыть]. У крыльца стоит уже тройка, запряженная в простой крытый тарантас. Являюсь. «Ну, молодой человек, собирайтесь в дорогу». – «Когда прикажете?» – «Сейчас прикажу. Видели: лошади уже поданы. Со мной поедете. Сбегайте домой, захватите важнейшие бумаги по N-ской волости и через двадцать минут чтоб уже были здесь». – «Слушаю!»
Повернулся я, бегом пустился на квартиру, захватил кое-какие бумаги и оделся. Прибежал раньше, чем через двадцать минут. Смотрю: старик уже готов. Ни дать ни взять – сибирский прасол. Ничего сановного.
Сели в тарантас. «Куда прикажете ехать?» – «К перевозу за Волгу».
Подъехали к Борскому перевозу. Темнеет уже, дождь моросит, дело осенью. Паром на той стороне. Я было засуетился, хотел прикрикнуть: «Не знаете, дескать, кто дожидается!» Но старик остановил: «Ничего, молодой человек. Подождем, люди небольшие!..» Сидим в тарантасе, дождик на реку падает, паромщики не торопятся. Не узнали или прикидываются, канальи, что не узнали, кто их там разберет. А только вернее, что прикидываются. Исправник орел был, молодчина. Давно уже прослышал, что и мужичишки-то нажаловались, и бумаги затребованы… Все бросил. Днюет и ночует на той стороне у перевоза, чтобы встретить, если командируют какую-нибудь внезапную ревизию. Сидим мы, вдруг это лодочка от берега шасть… Через минуту уже и не видно – на середине реки! Я и внимания не обратил, а старик высунул голову, смотрит вслед: «Понимаете, молодой человек?» – «Никак нет, ваше-ство… Не понимаю». – «Скоро поймете. Учитесь все понимать. Простота, молодой человек, хуже воровства!..»
Подошел наконец и паром. Так же, не торопясь, ввели наш тарантас, двинулись мы за Волгу. Это был первый выезд не то и самого Муравьева, не то мой с Муравьевым. Не помню. Холодно, дождь под навес забивает, река черная. Тихо. Пароходов тогда было еще мало, да и время глухое. Подошел паром к берегу, свели нашу тройку: «Трогай!» Только было лошади взяли на взвоз, вдруг – стоп! Остановка. Прямо на дороге стоит большая фигура.
«Что такое?» – спрашивает старик. Ямщик наклонился и говорит: «Исправник». «Ну что, молодой человек? – говорит губернатор. – Теперь поняли? Лодочка-то? А? Спросите, пожалуйста, у г-на исправника, что ему нужно».
Только успел я соскочить, а исправник уж тут. Вытянулся и руку под козырек держит по-военному; фигура бравая, загляденье. «С рапортом, – шепчет мне, – по должности… На границе уезда…» Только было начал: «Честь имею…» – как губернатор не дал ему докончить и зовет меня: «Молодой человек!» – «Слушаюсь». Наклонился ко мне из повозки и тоже шепчет: «Скажите ему, пожалуйста, что я под надзором полиции давно не состою…» Исправник так и поперхнулся, скосивши на меня глаза. А старик опять: «Спросите, молодой человек: приказ он читал?»
А действительно, был приказ: никакого начальства на границах уездов и станов не встречать, а ждать вызова. Положим… и после этого много таких приказов было, а и до сих пор встречают. Да и невозможно это, правду сказать, то есть чтобы не встречать… Сам я потом исправником был, понимаю. Ведь что, подумайте только: пытка. Знаешь, что начальство уже вступает в твои пределы, вроде, так сказать, переправы через Березину. А ты сиди у себя в канцелярии, жди вызова. А вдруг там какое-нибудь неблагополучие… Долго ли, в самом деле, до греха? Ну, тогда еще молод был, в исправниках не служил и, кроме того, воспламенен был до известной степени. Сочувствия к положению бедняги не ощущал. «Так и так, – говорю довольно даже строгим голосом, – согласно приказу от такого-то числа потрудитесь отправиться в свою канцелярию и ждать приказаний». Щелкнул бедняга каблуками в грязи, откозырял, повернулся и пошел. Скоро и колокольцы забрякали.
«Уехал? – говорит мой старик. – Ну, слава-те господи! Садитесь, молодой человек. Поедем и мы. Ямщик, валяй в N-ское село…»
Зевнул, перекрестился и, кажется, заснул…
Поздно ночью подъехали к волости. Соскочил я, стучу в запертую ставню. Долго не мог добудиться. Спят себе крепким деревенским сном, и не снится им, что гроза на носу. Наконец засветили огонь. Кого, дескать, бог принес?
«Отворяйте». – «Кто там?» – «Губернатор!»
Ну, легко представить, какой это произвело эффект. Писарь не знает, одеваться ему или так выскочить. Глаза безумные – все еще не проснулся, и душит его кошмар. Однако ничего. Вошли мы. Старик поздоровался. Видит писарь, что тот на него не кидается и даже на губернатора не похож. Ободрился. Самоварчик поставил, обогрелись мы. А уж тут и старшина явился. Стоит у двери, глядит непонимающими этакими глазами, вздыхает.
После чаю, разумеется, предлагают его превосходительству отдохнуть: постели готовы. Утро, дескать, вечера мудренее. Я было, признаться, уже и потянулся. Хорошо ведь это, после долгой дороги, да по грязи, да в слякоть. А старик как будто и не замечает.
«Ну, говорит, теперь, молодой человек, приступим к ревизии». «Господи, думаю, что это такое? Не прикажете ли, говорю, ваше превосходительство, отложить до завтра?» – «Нет, говорит, не прикажу. Приступайте к обозрению делопроизводства».
Делать нечего. Разложил я на столе бумаги, принялся обозревать. Тут и днем-то черт ногу сломит, а тут не угодно ли: ночью. Спать хочется. Сижу, хлопаю глазами, делаю вид, что читаю, листы поворачиваю. А он, злодей, закурил трубку. С длинным этаким чубуком трубку все, бывало, курит… И ходит из угла в угол, как ни в чем не бывало… Еще посмеивается. Остановился, показывает на меня чубуком: «Видите?» – говорит. Те вскинули на меня глазами и говорят: «Видим, ваше-ство». – «Вот ведь и молодой, а дока! Сквозь бумагу и то все досмотрит».
И опять ходит… Вы только представьте, господа, эту картинку. У порога писарь и старшина стоят, поднятые со сна точно трубой архангела. Я за столом уткнулся в дела и строчек не вижу. Только бы носом не клюнуть. На дворе дождь все шумит этак томительно, часы тикают, сверчок свистит… Вздохнет кто-нибудь… А он все ходит. Остановится, посмотрит на писаря и старшину и опять зашагает.
И вдруг… точно промчалось что-то среди этой томительной тишины… Прокинулся я – сна как не бывало. Гляжу, стоит мой старик против двери, даже ростом выше стал. Глаза как свечки. Голос резкий, точно по железу ударяет: «Ну, будет! Что тут играть. Все равно разберем. Говори прямо: воровали?»
Писарь-бедняга, до сих пор как с креста снятый, тут вдруг будто даже обрадовался: «Так точно, говорит, ваше-ство… Воровали. Искони-бе…» – «Ну, вот и отлично. Иди, показывай, в чем дело».
Кинулся писарь к столу, сам листы переворачивает, показывает мне, разъясняет… И даже старшина нет-нет слово вставит. С меня и сон долой… Рука так и бегает по бумаге… Часа в три вся суть этих долголетних махинаций была как на ладонке.
К вечеру следующего дня, не заезжая в уездный город, опять были мы на перевозе. А там пошло: «Потребовать исправника! Потребовать того, другого…» Началась переборка, пошел по губернии трезвон: новый губернатор в один день раскопал всю N-скую твердыню, стоявшую, можно сказать, с незапамятных времен… Да… вот какой был наш старик. Резвый… Одно, два, понимаете, таких дела – по канцеляриям пошла паника. Ужас почти суеверный. От «проклятого Мураша», дескать, не скроешься. Все видит насквозь… Ну, а так как, известно, кто богу не грешен, царю не виноват, то всякий только молит господа: помилуй и заступи! Все, дескать, под Мурашом ходим. Зато уж – приказал… из кожи вылезут. Мы, молодые чиновники, за совесть, по клятвенному обещанию. Старые служаки из страха. Знают, что Мураш своими зоркими глазами видит их насквозь и, значит, чуть что… Кончено!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Образ, который рисуется в этом рассказе современника, выступает в таком же виде и в «Муравиаде». Автор дворянской сатиры свидетельствует, что ненавистный Мураш действовал так же неожиданно и в других случаях, когда приходилось иметь дело не с одними писарями. Вскоре, ознакомившись с положением дел, он
…по всем ведомствам
Верхушки стал ломать,
Камуфлеты ловкие
Сюрпризомзадавать…
помещиков, сановников,
Всех гонит наш кащей,
И душит он чиновников,
Как жирный кот мышей.
Но, разумеется, старый крамольник, которому, вероятно, надоело гоняться за хищниками в Сибири и Архангельске, не затем попросился опять на гражданскую службу, чтобы играть роль кота в чиновничьем подполье. Он только готовился таким образом к предстоящей реформе, которая должна была повернуть в корне самые устои дореформенного порядка… Ему нужно было укрепиться, сосредоточить в своих руках всю власть. И скоро это было достигнуто. «То диво ль», – с горечью спрашивает автор «Муравиады», —








