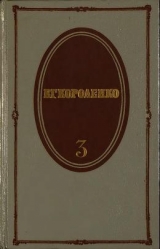
Текст книги "Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 51 страниц)
Возвращаясь с описанного выше сельского собрания, я обогнал группу селян. Они возвращались оттуда же и о чем-то живо разговаривали. Я отпустил своего возницу, а сам пошел с ними. Они как раз говорили о том же предмете, и мы разговорились опять. Мне уже случалось излагать свои мысли в разговорах с соседями, даже бедняками. Они со мной соглашались и находили, что это надо бы повторить перед «громадой». То же было и теперь, когда мы небольшой кучкой шли проселком в густевшие сумерки и спокойно обсуждали вопрос. Они не только соглашались, но и приводили новые аргументы. А между тем толпа в К. казалась такой единодушной в отрицании моих мыслей!
Я, конечно, сознавал, что мне не удалось еще разъяснить многого. Но в общем я был доволен этими несколькими часами, проведенными среди селян. Они слушают так много «ораторов», возвращающих им их собственные вожделения в форме, прилаженной к их вкусу. Мне казалось, что если теперь им хоть отчасти придется сверить свои взгляды с другими, им не столь приятными, то это будет то единственно полезное, чего только и можно добиться спором.
Кажется, я не ошибался. Через несколько дней ко мне пришла группа солдаток, и они заявили, что им теперь на селе не дают проходу за то, что они будто бы «говорили со мной дерзко».
– Неужто мы вас оскорбили? – спрашивали они.
Я охотно выдал им записку, в которой удостоверял, что они говорили со мной по моей просьбе, с которой я обратился к толпе, и я им благодарен, что они не отказались высказаться. Ничего дерзкого я от них не слышал.
И это была правда. Деревня просто не привыкла еще даже в разгаре революции к равноправному спору с человеком в городском костюме, и самый спор кажется им дерзостью. В разговоре со мной, в моей комнате, они опять изображали свое положение с горем и слезами. Расстались мы, казалось, друзьями, и у меня осталось впечатление, что если и на этот раз даже революция не сумеет ничего сделать для этой части сельского населения, то, значит, нашей жизни еще долго искать правды и успокоения.
О сходе в К. оживленно заговорили по деревням. Через несколько дней ко мне приехали зажиточные крестьяне из другого села с просьбой повторить у них то, что я говорил в К. Меня они не застали. Но через некоторое время приехал опять человек с той же просьбой. Он был из так называемых у нас полупанков, человек интересный и очень неглупый. И сам он, и вся его семья жили жизнью настоящих крестьян, работая не менее, а может быть, и более рядового селянина. Земли у них, помнится, было около ста десятин на большую семью. Он повторил приглашение и сообщил, что у них основывается общество «хлеборобов-собственников», и дал мне прочитать отпечатанную уже программу. В ней говорилось между прочим, что собственность «священна и неприкосновенна», были, помнится, еще и другие параграфы, указывающие на то, что эта демократическая часть селян склоняется скорее к программе крупных землевладельцев. Я ответил, что мои убеждения близки к социализму, что в моих глазах собственность священна и неприкосновенна в той же степени, как и остальные человеческие учреждения, то есть до тех пор, пока все общество в лице демократического государства не сочтет нужным ее упразднить. Уже и теперь выяснилась необходимость произвести крупную земельную реформу, в основе которой лежит значительное отчуждение земель с целью надела безземельных и малоземельных, но я считаю, что это должно сопровождаться выкупом за счет государства, и совершенно отрицаю стихийные захваты. За этими оговорками я выразил согласие высказать у них эти свои мысли, как сделал это в К.
После этого за мной больше не присылали.
Общество хлеборобов-собственников продолжало формироваться. Был утвержден устав. Это вызывало в остальной части населения много толков. Если бы параллельно с этим малоземельные тоже пожелали образовать свое общество, то это и было бы совершенно в духе разумной революции; это могло бы при большем понимании свободы принести пользу и сильно подвинуть вперед разъяснение вопроса.
Но у нас дело пошло иначе. На первое же собрание нового общества мелких собственников, назначенное в Миргороде, явилась толпа безземельных, которые разогнали собрание силой. Беднягам «хлеборобам» пришлось спасаться и в окна, и в двери, и долго собрание не повторялось из опасений худших насилий.
Мне пришлось говорить по этому поводу с одним из моих соседей. Еще недавно он соглашался со мной, что свобода слова нужна для всех и что нельзя запретить хлеборобам-собственникам гласно обсуждать свои интересы. Но теперь, увлеченный общим потоком, он ответил, сверкая глазами:
– А все-таки хорошо… потому что они не хотят отдавать земли.
Такое же общество было основано в соседнем Хорольском уезде. Основателем его явился видный земец и землевладелец Коваленко. Деятельность общества закипела, но через несколько дней я встретил одного своего знакомого собственника и он мне сказал:
– Слыхали вы новость?.. Коваленко убили выстрелом в окно, вот какая это свобода… – прибавил он мрачно, и я видел, что вместе с испугом и угнетением в глазах его сверкают мрачные намеки, огонек затаившейся мести.
И это была не первая кровь, пролитая в связи с земельным делом. Такие убийства стали постоянным явлением, чуть не заурядным. В большом селе Полтавского уезда был как-то убит человек, по общим отзывам очень хороший и делавший соседям немало добра. На недоумевающий вопрос одного из моих знакомых, почему он убит, один из общественников ответил с глубокомысленным видом:
– Для революции все равно, хороший он или нехороший. Одним собственником меньше, и его земля достанется народу.
К счастью, эти взгляды прививались далеко не всюду, но кое-где все-таки нелепая, бесчеловечная программа прямого истребления классовых противников сказывалась уже и до большевизма. Начавшись с побуждений естественной «классовой корысти», революция допустила их заглушить и свободу, и ответные призывы совести, так что нельзя стало отличить, где действует революционная программа, а где – простой, неприкрытый разбой. В своей усадьбе была, между прочим, убита А. Б. Ефименко, давняя и бескорыстная труженица литературы. Оставаться в деревне стало опасно не только помещикам, вызывавшим в прежнее время недовольство населения, но и людям, известным своей давней работой на пользу того же населения… Порой и там, где у близких соседей не поднималась рука, приходили другие, менее близкие, и кровавое дело совершалось. Так была убита в своей скромной усадьбе семья Остроградских, мать и две дочери, много лет и учившая, и лечившая своих соседей… Когда помещичьи усадьбы кругом пустели, они оставались, надеясь на то, что их защитит давняя работа и дружеские отношения к местному населению… Но и они погибли… Если это и был разбой, то в этом мрачном эпизоде оказалось бессилие селянства против разбоев. Люди, известные своим уголовным прошлым, теперь смело выступали на первый план, становились на ответственные должности, говорили от имени революции, а масса не смела пикнуть против них, как прежде не смела пикнуть против становых, творивших порой явные беззакония от имени царя…
Земельная реформа решительно пошла не в сторону общегосударственного дела, а в сторону стихийного захвата. У первого революционного правительства не хватило силы направить ее в государственное русло. Оно пыталось это сделать, но сумело только санкционировать эту реформу снизу назначением земельных комитетов. А пришедший за ним большевизм не имел к этому и желания, он просто поощрял стихийный поток классовых захватов. Поэтому реформа решительно превратилась в стихийную «грабижку». Экономии громили без представления о том, что уничтожается «народное добро»… Рассказывают о случаях, когда роскошные зеркала попадали в крестьянские хлевы, а кареты и ландо можно было видеть запряженными волами…
Конечно, карикатурные явления, как трюмо в хлевах или кареты в воловьей упряжи, являются сравнительно редкими иллюстрациями, которыми жизнь отмечала нелепость разрушения земельного вопроса снизу захватом, без участия разумно разработанного государственного плана. Народ наш в общем все-таки не разбойник и не грабитель. Я знаю людей, работавших в сельских земельных комитетах, и знаю, что это часто были люди хорошие и разумные. Во многих местах имущества не расхищались, только реквизировались и охранялись от расхищения, хотя делалось это людьми малосведущими и темными. Было, наверное, в этой свалке и много людей, в душах которых не угасло представление о боге, сердца которых скорбели о происходящем.
Но у нас старой нашей историей убита смелость мнения, способного идти против какого-нибудь резкого течения…
И прежде у нас были целые деревни, где заведомые воры держали все население в страхе поджога или убийства и много лет верховодили беспрепятственно над целыми обществами. От этого у нас есть немало хороших людей, но толпа наша часто поддается побуждениям не своих лучших членов, а худших.
И вот маятник качнулся в другую сторону. Я пишу не ученый трактат, а только то, что видел, что чувствовал и думал по поводу виденного. Не могу сказать поэтому, как и в чем в других местностях России выразилась борьба разных слоев деревни между собой. У нас на Украине это приняло такие формы…
Совершился новый переворот, пришла «гетманщина». Ничем не замечательного потомка гетмана Скоропадского призвали к власти люди, опиравшиеся на съехавшихся к тому времени в Киев хлеборобов-собственников. Конечно, было в гетманском правительстве немало людей доброжелательных и хороших. Они стремились устроить безобидный порядок, говорили в центре приличные речи, излагали более или менее приличные программы, в том числе и земельную. Но это правительство было бессильно. С одной стороны, распоряжались всем немецкие офицеры, с другой – под внешностью переворота клокотали и кипели чувства классовой мести. Из собственнической молодежи, которой одной разрешалось иметь оружие, образовались отряды, которые производили карательные экспедиции. И эта охочая молодежь при поддержке немцев чинила жестокие налеты на села и деревни с побоями, с поркой и пролитием крови, но без всякого намека на правосудие.
Положение создалось такое: сельские комитеты были санкционированы Временным правительством и, значит, действовали «на законном основании». Теперь их часто третировали, как разбойников, не разбирая их действий по существу. Ко мне являлись крестьяне с рассказами о том, что творится в их деревнях.
Я пытался записывать их рассказы, излагал их в просьбах к властям. Но комиссары мало разбирались в этом. Приняв одну из таких просьб, уездный комиссар, даже не взглянув на нее, сказал: «Идите, идите домой. Там уж на вас наложена контрибуция».
Сверху шли приказы в одном смысле, местные власти делали свое в смысле не государственной работы, а только безоглядной классовой мести.
И опять нельзя сказать, чтобы в этом повинны были все или хоть большинство «хлеборобов», хотя и считалось, что гетманское правительство – их ставленник. Мне случалось читать письма «хлеборобов», полные негодования и возмущения против того, что делается при поддержке немцев. Но эти голоса опять звучали слабо и не могли остановить классовой мести, стихийной, слепой и жестокой. На одно насилие служило ответом другое, такое же насилие, и во многих умах являлось предчувствие, что будет, когда маятник опять качнется в другую сторону.
И маятник качнулся. На Украину пришел большевизм и утвердился надолго. Он прямо объявил диктатуру одного класса, вернее, даже не класса, а беднейшей его части, с ее вожделениями в качестве программы. Все, еще недавно пользовавшиеся в деревне общепризнанным правом владения, были за это поставлены как бы вне закона. Достаточно было числиться помещиком или хлеборобом-собственником, а особенно быть занесенным в списки как члену сельского общества, чтобы ежеминутно рисковать лишиться свободы, имущества, жизни…
Большевизм – это последняя страница революции, признающей верховенство классового интереса над высшими началами справедливости, человечности и права. С большевизмом наша революция сходит на мрачные бездорожья, с которых пока не видно выхода.
XIX. ЗаключениеЯ кончаю эту книгу греха и печали на холмистых берегах Пела, с которых в 1905 году смотрел на огненные столбы, зловеще вспыхивавшие на горизонте… С этих пор наше отечество пережило многое, но много ли оно подвинулось вперед в разрешении важнейших вопросов своей жизни, в том числе самого важного из них – вопроса земельного?
Первое, что теперь кидается в глаза в деревне, есть несомненный факт большого ее благосостояния, сравнительного с городом. У нее хлеб, которого в городе нет, а это, конечно, главное. Разумеется, она нуждается во многом, что перестал доставлять ей город, почти прекративший свою производительность, но все же деревня в общем не только более сыта, но лучше обута и одета. Это является результатом отчасти порядочного урожая 1919 года, который деревня весь приберегла у себя, отчасти и сложных общественных условий последнего времени, тяжелее отражавшихся на горожанах. Порой тут можно в иных случаях увидеть и следы «грабижки», которую, конечно, не так легко ликвидировать у ловких людей, умевших применяться ко всяким политическим условиям и извлекать выгоды из всякого режима среди безгласной деревенской массы. Но было бы слишком легкомысленно и поверхностно видеть в этом единственные или хотя бы главные результаты промчавшейся, но далеко еще не улегшейся бури.
Я опять вижусь с селянами, говорю с ними о пережитом и встречаю всюду разочарование, желание покоя и неуверенность в будущем. И эта неуверенность охватывает как раз не худшие, грабительские элементы деревни, а, наоборот, лучшие, которые имели бы право на поддержку и ободрение.
Увидел я опять и моих возражательниц на сходе в К. Казалось, они должны были пережить свой период полного торжества. Ведь они принадлежали к той части «владыки»-народа, верховенство и диктатуру которой кульминационный пункт российской революции – большевизм – объявил своим знаменем.
Я увидел их истомленными и жалкими. Мужья некоторых из них, уцелевшие на немецком фронте, теперь опять воюют…
Только теперь этот фронт уже не на внешней нашей границе. Огненными кровавыми чертами он прошел по живому телу России.
И жены опять плачут, не зная, живы ли отцы их детей… По выбору односельчан они были членами земельных комитетов и сельских исполкомов. Мне говорят, что они только добросовестно исполняли роль посредников между большевистскими властями и населением. Но «маятник власти», особенно в первое время, не входит в дальние разбирательства, и они, все-таки официальные лица при большевизме, должны были уйти с большевиками в неведомое будущее, полное борьбы и крови.
Когда эти мои знакомые узнали, что я приехал в их места и рад бы повидаться с ними, одна из них, робко подняв глаза, спросила:
– А не будет он нас бить?
Народ привык, что с каждой переменой приходит кто-нибудь, считающий себя вправе кого-нибудь бить. Другие их успокоили, и когда мы увиделись, то они мне говорили, как часто в их селе вспоминали старика, который говорил, что за землю придется платить или деньгами, или кровью. Много пролилось крови и слез, а за аренду десятины в их местах запрашивают 1200 рублей. И многие смотрят со страхом в непонятное и темное будущее. Проезжая по дорогам в середине октября, я увидел огромные пространства, еще даже не вспаханные под озими. Частью этому мешала засушливая осень, но частью и неопределенность земельных отношений. Неизвестно, сколько времени все это продлится.
В одном из приказов, напечатанных в газетах от имени генерала Деникина, говорится: «По дошедшим сведениям, вслед за добровольческими войсками при наступлении в очищенные от большевиков места являются владельцы, насильно восстанавливающие, нередко при прямой поддержке войск, нарушенные в разное время свои имущественные права, прибегая при этом к действиям, имевшим характер „мести“». Генерал напоминает, что при том смятении и путанице, которые внесены в нашу жизнь междоусобием, армия не в состоянии разобраться с должной гарантией справедливости в спорных правовых взаимоотношениях.
Это, кажется, еще первая попытка остановить роковые качания маятника мести. В одной из последних речей того же генерала Деникина говорится, что главные затруднения в своей задаче восстановления государства он видит не на военных фронтах, искрестивших вдоль и поперек наше отечество, а в той партийной борьбе, которая идет в тылу, вероятно, даже в правящих сферах нашей власти. Есть, очевидно, и теперь очень много людей, видящих главную задачу в том, чтобы маятник мести качнулся еще раз в нужную им сторону…
Нетрудно угадать, что спор идет опять главным образом около земельного вопроса. Как рассуждают представители партии, которая считает себя торжествующей, справедливо ли, чтобы крестьянин получил все-таки землю, которой добивался «грабижками», поджогами, насилиями над помещиками? Нет, пусть другая сторона получит свой реванш и полное восстановление нарушенных прав.
Гибельное рассуждение, и не только гибельное, но и несправедливое. Признать его правильность – значит вернуться к старому, зачеркнув целиком всю революцию, которую недаром приветствовала вся Россия.
Надо признать, что вина в наших нынешних бедствиях не может быть взвалена на один какой-нибудь класс. Когда самодержавие Александра II уничтожило крепостное право, что оно, в сущности, сделало? Оно только устранило вековую неправду, слишком долго позорившую Россию.
К сожалению, вместо того, чтобы искренно и всецело признать эту прямую и человеческую истину, и тогда явилось много людей, которые стали говорить об «обиженном сословии», недостаточно удовлетворенном за свое «нарушенное право».
Эта точка зрения восторжествовала даже в царствование царя-освободителя, и она-то вызвала у нас мертвящий застой последних царствований и возрождение старой неправды в новых формах. Создалась фикция «благородного сословия», «опоры трона», которому самодержавие дорогой ценой платило за обиду, нанесенную глубоко человеческой реформой. То, что падало естественно силой вещей, поддерживалось искусственно из общенародных средств и, что еще важнее, ценой глубокого застоя в жизни всейстраны. Свобода обсуждения аграрного вопроса была объявлена опасной и наряду с этим арендные цены на землю искусственно подымались, что отмечали лучшие экономисты еще в 70-х годах (напомню о классическом труде проф. Скалона). Но правящие круги оставались глухи к этим голосам, и правительство порой даже стесняло свободу переселений, чтобы не вздорожал труд безземельных земледельческих работников.
Кто скажет, что в этом не было тяжкого греха, что это не было несправедливой классовой диктатурой!
Настоящая книга имеет целью показать, как этот тяжкий грех нашего прошлого, длившийся целые десятилетия, вызвал в конце концов нашу революцию со всеми ее крайностями. Диктатура нескольких десятилетий застоя порождала глухие, не слышные тогда среди безгласной России стоны нищенствующих Дубровок, Пралевок и Полетаевок и бесчисленного множества сел и деревень по всему лицу нашего отечества… Эти глухие стоны, эти невидимые слезы ядом накипали на сердце народа и сгустились в тучу, которая разразилась над нашим отечеством. Старая неправда продолжалась десятилетия, революция – несколько лет, оттого-то ее грехи виднее и резче.
Поэтому чем скорее мы перестанем говорить о классовой мести или о классовых наградах, тем это будет разумнее и тем более это будет соответствовать справедливости.
Дело не в наградах или в мести, а в том, что разумное государство должно беспристрастно разыскивать в прошлом глубокую неправду и спокойно и беспристрастно устранить ее на будущее…
Такая неправда прошлого была в застое, в безгласности и в задержке важнейших глубоких реформ.
И главной из этих реформ остается земельная реформа.
Письма к Луначарскому *
Письмо первое *Анатолий Васильевич!
Я, конечно, не забыл своего обещания написать обстоятельное письмо, тем более что это было и мое искреннее желание. Высказывать откровенно свои взгляды о важнейших мотивах общественной жизни давно стало для меня, как и для многих искренних писателей, насущнейшей потребностью. Благодаря установившейся ныне «свободе слова» этой потребности нет удовлетворения. Нам, инакомыслящим, приходится писать не статьи, а докладные записки. Мне казалось, что с Вами мне это будет легче. Впечатление от Вашего посещения укрепило во мне это намерение, и я ждал времени, когда я сяду за стол, чтобы обменяться мнениями с товарищем писателем о болящих вопросах современности.
Но вот кошмарный эпизод с расстрелами во время Вашего приезда как будто лег между нами такой преградой, что я не могу говорить ни о чем, пока не разделаюсь с ним. Мне невольно приходится начинать с этого эпизода.
Уже приступая к разговору с Вами (вернее, к ходатайству) перед митингом, я нервничал, смутно чувствуя, что мне придется говорить напрасные слова над только что зарытой могилой. Но – так хотелось поверить, что слова начальника Чрезвычайной Комиссии имеют же какое-нибудь основание и пять жизней еще можно спасти. Правда, уже и по общему тону Вашей речи чувствовалось, что даже и Вы считали бы этот кошмар в порядке вещей… но… человеку свойственно надеяться…
И вот на следующий день, еще до получения Вашей записки, – я узнал, что мое смутное предчувствие есть факт: пять бессудных расстрелов, пять трупов легли между моими тогдашними впечатлениями и той минутой, когда я со стесненным сердцем берусь за перо. Только два-три дня назад мы узнали из местных «Известий» имена жертв. Перед свиданием с Вами я видел родных Аронова и Миркина, и это кинуло отблеск личного драматизма на эти безвестные для меня тени. Я привез тогда на митинг, во-первых, копию официального заключения лица, ведающего продовольствием. В нем значилось, что в деянии Аронова продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов.Во-вторых, я привез ходатайство мельничных рабочих, доказывающее, что рабочие не считали его грубым эксплуататором и спекулянтом. Таким образом, по вопросу об этих двух жизнях были разные даже официальные мнения, требовавшие во всяком случае осторожности и проверки. И действительно, за полторы недели до этого в Чрезвычайную) Комиссию поступило предложение Губисполкома: согласно заключению юрисконсульта, освободитьАронова или передать его дело в революционный) трибунал.
Вместо этого он расстрелян в административном порядке.
Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я «сеял не одни розы» [60]60
Выражение Ваше в одной из статей обо мне.
[Закрыть]. При царской власти я много писал о смертной казни и даже отвоевал себе право говорить о ней печатно много больше, чем это вообще было дозволено цензурой. Порой мне удавалось даже спасать уже обреченные жертвы военных судов, и были случаи, когда после приостановления казни получались доказательства невинности и жертвы освобождались (напр<имер>, в деле Юсупова), хотя бывало, что эти доказательства приходили слишком поздно (в деле Глускера и других).
Но казни без суда! Казни в административном порядке! Это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Я помню только один случай, когда озверевший Скалой (варшавский генерал-губернатор) расстрелял без суда двух юношей. Но это возбудило такое негодование даже в военно-судных сферах, что только «одобрение» после факта неумного царя спасло Скалона от предания суду. И даже члены главного военного суда уверяли меня, что повторение этого более невозможно.
Много и в то время, и после этого творилось невероятных безобразий, но прямого признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, постановляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не бывало. Деятельность большевистских чрезвыч<айных> следственных комиссий представляет пример, может быть, единственный в истории культурных народов. Однажды один из видных членов Всеукр<аинской> Ч<резвычайной> К<омиссии>, встретив меня в Полтавской Чрезвыч<айной> Ком(иссии), куда я часто приходил и тогда с разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. Я ответил:
– Если бы при царской власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь.
На это мой собеседник ответил:
– Но ведь это для блага народа.
Я думаю, что не всякие средства могут действительно обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что административные расстрелы, возведенные в систему; и продолжающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу. Однажды в прошлом году мне пришлось описать в письме к Христ<иану> Георг<иевичу> Раковскому один эпизод, когда на улице чекисты расстреляли несколько так называемых «контрреволюционеров». Их уже вели темной ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых над открытой могилой и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может быть, они действительно пытались бежать (немудрено) и их пристрелили тут же на улице из ручных пулеметов. Как бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар, видел еще лужи крови, которые лизали собаки, и слушал в толпе рассказы окрестных жителей о ночном происшествии. Я тогда спрашивал у Христ<иана> Георг<иевича> Раковского: считает ли он, что эти несколько человек, будь они даже деятельнейшие агитаторы, могли бы рассказать этой толпе что-нибудь более яркое и более возбуждающее, чем эта картина? Должен сказать, что тогда и местный Губисполком, и центральная киевская власть немедленно прекращали (два раза) попытки таких коллективных расстрелов и потребовали передачи дела революционному трибуналу. Суд одного из обреченных Чрезв<ычайной> Комиссией к расстрелу оправдал, и этот приговор был встречен рукоплесканиями всей публики. Аплодировали даже часовые красноармейцы, отложив ружья. После, когда пришли деникинцы, они вытащили из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили их напоказ. Впечатление было ужасное, но к тому времени они сами расстреляли уже без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид? Да, обоюдное озверение достигло уже крайних пределов, и мне горько думать, что историку придется отметить эту страницу «административной деятельности» Ч<резвычайной> К<омиссии> в истории первой российской республики, и притом не в XVII, а в XX столетии.
Не говорите, что революция имеет свои законы… Были, конечно, взрывы страстей революционной толпы, обагрявшие улицы кровью даже в XIX столетии. Но это были вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. И они надолго оставались (как расстрел заложников коммунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только революционное негодование версальцев, которые далеко превзошли в жестокости коммунаров, но и самих рабочих и их друзей… Надолго это кидало омрачающую и заглушающую тень и на само социалистическое движение.
В сообщении по поводу ареста Аронова и Миркина, появившемся наконец 11 и 12 июня в «Известиях», говорится, что они казнены за хлебную спекуляцию. Пусть даже так (хотя все-таки невольно вспоминается, что продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов, и это разногласие заслуживало хоть судебной проверки). Вообще, все это мрачное происшествие напоминает общественный эпизод Великой французской революции. Тогда тоже была дороговизна. Объяснялось это также самым близоруким образом – происками аристократов и спекулянтов и возбуждало слепую ярость толпы. Конвент «пошел навстречу народному чувству», и головы тогдашних Ароновых и Миркиных летели десятками под ножом гильотины. Ничто, однако, не помогало – дороговизна только росла. Наконец парижские рабочие первые очнулись от рокового угара. Они обратились к конвенту с петицией, в которой говорили: «Мы просим хлеба, а вы думаете накормить нас казнями». По мнению Мишле, историка-социалиста, из этого утомления казнями в С<ент>-Антуанском предместье взметнулись первые взрывы контрреволюции.
Можно ли думать, что расстрелы в административном порядке могут лучше нормировать цены, чем гильотина?
В сообщении официальной газеты приведены только четыре имени расстрелянных 30 мая, тогда как определенно говорилось о пяти. Из этого встревоженное воображение населения делает заключение, что список не полон. Называют еще другие имена… Между тем если есть что-нибудь, где гласность всего важнее, то это именно в вопросах человеческой жизни. Здесь каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что можно требовать от власти. Теперь население живет под давлением кошмара. Говорят, будто только часть казненных приводится в списке. Доходят до чудовищных слухов, будто даже прежняя процедура еще упрощается до невозможного отсутствия всяких форм. Говорят, что теперь можно обходиться даже без допроса подсудимого. Думаю, что это только испуганный бред… Но как выбить из голов населения мысль, что теперь бредит порой и сама действительность…
Мне горько думать, что и Вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешева, – в своей речи высказали как будто солидарность с этими «административными расстрелами». В передаче местных газет это звучит именно так. От души желаю, чтобы в Вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое когда-то роднило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Пусть зверство и слепая несправедливость остается целиком на долю прошлого, отжившего, не проникая в будущее…
Вот я теперь высказал все, что камнем лежало на моем сознании, и теперь, думаю, моя мысль освободилась от мрачной завесы, которая мешала мне исполнить свое желание – высказаться об общих вопросах.
До следующего письма.
19 июня 1920 года.








