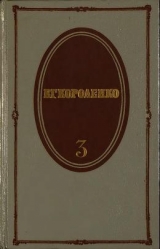
Текст книги "Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 51 страниц)
Это было так неожиданно, что я с удивлением посмотрел на Глеба Ивановича и не мог не улыбнуться.
На его лице не было ни гнева, ни возбуждения, а только легкая досада и желание устранить препятствие, мешавшее ему спокойно слушать. Так мы устраняем с дороги не на месте усевшуюся собаку, кошку или даже просто какой-нибудь обрубок. Разумеется, пьяный господин не мог на это смотреть так же философски. Он повернул к нам свое разъяренное лицо, и, вероятно, романс закончился бы большим шумом, если бы, к счастью, находчивый Н. Ф. Анненский не подошел к освирепевшему посетителю и, весело и добродушно говоря что-то, отвел его в сторону. Озадаченный и сбитый с толку посетитель попал затем в руки официантов, которые усадили его за стол, а Глеб Иванович дослушивал последние звуки романса, как будто даже не заметив всего этого эпизода…
Когда после этого одна из певиц опять подошла «с нотами», Глеб Иванович вынул из правого кармана своего серого пальто бумажку и положил ее, не глядя. При следующем номере повторилось то же. Деньги он вынимал, как спички для закуривания папиросы или предмет совершенно неинтересный и не стоящий внимания. Я пробовал указать ему, что, в сущности, он дает не певицам и что все это поступит не хору,а только хищнице-хозяйке. Молодая осетинка, сидевшая по нашему приглашению за столом, оглянулась и тихо, чуть слышно, сказала: «Да, хозяйке… мы на жалованье»… Но это на Глеба Ивановича не оказало задерживающего действия. Он так же, не глядя, механически вынимал деньги и клал их «на ноты». Когда один раз я захотел остановить его, указав, что мы уже положили и что этого достаточно, – он посмотрел на меня с выражением укора и легкой досады и опять вынул наудачу то, что первое попалось под руку.
Видно было, что, и слушая, и внимательно глядя на певиц, и вынимая бумажку, он занят каким-то одним предметом, от которого как будто и не хочет, и не может отвлечься для таких пустяков, как деньги и их значение. После этого я уже не останавливал его. Мы просидели до заката солнца, потом, попрощавшись с певицами, вышли в аллеи сада.
Здесь нас ждал новый маленький эпизод. В то время, когда мы сидели еще на площадке снаружи, к нам подходил маленький итальянец с каким-то инструментом вроде гармонии. На нем была остроконечная черная шляпа, из-под которой выразительно глядели большие черные глаза. Играл он недурно, просил глазами еще лучше и, по-видимому отчасти благодаря нашей компании, сделал необычный сбор. Ввиду этого он позволил себе некоторую роскошь: подойдя к деревянному киоску на видной аллее, важно уселся на стул, положил у ног калабрийскую шляпу и гармонию и потребовал себе стакан мороженого.
Случилось, что в это время злой рок привел в сад его старшую сестру-нищенку, хромую девушку лет восемнадцати-двадцати на костылях. У нее было такое же смуглое лицо, такие же черные волосы и такие же выразительные глаза. Только лицо было болезненное, а глаза злые. Она быстро ковыляла по аллее на своем костыле, и так как мы подымались по дорожке к этому киоску, то маленькая драма завершилась на наших глазах: разъяренная девушка схватила беспечного музыканта за ухо как раз в то время, когда он подносил ко рту ложечку с мороженым.
Вышла маленькая жанровая сценка в очень красивой обстановке и, в сущности, очень благодарная для художника. Есть такие счастливые художники-олимпийцы, которые даже в самой казни видят благодарную «натуру». Глеб Иванович по своему темпераменту находился на противоположном полюсе. В своей автобиографии он пишет, что был в Париже после коммуны и видел, «как приговаривали к смерти сапожников и каменщиков». Но он сравнительно мало останавливался на этих картинах, и, я думаю, это не случайно: они подавляли его, он не мог овладеть ими, потому что его мозг и его нервы не вмещали всего их ужаса. Хорошо это для художника или дурно – я здесь этого вопроса не касаюсь: по отношению к Успенскому это был факт, входивший одним из составных элементов его личности. И теперь, при виде этого небольшого конфликта между братом и сестрой, пока мы еще успели вникнуть в смысл разыгравшейся перед нами сценки, – Глеб Иванович с страдающим и искаженным лицом кинулся к девушке и схватил ее за руку.
– Что ты делаешь… За что ты его бьешь?.. Какая ты скверная, – говорил он, сжимая руку озадаченной Немезиды своей нервной рукой. Та невольно разжала пальцы, и молодой кутила, вырвавшись, стрелой сбежал с небольшого откоса на нижнюю дорожку. Там он остановился без шляпы и гармонии и, чувствуя себя сравнительно в безопасности, наблюдал происходящее своими темными, как чернослив, простодушными глазами.
Девушка, сначала испуганная, скоро, однако, оправилась и, всхлипывая и грозя брату кулаком, стала рассказывать нам о его ужасном преступлении и о причинах своего гнева. И вот, благодаря вмешательству Глеба Ивановича, в этом прелестном уголке, где для нас все было отдыхом, радостью и весельем, – перед нашими глазами вдруг развернулась, вместо комического интермеццо, целая драма. Оказалось, что в Нижний, на ярмарку, приехала семья итальянцев. Отец был музыкант, мать – певица, маленький сын – гармонист, вообще, кажется, вся семья готовилась исполнять на ярмарке что-то увеселительное. Но вдруг отец заболел и теперь лежал в каком-то вертепе Миллионной улицы, расстилавшейся внизу, под нашими ногами. Мать не могла оставить больного и маленьких детей. В качестве кормильцев оставались только – знакомый нам гармонист и она – хромая нищенка. Но ей подают мало, хоть она ходит целые дни, несмотря на больную ногу… Он должен бы играть и играть, чтобы собрать побольше денег… А он ест мороженое в то время, когда у родных нет куска хлеба для маленьких детей…
И она опять заплакала и погрозила кулаком злополучному кутиле, все еще державшемуся в почтительном отдалении. Мы постарались ее успокоить, кидая в поднятую ею шляпу мальчика серебряные деньги. Глеб Иванович сунул руку в карман пальто, вынул оставшуюся там единственную пятирублевку и подал ее удивленной девушке. Потом полез в другой карман, пошарил там, но в кармане уже ничего не было. Тогда, с несколько растерянным видом, он повернулся и очутился лицом к лицу с незнакомой дамой, с пышным бюстом и в роскошной шелковой накидке. Она и еще два-три любопытных фланера были привлечены маленькой трагикомедией и неожиданным вмешательством странного господина. Успенского, по-видимому, нимало не смутило то обстоятельство, что перед ним очутились люди, совершенно ему незнакомые. Он посмотрел в лицо дамы ласковым и доверчивым взглядом и сказал просто, как сказал бы хорошему знакомому:
– Вот видите, какое тут дело. Отец болен, мать с детьми… в трущобе, У меня больше нет. Дайте вы сколько-нибудь, вот они тоже… Ведь целая семья…
Дама высокомерно взглянула на неожиданного сборщика, пожала плечами и, повернувшись, поплыла по аллее. Остальные любопытные тоже нашли, что самый интересный момент миновал и что сбора, сделанного уже в пользу итальянцев, слишком достаточно для «бедного семейства». Глеб Иванович остался на дорожке один, провожая расходившихся внимательным взглядом. Я видел его лицо в эту минуту и очень жалел, что не мог снять его с этим выражением: проникновенность художника и простодушное удивление ребенка… Это почти детское простодушие и растерянность перед самым обычным проявлением черствости, и притом со стороны художника, который так понимал и так умел рисовать эти свойства среднего человека, составляли тоже особенную черту этого своеобразного и сложного характера.
Утром, тотчас после приезда к нам, Успенский говорил, что ночью спал мало и хочет лечь пораньше, чтобы отдохнуть перед дальнейшим путешествием. Ввиду этого я настаивал, чтобы не ходить уже никуда и чтобы Глеб Иванович ложился. Он покорно соглашался, но при этом как-то лукаво улыбался. Придя домой, он пошарил в чемодане и с торжеством вынул портмоне, из которого стал перегружать бумажки опять в левый карман.
– Да, вот! – сказал он, улыбаясь с веселым лукавством. – Я ведь человек предусмотрительный: сразу всего не взял. Видите: оставил про запас!
Я сильно подозреваю, что «предусмотрительность» принадлежала собственно жене Успенского, которая едва ли ожидала, что к «запасу» Глеб Иванович прибегнет уже в Нижнем.
Улеглись мы действительно довольно рано, в моей маленькой комнатке, в нижнем этаже дома, выходившего в густой сад. Летом окно в этот сад я оставлял открытым и на ночь, и листья деревьев почти лезли в комнату.
Среди ночи я проснулся под впечатлением совершенно фантастических видений и, раскрыв глаза, некоторое время чувствовал себя все еще как будто во власти сна: в окно тихо, с осторожностью пробирался из сада Глеб Иванович, а за окном, освещенная прорывающимися лучами месяца, виднелась фигура одного из наших общих друзей, очевидно, участвовавшего в заговоре и указывавшего Глебу Ивановичу этот путь для незаметного выхода и возвращения. Когда путешествие это совершилось благополучно, Глеб Иванович с лукавым видом послал фигуре за окном воздушный поцелуй и тихо сказал:
– Спит!..
Фигура за окном исчезла. Я окончательно пришел в себя и сообразил, что Глеб Иванович опять совершил экскурсию на откос.
– Вот вы как, Глеб Иванович, – сказал я. – А обещали лечь пораньше.
– Д-да… вот видите… Грешный человек… в окно… Ничего! Я сейчас лягу. Спите… Хотелось поговорить еще кое о чем. Удивительная девушка.
Однако сам он лег не сразу. Он сообщил мне, что у осетинки в Сызрани ребенок, и она своим пением зарабатывает на его содержание… Говорил он тихо, как будто про себя, и я начал дремать. Сквозь дремоту долго еще я видел фигуру Глеба Ивановича, сидевшего на постели с папиросой. Папироса все удлинялась; огонек ее, вспыхивая, освещал глубокие, сосредоточенные глаза и выразительное лицо Успенского.
– Да… Вот… Ребеночек… А она тут поет, до самой зари… Человека захватит какая-нибудь этакая шестерня… И ломает, и ломает всего… Что же тут челюсть? А я вот думаю: челюсть-то… она иной раз еще спасет… Будь эта вот, хромая, итальянка-то, поаккуратнее… Да тут, в этом аду… Господи боже!.. Давно бы ее закрутило…
Я зажег спичку и посмотрел на часы.
– Глеб Иванович, голубчик! Ведь уже три часа. А завтра на пароход в девять.
– Сейчас, сию минуту… Лягу… непременно… Я только говорю: челюсть-то эта пустяки!.. Подлость тут наша, а не челюсть… И это надо понимать, писать, говорить… Общество… все мы… а не челюсть… не челюсть… Нет, не челюсть…
И долго еще в темной комнате виднелся вспыхивающий огонек его папиросы и слышались отрывочные горькие замечания.
IV
На следующее утро мы приехали на пристань рано. Утро опять было чудесное, свежее. Пароход стоял у пристани, но свистка еще не было. Когда пришлось брать билеты, Глеб Иванович пошарил в карманах, заглянул в кошелек и, как-то виновато улыбнувшись, сказал с легким удивлением:
– А ведь у меня денег-то… уже и нет.
Мы это предвидели, и потому, не ожидая этого признания, Н. Ф. уже стоял у кассы, чтобы взять Глебу Ивановичу пароходный билет. Такие истории должны были случаться с Успенским очень часто. В следующем году он писал мне, между прочим: «Были у меня и двести рублей, и еще двести, и еще триста, но все исчезло в тот момент, как только появлялось в руках. Долгов в деревне накопилась тьма – едва выбрался оттуда… Говорят, есть какие-то новые бумажки и будто бы они были у меня в руках, но я решительно не видал их – знаю, что мелькало что-то синее или красное…» Он сознавал в себе эту черту и иной раз отзывался о ней с легким юмором, как будто говорил о другом человеке. Но это было, так сказать, – вообще. В частности же, каждый раз, когда у него бывали деньги, он относился к ним с самым непосредственным равнодушием; и это ставило его нередко в невозможные, порой очень тяжелые положения.
– Ну, вот и отлично! – весело сказал он, получив от Н. Ф. билет. – Просто превосходно. Я вам непременно вышлю из Петербурга… А теперь мне бы еще… десять рублей.
– Мало, Глеб Иванович, – сказал я. – Ведь далеко.
– Нет! десять ровно. Я знаю… Я дам телеграмму, мне вышлют туда-то.
Мы не спорили, но вместо десяти рублей сунули Глебу Ивановичу в карман столько, сколько, по нашему мнению, должно было бы хватить на обычные путевые расходы.
На верхней палубе парохода ожидали уже две певицы из вчерашнего хора: осетинка и молодая девушка, почти ребенок, которую регентша, по-видимому, взяла под свое особое покровительство. Обе были одеты скромно и производили очень приятное впечатление. К Глебу Ивановичу они относились с какой-то особенной почтительностью, и радость, сверкнувшую в их глазах, когда он подходил к ним, можно понять, если представить себе обычный тон обращения публики с этими бедными созданиями… Хор был сравнительно приличный, но существование женщины даже в самом «приличном» хоре представляет только тщетные усилия удержаться на наклонной плоскости. Ежегодно ярмарочная хроника отмечает не одну трагедию из этой области, которые мелькают и исчезают на общем фоне ярмарочной жизни. И те самые люди, которые вчера еще проводили вечер с певицами, забывая всякие «условности», – сегодня не решаются подойти к ним днем и на глазах у публики…
Глеб Иванович поздоровался с ними просто и радушно. То, что составляло их жизнь, – являлось его болью, его страданием, предметом его неугомонной мысли, и это давало какой-то особенный тон их взаимным отношениям. Обычные расспросы равнодушных людей, бередящих и без того болящие раны, – без сомнения, являются для этих бедных девушек новым источником нравственных страданий, и они защищаются от них по-своему: никогда они не говорят своих настоящих имен, друг друга называют вымышленными и каждому любопытному допросчику рассказывают новую свою биографию. Но для Глеба Ивановича это были «настоящие» люди, он уже знал их «настоящую» жизнь и теперь с серьезным сочувствием записывал адрес какой-то сызранской мещанки, у которой находился на воспитании ребенок осетинки. Для них это было как бы свидание с добрым земляком, случайно встреченным в шумном городе…
Никаких денег они, разумеется, не ждали, и никому бы не пришло в голову предложить их. Мы позвали официанта и, устроившись в уголке, велели принести чайный прибор, так как все приехали сюда без чаю.
Публика прибывала, прогудел первый свисток.
К столику, за которым сидела наша небольшая компания, подошла какая-то старушка, маленькая, худая, с колющими бегающими глазами, в черном платье и темном платке, повязанном по-скитски, в роспуск. Она поклонилась нам всем и, называя девушек красавицами-прынцессами, стала просить денег. Она едет к Иоанну Кронштадтскому и просит на дорогу. Голос у нее был ханжески-фальшивый и неприятный. В словах «красавицы» и «прынцессы», которые она адресовала певицам, слышалась скрытая двусмысленность и осуждение.
Глеб Иванович как-то особенно насторожился и торопливо сунул ей серебряную монету. Она быстро схватила ее и отошла к другой группе, но в это время младшая певица засмеялась: у старухи из-под темной короткой юбки мелькнули желтые туфельки на высоких каблуках. Эти туфли, при костюме черницы-богомолки, производили действительно странное впечатление. Вероятно, кто-нибудь просто подарил их старухе, но молодая девушка с наивной бестактностью сказала:
– Господи! Точно у танцовщицы!
Старушка повернулась, смерила девушек пристальным, колющим взглядом и стала опять приближаться к столу, не спуская с юных грешниц своих строгих маленьких глазок. Девушки сразу притихли, а она не знала, которая из них оскорбила ее своим замечанием. Наконец она почему-то остановилась на осетинке.
– Нет, прынцесса моя, – сказала она зловещим голосом, – я не танцовщица, я богомолка. А тебе, миленькая, я скажу судьбу. Денег ты наживешь ох много! А прожить-то вот, прожить… и не успеешь…
Осетинка сразу побледнела. Старушка хотела сказать еще что-то, но в это время Глеб Иванович, до тех пор смотревший на всю сцену со вниманием художника, – понял ее значение и поднялся с места.
– Вот ведь какая ты злая старушонка, – сказал он, заступая богомолке дорогу, – денег тебе мало дали? На вот, возьми, возьми… вот! И иди себе… куда тебе надо…
Он сунул ей бумажку с таким видом, как будто это было орудие казни. Старушонка быстро схватила деньги и скрылась…
Перед самым отходом парохода к нам подошел какой-то субъект мещанского вида, в картузе и порыжевшем старом суконном пальто. Он вчера приехал в Нижний вместе с Глебом Ивановичем, между ними завязались уже какие-то нам непонятные отношения, и, по-видимому, встреча на этой пристани была не случайна. Мещанин ехал в третьем классе и очень обрадовался, разыскав Успенского в нашем уютном уголке.
– Вот и отлично, – говорил ему Успенский, – вот и превосходно. Мы с вами, значит, еще потолкуем дорогой. А теперь я вот тут… со знакомыми людьми.
Незнакомец, успокоенный, удалился.
– Превосходный человек, – объяснил мне Глеб Иванович. – Просто замечательный… И какую над ним устроили подлость…
Последний свисток прервал рассказ об этой подлости, и через несколько минут пароход отошел от пристани, унося от нас Глеба Ивановича. Помню, я тогда заметил какое-то особенное изящество всей его фигуры.
Рассеянный, не от мира сего, не думающий о себе – он как-то всегда инстинктивно, непроизвольно умел сохранить это прирожденное изящество во всем, что к нему относилось.
Когда пароход повернулся, я еще раз увидел Успенского, сходившего вниз по лесенке. И мне показалось, что с ним шел человек, над которым «была сделана большая подлость»… На пристани, долго глядя вслед пароходу, стояли мы все, и среди нас две певички с откоса. Знали ли они, с кем свели знакомство, имели ли представление о том, что этого человека знала и любила вся образованная Россия? Не думаю. Это были простые, необразованные девушки, которых жизненные невзгоды, собственная беззащитность и красота (челюсти у них обеих действительно были, как говорил Глеб Иванович, вполне «аккуратные») кинули на этот путь, покатый и скользкий. Обе они пытались еще удержаться и надеялись, что удержатся на наклонной плоскости. И я уверен, что, как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, – эта встреча с человеком, у которого были такие глубокие и любящие глаза, такая странная речь, к которому все относились с таким, может быть, не вполне понятным для них уважением и которого они провожали, как своего доброго знакомого, в это утро, – осталась в их памяти светлым пятнышком, совершенно особенным в обстановке их нерадостной жизни…
V
История этого дня имела некоторое своеобразное продолжение.
Я знаю, что Глеб Иванович путешествовал много и всегда один; значит, он как-то справлялся со всеми условиями путешествия. Но меня всегда это удивляет, когда я вспоминаю его младенческую непрактичность и его отношение к деньгам, как к безразличному сору…
Во всяком случае, данное путешествие закончилось не совсем обычным образом. Денег ему не хватило. Имел ли на это обстоятельство какое-нибудь влияние человек, над которым была «сделана подлость», или опять встречались другие люди, другие итальянские мальчишки и зловещие старухи, которых нужно было наказывать подачками денег, только уже в Калаче (или Царицыне – не помню) случилась катастрофа: нужно было взять билет, а денег не оказалось ни копейки… Глеб Иванович сам рассказывал мне впоследствии об этом эпизоде, причем его рассказ, юмористический и простодушный вместе, удивлял меня опять смесью детской наивности и тонкой улыбки над ней, совмещавшихся странным образом в одном и том же лице.
– Да… вот… Так как-то вышло. Смотрю: нет! Окончательно ничего! А тут один поезд уже ушел, пока я сводил свой бюджет… Другой, пожалуй, уйдет.
– И что же?
– Да вот видите: свет не без добрых людей… Сторож выручил.
Оказалось, что, когда бюджет был сведен, Глеб Иванович не нашел сделать ничего лучшего, как поставить свой чемодан к стене, усесться на него и ждать событий или вдохновения. Так он просидел отход одного поезда. Когда народ начал набираться к другому, он все сидел на чемодане, наблюдая вокзальную толпу, чем обратил внимание служащего, стоявшего у двери. Его обязанность состояла в том, чтобы открывать и закрывать двери и по пути наблюдать за публикой, чтобы не случилось каких-нибудь неблагополучий. Мало ли всякого народу в толпе! Среди этих наблюдений он не мог, разумеется, не заметить странного изящного господина, в коричневом пальто и серой поярковой шляпе, неподвижно сидевшего на чемодане.
– Что вы, господин, сидите? Ведь поезд-то опять уйдет, – сказал он.
– Уйдет, – ответил Глеб Иванович с фаталистической уверенностью.
– Так что же вы?
– Ничего, брат, не поделаешь! Денег нет…
– Украли?.. Так вам бы заявить…
– Нет… не то чтобы украли… Просто нет… нету, понимаешь… Не хватило.
– А сколько не хватает-то?
– Да рублей десять бы нужно… Да, десять рублей (почему-то эта цифра легче всего приходила в голову Глебу Ивановичу).
– А куда ехать?
– Еду я в N.
– А сколько же у вас есть?
– Да вот видишь: ничего нету… Окончательно, ни копейки, ни одной…
Сторож смерил его удивленным взглядом и сказал, переходя на «ты»:
– Чудак! Как же ты до N. доедешь на десять рублей, когда билет стоит пятнадцать? Да, скажем, хоть три рубля на харч, да на извозчика. Прямо говори: тебе нужно восемнадцать серебра.
– Да, да… именно выходит, что восемнадцать…
– Ну, вот что я тебе скажу…
Бывали ли уже такие случаи с этим наблюдательным человеком, много лет изучавшим людскую толпу у своей двери, или опять это нужно приписать особому впечатлению наружности Успенского, только сторож самым деятельным образом вошел в интересы странного незнакомца. Он взял ему билет и дал на руки три рубля. Справедливость требует сказать, что к сумме долга он прибавил два рубля вознаграждения за свои хлопоты и в обеспечение уплаты оставил себе чемодан. Они условились, что Глеб Иванович пошлет ему деньги, в том числе и на пересылку чемодана, а сторож пришлет чемодан багажом на нижегородский вокзал, так как Успенский опять предполагал побывать в Нижнем. Конечно, всего проще было бы прислать чемодан на мое имя, но Глеб Иванович как-то «не догадался».
Деньги он послал вскоре же из Москвы, где мы с ним встретились, а поездку в Нижний отменил.
– Ну, Глеб Иванович, пропал ваш чемодан, – сказал я. – Сторож, разумеется, оставит у себя и восемнадцать рублей, и чемодан.
– Нет! – с уверенностью сказал Успенский. – Не такой человек… Просто превосходный человек. Наверное уже выслал, и накладная, пожалуй, уже на почте. Получите, пожалуйста!
И действительно, вернувшись в Нижний, я справился на почте и узнал, что есть заказное письмо на имя Глеба Ивановича из Калача или Царицына, но… мне его не могли выдать без доверенности. На вокзале оказался чемодан, которого опять я не мог получить без квитанции. А Глеб Иванович и по возвращении из своего путешествия все не посылал доверенности. По моей просьбе удержали письмо, и лично, при свидании в Петербурге, я получил от Успенского обещание: «Пришлю, непременно! Вот увидите». Только в январе следующего (1888-го) года пришла наконец нотариальная доверенность от «домашнего учителя» Успенского. «Сегодня, – писал мне Глеб Иванович 18 января, – послал я вам доверенность на получение моего хоботья, но, кажется, переврал адрес… Посылаю это письмо наудачу… Хламье мое пусть лежит у вас столько, сколько оно захочет…»
Однако когда я опять справился на почте, то оказалось, что письма уже нет, а на вокзале «неизвестно кому принадлежавший чемодан с бельем, носильным платьем и пальто» – был продан с аукциона.
На Глеба Ивановича печальная судьба чемодана не произвела ни малейшего впечатления. Несколько раз он вспоминал только, что остался должен нам за билет… «Непременно пришлю», – прибавлял он при этом… От одного человека, говорившего о слабостях Глеба Ивановича, я слышал, между прочим, что он был не всегда аккуратен в уплате долгов… Фактически это, может быть, было верно, как и то, что Успенский пил вино… Но этот упрек показывает только, что говоривший не имел ни малейшего понятия об Успенском. Быть всегда аккуратным в уплате всех этих маленьких долгов для него было так же трудно, как не отдать всего, что у него было, первому встречному. И это так же мало касается оценки этого человека, как и толки об алкоголизме…
Но что эта черта – пренебрежение к деньгам и нерасчетливость – страшно вредила Успенскому, вынуждая к труду для заработка, – это, к сожалению, верно.
VI
Описанный выше приезд Успенского остался в моей памяти самым светлым воспоминанием, свободным еще от жутких опасений последующих годов. Правда, в нем была уже и тогда эта тревожная печаль, эта неотвязность болящих и грустных мыслей, эта особенная чуткость, которая даже общим понятиям придавала для него силу и боль реальных ощутительных явлений. Но я не знал его иным, и все это казалось почти нормальным состоянием человека, уже в юности плакавшего без видимых причин и содрогавшегося при всяком напоминании о прежней дореформенной среде и прежней жизни… Правда, к чувству умиления, вызываемому этой удивительной человеческой особью, уже порой присоединялось смутное опасение, как бы предчувствие, что такая впечатлительность и такая жизнь не может быть прочной. Но это было именно только смутное предчувствие, делавшее симпатию к нему близко знавших его людей чуткой и опасливой. Но сам он бывал еще оживлен, остроумен, весел, много работал, и наши тревоги смолкали.
В следующий приезд в Нижний зловещие признаки выступали уже заметнее. Выражение лица было более страдальческое; он жаловался на галлюцинации обоняния и потерю вкуса.
– Ничего не ощущаю… точно шапку солдатскую жуешь, – по-своему причудливо выражал он это ощущение. Его особенный юмор, которым природа наделила его в таком изобилии и который, быть может, один долго служил противоядием печали, разъедавшей эту чуткую душу, – вспыхивал все реже, а печаль выступала все острее и ощутительнее. Впечатлительность как будто еще обострялась, или сила сопротивления слабела…
Из этого периода мне вспоминается один небольшой эпизод. Войдя в мой кабинет, он увидел над столом большой литографированный портрет Л. Н. Толстого.
– Что это значит? – спросил он, указывая глазами на портрет. Это был период, когда великий писатель находился в полемическом фазисе «непротивления», когда из-под его пера появилась сказка об Иване-дураке и другие рассказы той же серии, из-за которых еще не развернулась новая эволюция этого беспокойного и могучего духа.
Я ответил Глебу Ивановичу – перед чем именно я преклоняюсь в этом человеке. Он долго и задумчиво смотрел своими печальными глазами в суровые черты портрета и потом сказал:
– Да! Я вот давно собираюсь к нему… Поговорить… о многом…
И потом, улыбнувшись, прибавил:
– Боюсь все. Огромный он… А все-таки соберусь, непременно… Вот укреплюсь и поеду поговорить… о многом.
Сколько мне известно, он так и не собрался. Всю свою жизнь он отдал на служение любви и правде, не теоретизируя об их конечном источнике… Однако в последний период в его речах и писаниях слова «бог», «нет бога в душе» попадались часто, и мне кажется, что в них было больше, чем простая форма выражения известной мысли. Может быть, уже тогда в взволнованной душе Успенского вставали мысли и образы, которые впоследствии отлились в определенные представления инокини Маргариты, ангелов, бога… И в содрогании чуткой души перед огромностью этих вопросов уже чувствовалась, может быть, надломленность и страдание надвигавшейся болезни…
Свои статьи этого времени он буквально писал соком уже больных нервов, а не писать не мог. Он все равно переживал их всем своим существом, страдал и мучился своими темами.
Помню, однажды, войдя к Н. К. Михайловскому, жившему тогда в «Пале-рояль», на Пушкинской, – я застал в его номере Глеба Ивановича. Он сидел на кушетке с папиросой в руках. Лицо у него было искаженное внутренней болью, одна бровь поднялась значительно выше, в глазах душевная тревога. Это было время, когда он писал рассказ «Взбрело в башку». Сюжет рассказа разыгрывался у него на глазах в Чудове, и на некоторое время всех нас, своих друзей, он втянул в эту печальную историю, все фазы которой он переживал, как мы переживаем разве опасную болезнь самых близких людей. В этот раз он уговорил меня ехать с ним в Чудово, желая показать этого человека:
– Может, вы ему что-нибудь скажете… Вы не можете себе представить, что это за человек… Какая душа! Просто замечательная! И как его всего перевернуло… Вот вы увидите сами… вот увидите!
Человек этот был местный крестьянин, занимавшийся извозом, и, приехав в Чудово, Глеб Иванович тотчас же кинулся к перилам деревянного вокзального перрона, выглядывая своего Герасима (имя я, впрочем, забыл) среди ожидавших на площади извозчиков. Теперь каждый раз, когда я проезжаю мимо Чудова, мне кажется, что я вижу фигуру Глеба Ивановича, перегнувшегося через перила и всматривающегося с выражением такой тревоги и опасения, как будто он ждал вести об опасно заболевшем собственном ребенке.
Герасима не оказалось, и вместо него нас повез другой извозчик, мужичонко неприятного вида, болтливый, с фальшивыми нотами в голосе. Глеб Иванович спросил у него о Герасиме, и затем, при разглагольствованиях нашего возницы, какие-то тени внутренней боли проходили по его лицу.
– Вот… вот видите… – сказал он мне, при какой-то особенной резнувшей ухо фразе извозчика… – Никогда Герасим не скажет такого. Ник-когда! Просто удивительно деликатный человек.
Приехав к своему дому, он отдал извозчику деньги и сказал:
– Пожалуйста, теперь пришли мне Герасима. Через два часа опять на вокзал…
– Да что вам, Глеб Иванович, Герасим? – сказал извозчик. – Я сам доставлю.
– Герасима… Герасима мне… Понимаешь. Мне нужно…
– Да на что же Герасима, когда я…
Глеб Иванович, собравшийся уходить, вдруг повернулся, пристально всмотрелся в мужика и, вынув бумажку, сунул ему в руки.
– Вот… возьми. Тебе непременно денег хочется. Вот, вот… вот тебе, вот! Теперь пришли Герасима, а сам не приходи, пожалуйста… Сделай ты мне одолжение, не приходи…
На лице его было то же выражение, как в сцене со старухой на пароходе: гнев, презрение к деньгам и к человеку, которому только они и были нужны, и страдание за него и за себя. На этот раз мне показалось еще, что он откупается от этой мучительной для него неискренности. Однако Герасима все-таки не оказалось, и нас на вокзал повез другой извозчик.
Это настроение непереносности обычных житейских лжи и фальши, неправды и страдания, мимо которых мы, люди с более грубыми нервами, проходим довольно равнодушно, которую прежде Успенскому помогала переносить смягчающая юмористическая складка, – теперь усиливалось быстро из года в год. Прежде он любил приезжать в Москву и иной раз, остановившись в гостинице, кончал здесь статьи для «Русских ведомостей» или «Русской мысли». Со временем, однако, ему становилась невыносима обстановка гостиниц и меблированных комнат.








