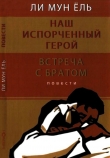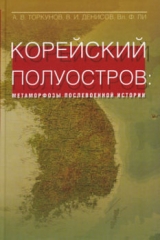
Текст книги "Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории"
Автор книги: Владимир Ли
Соавторы: Анатолий Торкунов,Валерий Денисов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
В результате заключения трех союзнических договоров (СССР—Китай, КНДР—СССР, КНДР—Китай) в СевероВосточной Азии возникла крупная военно-политическая коалиция, которая обеспечивала весомые преимущества Пхеньяну. Опираясь на ракетный и ядерный потенциал СССР и КНР, Пхеньян мог позволить себе не только воинственную риторику, но и конкретные шаги, такие, например, как задержание иностранных военных судов вблизи его территориальных границ (инцидент с разведывательным кораблем ВМС США «Пуэбло» в январе 1968 г.). Одновременно Ким Ир Сен постепенно дистанцируется от Москвы и Пекина, перенося акценты на чучхейские принципы в проведении не только внутренней, но и внешней политики.
§ 2. Республика Корея в «оборонительной системе» США в СВАВнешнеполитический курс Республики Корея после окончания корейской войны находился в состоянии многосторонней зависимости (политической, финансово-экономической, военно-стратегической) от США. Правительство РК не располагало широкими выходами на международную дипломатическую арену, хотя опиралось на официальную декларацию 16 государств – членов ООН, входивших в состав «Объединенного командования» (Австралия, Бельгия, Канада, Колумбия, Эфиопия, Франция, Греция, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Южная Африка, Таиланд, Турция, Великобритания и США). В совместном документе, подписанном этими государствами в день перемирия (27 июля 1953 г.), говорилось, что, в случае возобновления войны на Корейском полуострове, они будут вновь «участвовать в военных действиях» и не остановятся перед перенесением этих действий за пределы Кореи, т. е. на китайскую территорию. Эта позиция основательно подогревала милитаристский дух во внешней политике Ли Сын Мана.
1 октября 1953 г., т. е. спустя два месяца после прекращения огня, госсекретарь США Д. Ф. Даллес и глава внешнеполитического ведомства РК Бён Ен Тхэ подписали американо-южнокорейский Договор о совместной обороне, цель которого состояла в том, чтобы объединить стратегические потенциалы двух государств в целях эффективного «отражения общей опасности» и укрепления взаимосвязей для совместной борьбы «против угрозы коммунистической агрессии». Статья 3 предусматривала оказание максимально возможной помощи друг другу в случае агрессии против одной из договаривающихся сторон. Правда, оказание экстренной американской военной помощи не было бы автоматическим и предполагало обязательное соблюдение определенной конституционной процедуры, связанной с одобрением со стороны Конгресса США.
Следующая статья 4 Договора о совместной обороне предоставляла США право размещать на южнокорейской территории сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы не только на основе прежних резолюций ООН по Корее, но и на двусторонней основе. Причем какие-либо ограничительные рамки такого размещения не оговаривались, и стало быть, они носили по существу бессрочный характер. 17 ноября 1954 г. после ратификации Конгрессом США и Национальным собранием РК этот документ вступил в силу и на многие годы определил общую внешнеполитическую линию Сеула. Отныне все узловые проблемы воссоединения Кореи отодвигались де-факто на второй план, ибо Юг Кореи превращался в составное звено американского стратегического «четырехугольника» в СВА в составе: США, Японии, Южной Кореи, Тайваня.
Южная Корея в этом «четырехугольнике» представляла, по оценкам американских стратегов, особое звено как субрегион, непосредственно примыкающий к мировому периметру «коммунистической системы» на Востоке. Согласно ориентировочным расчетам, за период с 1945 по 1995 г. США предоставили помощь Южной Корее на общую сумму более 3 млрд долл. Только в период корейской войны лисынмановский режим получал ежегодно 200–300 млн долл. помощи, а в послевоенном 1957 г. эта сумма возросла до 380 млн. Без американских поставок продовольствия (около 25 % помощи) и американского сырья и полуфабрикатов (42 % указанной помощи) народное хозяйство послевоенной Южной Кореи оказалось бы в состоянии тупика.
В августе 1954 г. состоялся официальный визит Ли Сын Мана в США. Ему была предоставлена возможность выступить на совместном заседании Палаты представителей и Сената США. Отражая позиции наиболее воинственных кругов Сеула, Ли Сын Ман утверждал, что все планы мирного воссоединения Кореи потерпели неудачу и остается только один путь силового решения назревшей проблемы. Позднее (24 июня 1959 г.) в интервью корреспонденту «Юнайтед Пресс Интернейшнл» Ли Сын Ман назвал американскую линию невоенного воссоединения Кореи глубоко «ошибочной», поскольку добиться объединения можно только вооруженной силой. Поэтому США и другие члены ООН – участники корейского конфликта «должны предоставить правительству Южной Кореи возможность изгнать коммунистов из Северной Кореи и объединить страну… Самое лучшее время для объединения страны наступило именно теперь. Мы не можем больше ждать. Иначе коммунистические силы укрепятся еще больше», – доказывал правитель Южной Кореи.
Поездка Ли Сын Мана в США подготовила подписание 17 ноября 1954 г. еще одного базового документа – Протокола корейско-американских переговоров по военным и экономическим вопросам. По этому Протоколу вооруженные силы Южной Кореи оставались под контролем командования ООН до тех пор, пока эта организация будет нести ответственность за национальную оборону РК. Вашингтон взял на себя обязательство выделять своему южнокорейскому партнеру новую партию помощи. И вновь декларировалось, что США без промедления «используют свои вооруженные силы против агрессора в случае неспровоцированного нападения на Республику Корея». В документе лишь мимоходом говорилось о насущных проблемах воссоединения Кореи. Однако Ли Сын Мана не удовлетворяли подобного рода общеполитические декларации, и он продолжал критиковать излишнюю «мягкость» в корейской политике Вашингтона, побуждающую Сеул «определить свой собственный курс, независимый от помощи США».
Вторым после США направлением во внешней политике президента Ли Сын Мана была Япония. Несмотря на мощные антияпонские настроения, укоренившиеся за годы колониального бесправия и унижения, торгово-экономические связи между Южной Кореей и бывшей метрополией получили форсированное развитие еще в годы Корейской войны, когда японские острова были превращены в тыловую базу корейского фронта. Здесь на протяжении всей войны размещались на временный отдых большинство подразделений «войск ООН», действовавших на Корейском полуострове. Их содержание требовало продовольствия, снаряжения и других ресурсов. Япония становится важным поставщиком продовольствия, обмундирования и другого снаряжения для боевых частей, действовавших на корейском фронте. Только прямые военные заказы США в Японии за годы Корейской войны превысили 3 млрд долл. Япония, форсированно восстановившая после Второй мировой войны свое народное хозяйство, стала активно налаживать торгово-экономические связи с Южной Кореей.
Начиная с 1950 г., валовой национальный продукт (ВНП) Японии стал увеличиваться ежегодно на 10 % и более. Уровень промышленного производства на японских островах в годы Корейской войны возрос почти на 50 %, а объем внешней торговли (в т. ч. и с Южной Кореей) на 84 %. На вторую половину 50-х гг. приходятся глубокие структурные изменения в японской экономике. Бурное развитие получают металлургия, машиностроение, химия, строительная индустрия и т. д. Все это потребовало от Токио наведения тесных деловых мостов с вчерашними колониями и зависимыми территориями, в числе которых была и Южная Корея.
Лисынмановский режим, учитывая сильнейшие антияпонские настроения в стране, не имел возможности пойти на открытое стимулирование японского экономического проникновения в Южную Корею. Запрет на импорт многих японских товаров, в т. ч. электроники, автомобилей, косметики, показ японских фильмов, издание японских книг и журналов, наконец, требования выплаты компесации за многие годы колониального ограбления не мог игнорировать никто, хотя в Сеуле осознавали объективную необходимость развития широких деловых связей с бывшей метрополией.
В 1959 г. в Южной Корее без большой шумихи была принята делегация крупных японских фирм «Мицуи буссан» и «Мицуи сёдзи». Затем на Юге Кореи с целью ознакомления с рыночной конъюнктурой побывали представители «Сумитомо сёдзи». В 1958 г. в Токио был открыт государственно-частный Институт экономики стран Азии, который стал обстоятельно изучать перспективы японской экономической экспансии в страны Азии, включая Корейский полуостров. Позднее за счет государственно-частного финансирования стал действовать уникальный японский Институт по исследованию промышленности и экономики Южной Кореи. Институт стал проводить специальные обследования, которые призваны были раскрыть новые по сравнению с колониальным периодом условия экономических взаимосвязей между Японией и Республикой Корея.
Отмеченные выше антияпонские настроения в Южной Корее вынуждали японские монополистические круги действовать в 50–60-х гг. XX в. под прикрытием различных международных институтов. Так, японская компания «Мицуи буссан» имела выгодные подряды по линии международного Фонда займов развития (Development Loan Fund) на поставки сельскохозяйственной продукции на Юг Кореи. Другие японские корпорации действовали по контрактам через Главное управление по снабжению американских войск в Японии (Army Procurement Agency of Japan), поставлявшей в РК цемент, транспортные средства, военное оборудование.
В начале 60-х гг. под эгидой Японского совета по изучению проблем экономики был издан уникальный энциклопедический труд «Состояние южнокорейской экономики», в котором был дан обстоятельный анализ реальных перспектив экспансии японского капитала в Южную Корею. Рекомендовалось максимально использовать не только острую нужду РК в иностранных инвестициях, промышленном оборудовании, сырье, но и знакомство корейцев в недалеком прошлом с основами японской цивилизации. Что же касается вспыхивающих постоянно в Корее митингов и демонстраций протеста против «нормализации» отношений с Токио, то авторы упомянутой выше книги открыто призывали корейцев «отбросить ненависть и подозрительность» и развивать в себе новый дух международного взаимодействия.
Важную роль в наведении мостов между Сеулом и Токио играли представители корейской диаспоры в Японии из числа представителей крупного капитала. Один из них Со Гин Хо (японское имя Э. Сакамото) основал компании «Сакамото босэки» (1948), «Осака босэки» (1954), «Хатара босэки» (1956), занимавшие важные позиции в прядильно-ткацком производстве. Со Гин Хо стал одним из главных лоббистов нормализации южнокорейско-японских отношений. Ему приписывают уникальную сделку по покупке участка земли и особняка в японской столице, где позднее с комфортом разместилось посольство РК. В 1960 г. Со Гин Хо основал в Сеуле и Пусане акционерную компанию «Пханбон муён» с капиталом 19,5 млн долл., которая совместно с коммерческим банком «Хангук саноп ынхен» занялась экспортно-импортными операциями с хлопком, пряжей, красителями, ткацкими станками и строительным оборудованием. На фабрике компании в Сеуле трудилось более 3,5 тыс. рабочих и служащих. Все это говорит о том, что еще до официальной нормализации отношений между Сеулом и Токио японский крупный капитал находил скрытые пути торгово-экономической экспансии в Южную Корею.
* * *
Итак, для исторического периода от окончания вооруженного конфликта на Корейском полуострове до конца 60-х гг. XX в. характерны следующие основные черты развития: а) форсированное восстановление народного хозяйства КНДР и консолидация авторитарной власти Ким Ир Сена; б) противоречия социально-экономической и политической эволюции на Юге, породившие кризис и крушение лисынмановской диктаторской власти. В этот период два корейских государства предпринимали активные усилия для выхода на международную арену, но не сделали ни единого реалистического шага навстречу друг другу в поисках компромиссной модели общенационального воссоединения. КНДР односторонне провозгласила себя «опорной базой революции» общенационального масштаба, а форсированно милитаризующийся Юг, в свою очередь, стал также ориентироваться на силовой метод разрешения противостояния с Севером. Остроконфронтационное противостояние двух Корей переросло в опасное противоречие регионального и международного масштаба.
Часть пятая
Политическая и социально-экономическая эволюция КНДР и Республики Корея в 60–70-х годах XX века
Глава I
Северокорейский курс на построение «социализма с корейской спецификой»
К началу 1970-х гг. в КНДР были осуществлены крупные политические и идеологические преобразования, основное содержание которых составили установки Ким Ир Сена на строительство «чучхейского социализма», или «социализма корейского образца». К этому времени «партизанская фракция» Ким Ир Сена добилась полной победы над своими противниками. Все «антипартийные группировки» в руководстве ТПК были разгромлены. В правящей партии и во всем северокорейском обществе, как объявил Ким Ир Сен, была установлена «единая идеологическая система идей чучхе».
Выступая на V съезде ТПК (ноябрь 1970 г.), Ким Ир Сен заявил, что все население страны руководствуется принципом «не признавать никаких других идей, кроме революционных идей чучхе».
На съезде также было объявлено, что КНДР превратилась в «социалистическое индустриальное государство», в стране созданы мощные вооруженные силы, «система всенародной государственной обороны».
Несмотря на неэффективную систему управления экономикой, растущие расходы на военные цели, волюнтаризм, в конце 1970 г. КНДР удалось добиться определенных успехов в развитии народного хозяйства. Эти успехи связаны в основном с экономической помощью КНДР со стороны Советского Союза. СССР предоставил Северной Корее крупные кредиты, позволившие улучшить экономическую ситуацию.
В 1975 г. в стране была проведена очередная реформа в промышленности. В ее основных отраслях было произведено укрупнение предприятий и созданы промышленные объединения. По всей стране действовало шесть таких объединений: два металлургических (им. Ким Чака и Хванхэ), сталелитейное (Кансон), два химических (виналоновое и хыннамское) и одно электроэнергетическое (Пукчхан). По оценкам северокорейских специалистов, создание промышленных объединений способствовало укреплению кооперационных связей между предприятиями, повышению производительности труда и росту объемов производства. Судя по всему, на первых этапах укрупнение производств имело определенный экономический эффект. Однако слабая техническая оснащенность большинства промышленных объектов, перманентная напряженность на железнодорожном транспорте практически сводили на нет попытки решить проблемы промышленного производства путем организационных реформ.
Новый план экономического развития на 1971–1976 гг., одобренный на V съезде ТПК, хотя и не был выполнен, однако по ряду показателей экономика КНДР продвинулась вперед по сравнению с 1970 г. По оценкам экспертов,[43]43
В КНДР с начала 1960-х гг. не публикуются официальные статистические данные о развитии экономики.
[Закрыть] производство электроэнергии достигло 28 млрд кВт · ч (в 1970 г. – 16,5), угля – 50 млн т (27,5), стали – 3,8 млн т (2,2), цемента – 7,5 млн т (4,0).
Естественно, северокорейская пропаганда связала эти успехи не с советской технической помощью и кредитами, а с политическими установками Ким Ир Сена, выдвинутыми на V съезде ТПК. Главной политической доктриной, предложенной Ким Ир Сеном на партийном форуме, были объявлены «три революции» – идеологическая, техническая и культурная. Причем, «идеологическая революция» трактовалась как «освобождение людей от пережитков старого общества, неравенства и кабалы», что, как утверждала северокорейская пропаганда, позволило народным массам проявить свои творческие способности, утвердить самостоятельность. Иными словами, установить «чучхейский» взгляд на окружающий мир. Под технической революцией в КНДР, согласно установкам Ким Ир Сена, понималось стирание различий между тяжелым и легким трудом, между промышленностью и сельским хозяйством, между физическим и умственным трудом, а также освобождение женщин от «бремени домашних забот» путем расширения сети магазинов, прачечных, детских садов, яслей и т. п.
Культурная революция, как отмечалось в партийных документах, должна привести к повышению общего образовательного уровня в стране, идеологическую основу которого должны непременно составлять «идеи чучхе», формированию национальной интеллигенции, повышению качества образования, открытию новых высших учебных заведений. К середине 1970-х гг. количество вузов в КНДР выросло до 200.
Начало 1970-х гг. в КНДР связывается также еще с одним знаменательным событием – выдвижением сына Ким Ир Сена Ким Чен Ира в качестве официального преемника и продолжателя «великого революционного дела чучхе».
Ким Чен Ир родился в селе Вятское под Хабаровском 16 февраля 1941 г. (северокорейская официальная пропаганда утверждает, что Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 г. в партизанском лагере в горах Пэктусан). В 1964 г. окончил Пхеньянский университет им. Ким Ир Сена по специальности политическая экономия. Работал в аппарате ЦК ТПК, руководил личной охраной Ким Ир Сена. В 1974 г. стал секретарем ЦК ТПК). В официальной пропаганде в 1970-е гг. Ким Чен Ира называли «центром партии», «уважаемым руководителем».
Таким образом, в начале 1970-х гг. в КНДР завершилось формирование политического режима во главе с Ким Ир Сеном, что нашло свое высшее юридическое отражение в новой социалистической Конституции, принятой в декабре 1972 г. Основной закон КНДР придал юридический статус всем главным политическим установкам, сформулированным Ким Ир Сеном в 1960–1970-е гг. В частности, в Конституции северокорейское государство характеризуется как «революционная власть, унаследовавшая блестящие традиции, созданные в славной революционной борьбе против империалистических агрессоров». Особо выделяется положение о том, что в своей деятельности КНДР руководствуется «идеями чучхе» Трудовой партии Кореи, которые на том этапе именовались как «творческое применение марксизма-ленинизма к северокорейским реалиям». Установкам Ким Ир Сена о «методе Чхонсанри», движении Чхонлима, тэанской системе работы и др. был также придан высший правовой статус.
В Конституции подчеркиваются ведущая роль государственной собственности, плановый характер экономики КНДР, основные принципы планирования – унификация и детализация планов и т. д.
Конституция декларирует основные права и свободы граждан, а также их обязанности. Особо выделяется обязанность «повышать революционную бдительность в отношении происков империалистов и враждебных элементов всех мастей, выступающих против социалистического строя».
Основной закон 1972 г. коренным образом изменил структуру высших и местных органов власти. Был введен пост Президента КНДР с очень широкими полномочиями. Президентом был избран Ким Ир Сен. Центральный народный комитет (ЦНК) стал «высшим руководящим органом государственной власти». Фактически ЦНК сочетал в себе функции главы государства, госсовета и правительства. Руководителем ЦНК, по Конституции, являлся Президент КНДР. Административный совет (АС) выполнял исполнительные функции. Работой АС руководит глава государства и ЦНК.
На местах органами власти являлись народные собрания, местные народные комитеты и местные административные комитеты.
Реформирование высших и местных органов власти было направлено на ужесточение административного контроля за всеми сферами экономической, политической и общественной жизни КНДР, дальнейшее укрепление тоталитарной системы власти. Все это в КНДР называлось строительством «социализма корейского образца», или «чучхейского социализма».
Глава II
Становление военно-бюрократического режимана Юге. «Демократия корейского типа»
§ 1. Военный переворот 16 мая 1961 гВ зарубежной историографии антилисынмановское народное восстание весной 1960 г. нередко именуется как «апрельская революция». Согласиться с подобными утверждениями очень трудно, поскольку политическая, экономическая и информационная власть осталась в руках той же крупнобуржуазной группировки и армейской верхушки проамериканской ориентации. Тем не менее США, как основной спонсор и протеже одиозной лисынмановской власти, вынуждены были пойти на трансформацию и модернизацию сильно забуксовавшей системы.
При этом Вашингтон крайне тревожила «президентская чехарда». После позорного бегства Ли Сын Мана на посту и.о. президента РК побывали Хо Чжон (03.03–15.06.1960), Квак Санг Хун (15–26.06.1960), снова Хо Чжон (26.06–13.08.1960). Ни один из них не в состоянии был взять в свои руки эффективное управление бурлящей страной.
В дни апрельского восстания 1960 г. американский посол в Сеуле открыто отмежевался от репрессивной политики Ли Сын Мана. Это окончательно оттолкнуло от Голубого дворца (резиденция Президента РК) главную опору режима – армию, в которой преобладало новое офицерство, прошедшее подготовку и переподготовку в военных академиях США. Под прямым давлением Вашингтона Национальное собрание утвердило 15 июня 1960 г. ряд конституционных нововведений по децентрализации власти. В их число вошло создание конституционного суда, ответственного кабинета министров, двухпалатного парламента, выборность губернаторов провинций и мэров городов, усиление контроля над силовыми структурами.
На выборах в новый парламент, экстренно проведенных 29 июля 1960 г., большинство мест в обеих палатах получила Демократическая партия (Минчжудан), основным политическим лозунгом которой была борьба с ненавистной народу лисынмановской диктатурой. Премьером правительства стал Чан Мён, а президентом избран Юн Бо Сон (1897–1990), популярный участник антияпонского сопротивления, один из членов Временного правительства Кореи, которое США упорно не признавали после освобождения страны.
1 октября 1960 г. на основе обновленной Конституции было обнародовано основание Второй Республики. Тем самым всячески подчеркивался переход к новым ценностям во внутренней и внешней политике страны. Однако патриотические и демократические силы не намерены были довольствоваться преобразованиями верхушечного характера. Они настойчиво требовали радикальных перемен и реальных акций, направленных на воссоединение разделенной нации. По всей стране проводились массовые митинги и демонстрации, возникали новые национально-патриотические партии и организации: Корейская социальная партия (Хангук сахведан), Социалистическая народная партия (Сахве минчжудан), Центральный комитет по самостоятельному объединению нации (Минчжок чачжу тхониль чунан вивонхве), Всеобщая лига движения за объединение родины на основе нейтралитета (Чунинхва чогук тхониль ундон чхонъёнмен) и др.
Оппозиционные партии и движения резко критиковали правящие верхи за провалы во внутренней и внешней политике, требовали социально ориентированных реформ, внедрения плановых начал в экономике, реальных шагов по сближению с Севером. За неполные 10 месяцев после апрельского восстания 1960 г. в стране произошло более 2 тыс. народных митингов и демонстраций. Оппозиция требовала срочного принятия закона об ответственности и ограничении прав чиновников прежней лисынмановской администрации, допустившей грубые нарушения закона.
Стихийное народное движение все отчетливее направлялось против иностранной зависимости, хозяйственной разрухи, инфляции, за проведение реальных реформ и поиск путей сближения с Севером, где ускоренными темпами и на плановой основе развивались экономика, образование, жилищное строительство, другие социальные сферы. Чтобы парализовать «опасные» контакты с Севером, остановить проникновение оттуда «подрывных элементов», правительство Чан Мёна в марте 1961 г. принимает два драконовских закона – Временный чрезвычайный антикоммунистический закон и Закон о контроле над демон страциями, предусматривавшие уголовную ответственность за участие, а тем более организацию акций патриотического протеста.
Повышенную политическую активность после падения лисынмановской диктатуры стало играть студенчество, в рядах которого преобладали непривилегированные выходцы из рядов новых средних слоев (интеллигенции, служащих, низшего чиновничества, крестьян-арендаторов и т. п.). Их стихийная активность привела к созданию в октябре 1960 г. Лиги объединения нации (Минчжок тхониль ёнмэн), приступившей к сбору 1 млн подписей южан за скорейшее воссоединение с Севером. Одновременно руководство Лиги, обвинив кабинет Чан Мёна в бездействии, объявило о подготовке массового патриотического марша к Пханмунчжому в районе демилитаризованной зоны, чтобы провести прямые переговоры с представителем КНДР по вопросу о воссоединении. Начало народного марша было запланировано на 20 мая 1961 г. С призывом сеульской Лиги объединения нации солидаризировались многие студенческие и молодежные организации и движения других городов Юга. Однако в самый разгар подготовки этой крупной общеполитической акции на политическую сцену вышла совершенно новая сила – южнокорейская армия, точнее офицерство нового поколения. Его боевое и политическое ядро – Военно-революционный комитет (Кунса хёнмён вивонхве) 16 мая 1961 г., т. е. за 4 дня до начала марша мира и воссоединения на Пханмунчжом, наводнив столицу войсками, объявил о взятии всей полноты власти в стране в свои руки. Двое суток спустя состоялось последнее официальное заседание кабинета, на котором премьер Чан Мён официально объявил о передаче власти в стране Военно-революционному комитету. (Отставка безвластного Юн Бо Сона с поста президента состоялась позднее – 22 марта 1962 г.) Так завершилась недолгая история Второй республики и «увяли» хрупкие ростки южнокорейской демократии, появившиеся на волне «апрельской революции» 1960 года.
* * *
Стремительный выход южнокорейского офицерства на политическую авансцену вопреки мнению, распространенному среди некоторой части ученых-корееведов, не был случайным явлением. В 50–70-е гг. XX в. во многих странах Востока (Египет, Алжир, Пакистан, Индонезия, Бирма и др.) именно армия и прежде всего его офицерство как наиболее организованная, сплоченная и профессионально образованная сила путем военных переворотов принимала на себя ключевые функции по деколонизации и модернизации своих стран. Ни одна другая политическая сила правого или левого толка не в состоянии была в те годы эффективно выполнять эту задачу. Захватив власть, военные, как правило, достаточно эффективно откликались на остро назревшие проблемы нации и длительное время находились у руля государственного правления, меняя затем военные мундиры на гражданские одежды. И эту важную, хотя и необычную для армии, можно сказать, уникальную невоенную функцию нового поколения военных освободившихся стран своевременно подметили в Вашингтоне. Под фасадом обеспечения «интересов национальной безопасности» в США в послевоенные годы разрабатывается и реализуется внушительная программа обучения и переподготовки офицерских кадров стран третьего мира.
И Южная Корея одной из первых вошла в эту программу стратегического значения. Политическое ядро сформированного Военно-революционного комитета составили выпускники американских военно-академических учебных заведений, получившие к тому же боевое крещение в сражениях Корейской войны 1950–1953 гг. И выдвигая их к рулю государственной машины правящие круги США были убеждены, что они делают беспроигрышную ставку. Новое офицерство, как правило, происходило из непривилегированных семей среднего класса и было лишено высокомерия и чванства, свойственных традиционной военной аристократии (типа военных из числа янбанов в Корее). Оно не было заражено антиамериканизмом, а, напротив, являлось ревностным поклонником заокеанского образа жизни. И во многом типичной в этом плане выглядит политическая биография южнокорейского основателя военно-бюрократического режима генерала Пак Чжон Хи.
Пак Чжон Хи появился на свет в небогатой многодетной крестьянской семье в провинции Кёнсан 30 сентября 1917 г. Прилагая немалые усилия, родители дали ему образование сначала в начальной школе, а затем в педагогическом колледже, после которого он усердно учительствовал в сельской школе. По призыву японских властей пошел служить в императорскую армию и как один из лучших рядовых был направлен на учебу в Маньчжурию – вначале в Армейскую школу младшего командного состава, а затем в Японскую военную академию. В разгар тихоокеанской войны (1944) он оканчивает академию и в чине лейтенанта императорской армии под именем Масао Такаги вскоре принимает участие в карательных операциях против красных партизан, в числе которых были корейцы, проживающие в Китае. О «боевых подвигах» Пак Чжон Хи известно очень мало, но среди южнокорейцев распространена легенда, согласно которой однажды подразделение Пак Чжон Хи якобы участвовало в Маньчжурии в ожесточенном сражении против партизанского отряда Ким Ир Сена.
После освобождения Кореи в 1945 г. все те, кто запятнал себя сотрудничеством с японскими властями, отстранялись от государственной службы не только на Севере, но и на Юге. Но с перешедшим на время в гражданский статус Масао Такаги ничего не случилось. Он вернул себе корейское имя Пак Чжон Хи, после чего смог призваться в южнокорейские вооруженные силы, где проходил переподготовку в Военной академии Юга и получил звание капитана. И вдруг произошло невероятное: будучи слушателем Военной академии, он по странному стечению обстоятельств, увлекся левыми идеями, стал организатором низовой подпольной коммунистической ячейки и 19 октября 1948 г. оказался в составе мятежного 44-го пехотного полка, которому было приказано отправиться на остров Чечжудо для подавления крестьянского народного восстания. Полк отказался подчиниться приказу командования, восстал и присоединился к повстанцам. Антилисынмановское восстание удалось тогда подавить только при участии крупного контингента американских войск. Многие зачинщики антиправительственного восстания были схвачены, и военный трибунал приговорил их к смертной казни. В числе приговоренных к высшей мере оказался и Пак Чжон Хи.
И здесь происходит еще один таинственный и загадочный парадокс. По настоятельной просьбе американского военного советника, наверняка знавшего о Пак Чжон Хи намного больше, чем его коллеги по службе, президент Ли Сын Ман помиловал осужденного, который, вступив в сделку со следствием, выдал имена всех нелегальных коммунистов в армии, включая своего родного брата. После этого Пак Чжон Хи переходит на службу в военную разведку, плотно занимается выявлением и чисткой армии от неблагонадежных.
С началом корейской войны Пак Чжон Хи снова на службе в кадровой армии РК. Для обычного офицера такие «темные пятна», как добровольная служба в императорской армии и причастность к «коммунистическому заговору», стали бы непреодолимой преградой. Но только не для Пак Чжон Хи. За три года он совершает карьерный рывок от капитана до генерала, а после заключения Соглашения о перемирии в Корее направляется в числе южнокорейских офицеров на командную переподготовку в США, где помимо сугубо военных наук и английского языка штудирует политологию, опыт государственного управления и мировой дипломатии. По возвращении в РК командует различными дивизиями, а в 1961 г. становится заместителем командующего 2-й армией. Разумеется, все эти годы он находится под пристальным оком американских спецслужб, озабоченных поисками новых лидеров на Востоке.
Ко времени глубокого кризиса Второй республики и полного банкротства политического курса Чан Мёна – Юн Бо Сона Вашингтон располагал в Сеуле достаточно надежным кадровым резервом в лице новой военной элиты, вокруг которой усиленно создавался ореол прочной «надклассовой силы», сохраняющей верность высоким принципам конфуцианской и офицерской этики и способной подавить протекционизм, клановость, коррупцию и анархию гражданской администрации.