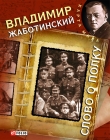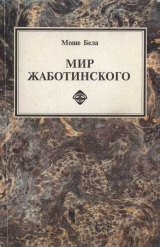
Текст книги "Мир Жаботинского"
Автор книги: Владимир Жаботинский
Соавторы: Моше Бела
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
«О НЭПе сионизма», 1928; в сб. «На пути к государству».
Жаботинский снова и снова подчеркивал, что речь идет не о разовом компромиссе, но о государственной системе, решения которой обязательныдля сторон:
Не должно быть никакой неясности в отношении этого принципа: «обязательный арбитраж» – это не теоретическая «обязанность» найти третейского судью в случае спора: «обязательный арбитраж» – это организационный принцип, глубокая общественная реформа, если угодно – новый общественный строй, выраженный в новых общественных институтах. Это – экономический «парламент», включающий доверенных представителей всех отраслей еврейской экономики в Стране: хозяев предприятий, рабочих, служащих, и его исполнительный орган – Верховный суд арбитров, избираемый самим «парламентом», суд, решения которого обязательны для всех избирателей. Те, кто не согласятся избирать такой парламент, пусть остаются «при своих». Никакого принуждения не будет, но они сами очень скоро поймут, что для них же лучше присоединиться к общему соглашению, ибо велика притягательная сила мира, она сильней эгоизма и упрямства. Такой строй гарантирует приемлемые условия работы и, вместе с тем, приемлемые условия для развития частной инициативы. Он спасет нас от уродливых проявлений конфликта, ставящих под удар дело развития еврейской экономики.
Письмо конгрессу сионистов-ревизионистов, 1934.
Это предложение Жаботинского не понравилось руководителям рабочего движения в сионизме, которые усмотрели в нем покушение на их священные ценности. Учреждение Национального рабочего профсоюза, провозгласившего своей целью достижение классового мира и социального компромисса, было бельмом на глазу руководителей «рабочего» движения. Они обвиняли членов нового профсоюза в «прислужничестве буржуазии». Жаботинский отвечал на это:
Те, кто вышел из «левого» профсоюза, доказали тем самым, что признают следующие принципы. Первый – идеологический: из двух идеалов (идеала сионизма и идеала классового) они выбирают сионизм; второй – экономический, научный: они согласны с тем, что в период строительства государства (цель которого – спасти массу людей) их работа, к нашему глубокому сожалению, будет низкооплачиваемой.
И из того, что наши друзья приняли такой подход, вовсе не следует, что они намерены с радостью подарить «дешевую работу» еврейскому капиталу в Эрец Исраэль.
Во-первых, большинство этих рабочих – молодые люди, могущие похвастаться волчьим аппетитом. И, естественно, предпочитающие зарплату побольше. Так же, как я предпочитаю высокие гонорары, а предприниматель – высокую прибыль. Во-вторых, они считают, что вопрос высокой или низкой оплаты труда должен быть решен только при помощи национального арбитража, т. е. после детального расследования, проведенного надпартийной инстанцией. В-третьих, и это главное, речь тут вообще не идет о подарках или пожертвованиях еврейскому капиталу.
Если понадобится, мы пожертвуем здоровьем и самой жизнью ради целей сионизма, но не ради промышленника или плантатора. То самое «в-третьих», о котором упоминалось выше,– самое главное, ибо самый ярый апологет национального согласия и самый ярый противник классовой борьбы никогда не согласится с тем, что самые крупные жертвы во имя процветания родины и народа должен принести он, бедняк, а самые малые жертвы или вообще никакие – его работодатель. Я подчеркиваю это, чтобы напомнить, что, когда мы создавали Национальный профсоюз, никто из нас не тешил себя иллюзией, что немедленно разгорится пламенная любовь между работниками и предпринимателями. Нам было ясно как раз обратное – что идею обязательного национального арбитража, которому должны безоговорочно подчиняться все и от которого не должно быть никаких производственных или бухгалтерских «тайн»,– первыми встретят в штыки работодатели, а не рабочие.
«Промышленный вопрос», «ха-Ярден», 1.5.1936.
Исторический факт: еврейская буржуазия – как в Израиле, так и за границей – не проявила восторга по поводу идеи национального арбитража и социального учения Жаботинского вообще. Многие представители еврейской буржуазии присоединились к хору хулителей этого учения. Один из них, лидер американской еврейской общины д-р Стефан Вайс, заявил, что Жаботинский покусился на «еврейские идеалы», базирующиеся на социальной справедливости... Жаботинский вынужден был защищаться и от нападок с этой стороны:
Нет справедливости там, где нет суда. Первое правило любого суда: заинтересованные стороны не могут выносить решение. Когда стороны решают «разобраться» сами, без посредников – побеждает не правый, а сильный. При забастовке добьется своего непременно тот, у кого больше денег, а вовсе не тот, кто прав. Возможно, в джунглях это и считается «справедливостью», но у людей, в особенности у евреев,– это не так. Единственный путь к достижению социальной справедливости – арбитраж.
«Тенета «клейзмеров», 1935; в сб. «На пути к государству».
На статью в лондонской газете «Джуиш кроникл», написанную английским евреем Маркусом, Жаботинский ответил в частном письме, не упоминая ее автора:
Мы, несомненно, приветствуем социальные реформы и не приемлем порядка вещей, допускающего существование нищеты, точно так же, как любой из наших оппонентов. Некоторые из нас по своим убеждениям – социалисты, приросшие душой к этому учению... Более того, некоторые из нас вовсе не против классовой борьбы в радикальной форме, ведущей к общественным потрясениям,– в странах, где имеется установившаясяэкономика. Но все мы решительно не приемлем классовую борьбу в экономике поселенцев, т. е. в экономике, развивающейся ненормальными темпами. Здесь мы бы хотели, чтобы забастовки и локауты были заменены арбитражем. Называйте это, если хотите, утопией, но вы не можете отрицать, что арбитраж не означает освящения низкооплачиваемого труда.
Письмо на английском яз., 21.8.1935.
Бейтар
«Дети моей мечты».
Десятилетия прошли со дня смерти Жаботинского, но по сей день его ученики и последователи часто называют его не по имени, а величают «Глава Бейтара». Много почетных званий было у Жаботинского, но ни одно из них не было так дорого ему и не произносилось его учениками с такой любовью, как это. Жаботинский отвечал на любовь и уважение бейтаровцев безграничной верой в них и в их миссию.
Как же определял Жаботинский смысл миссии Союза имени Йосефа Трумпельдора (Бейтар)? Из многих его статей и выступлений на эту тему мы выбрали следующий отрывок из брошюры «Идея Бейтара»:
Задача Бейтара формулируется просто, но в то же время она невероятно сложна: сформировать тип еврея, который необходим народу, чтобы как можно быстрее и лучше решить задачу построения государства. Другими словами – создать «нормального» или «здорового» гражданина этого государства. И здесь скрыта огромная трудность, ибо ныне еврейский народ «не нормален», «не здоров», и жизнь в галуте со всеми ее прелестями мешает нам воспитать «нормального» и «здорового» гражданина. За две тысячи лет галута наш народ утратил цельность, готовность сплотиться вокруг общенациональной задачи, разучился защищать себя с оружием в руках перед лицом опасности; он привык к разговорам, а не к делу; в его жизни воцарилась дезорганизация, безалаберность возведена в принцип. И поэтому бейтаровцам предстоит совершить восхождение на высокую и крутую гору, и пройдет немало времени, прежде чем они достигнут цели. Но именно потому, что цель хорошо видна в вышине, мы можем быть уверены, что бейтаровцы ее. достигнут.
Из сб. «На пути к государству», 1934.
Жаботинский видел в Бейтаре прежде всего школу, цель которой – совершить переворот в сознании еврейского народа, рожденного в гетто. Рядом с ним и вокруг него могли вырастать дочерние организации, цели которых более конкретны, но сам Бейтар, созданный не для избранных, а для масс еврейской молодежи, должен был оставаться школой. Жаботинский решительно протестовал против попыток увести Бейтар с этой главной дороги:
Авантюризм? Есть моменты, когда он полезен. Подполье? Тоже. Но Бейтар не может и не должен иметь касательство ни к авантюризму, ни к подполью, ни к антиавантюризму, ни к антиподполью. Бейтар – это начальная школа, где юноша научится владеть кулаком и палкой и вообще средствами самообороны, маршировать и ползать, трудиться, быть опрятным, презирать любые формы разгильдяйства, как бы они ни назывались – лень или гетто, научится уважать женщину, старость, молитву (даже чужую), демократию и еще много вещей – устаревших, но бессмертных. Такой школой будет Бейтар – именно школой и именно такой – или не будет вообще.
«Понятие авантюризма», «Хазит ха-ам», 5.8.1932.
На этих страницах не хватит места, чтобы перечислить все, что Жаботинский хотел бы видеть в Бейтаре, у колыбели которого он стоял в 1923 году и окруженный воспитанниками которого лежал на смертном одре в 1940-м. Сионизму, ревизионистскому движению он отдал свои силы и свой талант. В Бейтар он вложил свою душу и любовь. Свидетельством тому – письма, цитируемые ниже. Первое написано в Иерусалиме, к пятой годовщине основания Бейтара:
Мои юные друзья, «дети моей мечты и дум моих» – что скажу я вам в день рождения Бейтара?
Только одну вещь смогу я сказать – правду.
Что такое Бейтар? Что он собой представляет, что привлекает меня именно в нем, а не в других движениях еврейской молодежи?
Не знаю.И это, быть может, лучшая хвала, которую вы сегодня услышите. Человек, столь близкий вам по духу, даже он не в состоянии объяснить, чем вы ему так дороги.
Я истратил много слов, пытаясь объяснить вашу духовную сущность: «соединение воина и пионера», «преданность идее государства, а не классовой идее», «стремление к героизму и к рыцарству» и т. д. и т. п. Но чувствую, что ни одного из этих словосочетаний не достаточно, что они описывают лишь отдельные грани того целого, что называется «Союз еврейской молодежи имени Йосефа Трумпельдора». Безусловно, этому целому присущи все перечисленные грани. Но есть еще что-то главное, а что – я не знаю.
Говорил и повторяю: эта хвала – выше любых похвал. Это значит, что то, что родилось в Риге пять лет назад,– не новая организация, и не новая партия, и не новое движение – ибо всему такому легко дать название и определение; новый мирродился в тот день, если хотите,– новая духовная раса, новая «эманация» божества нашего народа.
Не будем преувеличивать – только «родился», далеко еще не реализовался и не созрел. Бейтар – лишь семя, от которого заколосится поле. Намек на мысль, которая воплотится.
Вместе мы будем искать пути к ее воплощению. Вместе мы будем ошибаться и исправлять ошибки, пока не найдем – быть может! – то, что искал и не нашел Ахад Гаам, искал и не нашел Герцль, искал и не нашел Трумпельдор: образ еврейского народа, не только мечтающегоо возрождении, но способногок нему.
Если б только я мог подобрать слова, чтобы выразить все это яснее, четче... Но это очень трудно – выразить словами то, чего ты еще не видел, приближение чего ты только предчувствуешь. Вы молоды, быть может, не все вы поймете теперь, что я хотел вам сказать,– ничего, придет время, и все станет понятно, и мир тогда поймет, что прошло для нас время рабства, что пришло время нашему народу взойти на свой престол.
Бейтар – это подвижничество. Как древние подвижники, храните чистоту и внутреннюю красоту вашей жизни. Да будет для вас законом – красота во всем. В речи и в поведении, в отношениях с друзьями и с врагами, со стариком, с женщиной, с ребенком. Чем бы вы ни занимались – делайте это честно. В минуту опасности – будьте подобны разящему мечу. В повседневной жизни будьте примером великодушия и честности...
Про себя же скажу одно: с этой минуты главное для меня – Бейтар. Будем же работать вместе.
Ваш Зеев Жаботинский.
К временному высшему руководству Бейтара, 22 хешвана, 5689 (1928) г.
И еще через пять лет – к десятилетию Бейтара:
Мне хорошо известны все недостатки нашего движения – о них я мог бы написать тома. Но все же – я горжусь Бейтаром, я счастлив, что удостоился возглавить это юное сообщество, подобного которому не было в нашей истории...
«Я надеюсь», «Хазит ха-ам», 21.1.1934.
А это – к тринадцатилетию Бейтара:
Примите поздравления к юбилею бар-мицвы [*]. Вы смогли за эти 13 лет влить в духовную кровь молодежи металл – твердый и благородный одновременно. На это поколение можно будет положиться в дни бед и лишений – в горькие дни, которые, видимо, ждут нас в ближайшем будущем.
В глубинах души нации под застывшей оболочкой клокочет гнев. Мы еще увидим решительное восстание, и вы будете в тот день указывать народу дорогу.
До тех пор – хватит на нашу долю боли и испытаний. И я верю в вас и отдаю вам честь.
«Ха-Ярден», 22.2.1937.
Два следующих отрывка взяты из писем, адресованных Жаботинским «первому бейтаровцу», одному из его бессменных помощников в руководстве Бейтаром Аарону-Цви Пропесу:
Что бы ни было, я верю: через пять лет во главе нашего народа встанет новый сионизм, и Бейтар – основа этого сионизма. Эта вера помогала мне все последние годы. Ради нее буду жить и работать. И посмотрим.
24.9.1931.
...И гораздо важнее прошлого – будущее и предстоящие задачи Бейтара. В ближайшие годы мир либо погибнет, либо обновится. Если суждено ему погибнуть – то мы, евреи, должны погибнуть с ним, но на поле боя, защищая справедливость и свободу. И если обновится этот мир, то пусть возродится вместе с нами.
Из всех идей, положивших основу Бейтару, эта главная: из избиваемых рабов сделать воинов, «гениев и гордецов». Бейтар родился 15 лет назад с тем, чтобы в день совершеннолетия стать еврейской армией, отвоевывающей Государство Израиль.
20.4.1939.
Бейтар – Из праха и пепла,
Из пота и крови,
Поднимется племя,
Великое, гордое племя;
Поднимутся в силе и славе,
Йодефет, Массада,
Бейтар.
Величие —
Помни, еврей,
Ты царь, ты потомок царей.
Корона Давида
С рожденья дана.
И вспомни короны сиянье,
В беде, в нищете
И в изгнанье.
Восстань
Против жалкой
Среды прозябанья!
Зажги негасимое
Пламя восстанья,
Молчание —
Трусость и грязь.
Восстань!
Душою и кровью
Ты – князь!
И выбери:
Смерть иль победный удар —
Йодефет, Массада, Бейтар.
«Песня Бейтара»; в сб. «Стихи».
«Дети царей»
«Помни, еврей,
Ты царь, ты потомок царей».
Идея индивидуализма, с которой выступил Жаботинский (см. ст. «Индивидуализм»), рассыпаясь в извинениях и оговорках, сдобрив иронией, представив все личным капризом,– не была, на самом деле, всего лишь экстравагантной выходкой, игрой расшалившегося ума, решившего поразить всех и вся, продемонстрировав свою независимость от признанных авторитетов. Эту идею породило глубоко укоренившееся, инстинктивное ощущение абсолютного, безоговорочного равенства людей. Жаботинский уверял, что «мания равенства» была присуща ему с раннего детства:
Эта идея, эти взгляды сформировались во мне с раннего детства, и по сей день я руководствуюсь ими при рассмотрении иных социальных проблем. Некоторые утверждают, что это не «взгляды», а сумасшествие, мания. Да, действительно, я «маньяк» – когда речь идет о равенстве. В пору детства эта мания проявлялась у меня в настоящем бунте, который я поднимал, когда незнакомые люди обращались ко мне на «ты», а не на «вы»,– т. е. в бунте против всего взрослого мира. Я не «изменился» и поныне: если я обращаюсь к детям на языке, в котором есть это разделение, даже трехлетнему малышу я говорю «вы». И ничего не могу с собой поделать. Я органически не приемлю, ненавижу лютой, врожденной ненавистью любую идеологию, аргументацию, обычай, в которых есть хоть намек на разделение людей по сортам. Это, наверное, очень недемократично: я верю в то, что каждый человек – царь, и если б я мог, я создал бы новое учение, учение «панбасилии» («всеобщее царствование» – греч.)...
«Повесть моих дней»; в сб. «Автобиография».
С годами это стремление к равенству стало не только инстинктивным чувством, а священным принципом, на котором Жаботинский пытался построить свою социальную философию:
Коль скоро все живое стремится к царствованию, коль скоро к этому сводятся все усилия, следует признать правомочность этого стремления, т. е. признать: да, всякий человек – царь. Общество должно стать сообществом царей. Абсолютно неприемлемы любые этические концепции, пытающиеся подавить волю человека. Не может быть воли, властвующей над волей царя– одиночки. Нет правоты у этики, у морали, построенной на аморальном допущении, что человек-де послан в этот мир против собственной воли и должен терпеливо сносить все испытания, должен «по моральным соображениям» кому-либо или чему-либо. Ложно по самой сути понятие «обязанность», трактуемое как нечто внеположенное, противостоящее самому «обязанному». Единственный источник «обязанности» скрыт в самом «царе», «обязанность» возникает лишь в тот момент, когда царь признает ее, и исходит она из него самого. Это относится и к религии. Бессмысленно спорить об объективном существовании Божества, но признание «святости» предписаний Всевышнего – добровольное дело каждого отдельного царя.
«Введение в политэкономию», 1938; в сб. «Нация и общество».
Жаботинский указывал на два источника, из которых вытекает учение об абсолютном равенстве «царственных особ». Один из них – грандиозные свершения в сфере духа в XIX веке, достижения, которые Жаботинский приравнивал к чуду:
Я не верю, не хочу верить, что в человечестве может быть разделение на «высших» и «низших». Никогда я не буду работать с людьми, готовыми признать мое духовное превосходство. Я тешу себя иллюзией, что мир состоит из наследных принцев, и не намерен отказываться от этой идеи. Боюсь, что диктатура – это не вина отдельной личности, а общая склонность людей подчиняться диктату,– завелся, мне кажется, такой вирус в мире и гуляет сейчас вовсю. Очень жаль. Я пришел из девятнадцатого века. Тогда умами владела идея, что человек, даже плохой, даже низкий человек мог бы стать хорошим и мудрым, если бы получил соответствующее воспитание. И я в это верю. Поэт сказал: «Пришел из времени другого, в другое время я уйду». И мне легче уйти из этого мира, чем согласиться с тем, что мой сын и сын моего ближнего в чем-нибудь не равны.
Речь на конгрессе ревизионистов, 1932; сб. «Речи».
Другой источник – еврейская традиция, ее основа – Библия. За несколько дней до смерти Жаботинский в письме американским бейтаровцам попытался изложить сущность своих взглядов на общество. В предисловии к этому обращению мы читаем:
Если мы поищем, откуда же происходит этот новый еврейский дух, ярко выраженным носителем которого является Бейтар, то мы найдем его источник в идее царственностичеловека. В отношении евреев эта мысль выражена в гимне Беара:
Величие —
Помни, еврей,
Ты царь, ты потомок царей.
Корона Давида
С рожденья дана.
Когда я писал эти строки, то имел в виду любого человека – грека или банту, европейца или эскимоса.
Они все рождены по образу Бога – это мы учим из первой главы Библии. Библия идет даже дальше в своем возвеличивании, возведении человека на царский престол. Она намекает, что люди – почти что боги или дети Божьи... Но употребление таких терминов может нас сейчас увести слишком далеко, поэтому не будем выходить за пределы «царства». Во всяком случае, первому человеку в момент его сотворения были вручены самые почетные геральдические символы и – так учит традиция нашего народа – эта геральдика издавна принадлежит всем его потомкам.
Здесь наша библейская традиция вплотную соприкасается с бейтаровским принципом гордости. Унижен ли я, порабощен, пленен – «я царь и требую уважения моих царских прав». Права же «царя» вытекают из одного высочайшего принципа: он не является ничьим подданным.
Давайте посмотрим теперь, можно ли увязать эту идею «всеобщей и поголовной царственности», вытекающую из нашей древней традиции и нового бейтаровского духа, с понятиями общества и государства. Прежде всего – дадим упрощенное описание, а затем рассмотрим его практическую применимость к будущей Эрец Исраэль и общественному строю, который мы бы хотели в ней видеть.
Первый вывод из идеи «всякий человек – царь» – это, понятно, всеобщее равенство. Моя и твоя царственность означает, что никто не может поставить себя выше тебя или меня – всем, независимо от классовой или какой-либо иной принадлежности, полагается равное уважение. Второй вывод – свобода личности – царь не является ничьим подданным...
Отношение наших предков к вопросу подданства нам представляется так: они были вынуждены подчиняться кому-то перед лицом необходимости защищать общество в целом от вторжений, ради поддержания внутреннего порядка. То есть – вынуждены были назначить царя и поставить его во главе государства, но это, повторяем, была вынужденная мера, не было ничего «освященного» в ней, а наоборот, люди знали, что сам Бог относится к ней без восторга, и верховной властью над людьми была и оставалась их совесть.
«Дети царей», «ха-Машкиф», 25.4.1941.
Когда Жаботинский присваивал каждому титул «сын царя», он исходил не только из принципа всеобщего равенства. Он ценил, славил Человека – венец творения, хотя как никто знал все его недостатки, слабости и даже уродства. Не единожды он был вынужден выражать горькое разочарование современниками. Трудно без волнения читать эти строки, с которыми он обратился к лидерам сионистского движения в дни отчаянной борьбы за спасение евреев Восточной Европы. Это обращение осталось без ответа:
Мои ближайшие друзья, прочтя эти строки, разумеется, рассердятся на меня: «Какой смысл,– спросят они,– пытаться опереться на трость, ветром колеблемую?» Но я не могу внять этому призыву моих юных друзей. Я признаю за человеком царское величие. И даже когда он побежден, растоптан, унижен и в глазах людей, и в собственных глазах – для меня он – царь. И что бы ни случилось, я буду чтить в нем его величие. И только в одном случае я готов признать, что человек лишен этого титула, и вычеркнуть его имя из геральдических книг: если он сам «отречется от престола», если он сам, по своей воле смолчит там, где должен греметь его царственный голос,– это молчание будет означать для меня, что передо мной – покойник.
«Усыпленные хлороформом», «ха-Машкиф», 16.6.1939.
Социальное избавление
«Избавление нашего народа, которое станет предвестником исправления мира».
Противники Жаботинского часто обвиняли его и его последователей в том, что последние, якобы, равнодушно относятся к социальным проблемам своего народа и мира в целом. Но даже поверхностный взгляд на библиографию трудов Жаботинского показывает, как много работ он посвятил этим проблемам. Свой каждодневный труд он, естественно, посвящал насущным проблемам дня, которые вынуждали его на время отказываться от рассмотрения проблем будущего, но в редкие «свободные часы» он «позволял себе» мечтать. Мечтать о будущем общественном устройстве Эрец Исраэль, устройстве абсолютно справедливом, которое послужит примером другим народам. Но для того, чтобы была возможность проводить эти «социальные опыты», еврейскому народу нужна «лаборатория»:
Не желание соригинальничать заставило меня употребить это слово – «лаборатория». Народы веками не жалели духовных сил для создания того разнообразия мнений и устремлений, которое мы называем всемирной духовной культурой. Бесценен вклад каждого из них, но нет народа, который бы, подобно нашему, внес такой большой вклад в раздел человеческой культуры, именуемый «исправление мира», «изменение общественного строя». Среди всех народов мира именно мы – «главные специалисты» в этом вопросе. Но в результате несчастного стечения обстоятельств именно этот «специалист по общественной справедливости» остался без земли, без того социального организма, который можно было бы перестраивать в соответствии с чаяниями этого народа. Вышло так, что мы вынуждены предлагать свои идеи о социальном равенстве и справедливости другим народам. Т.е. давать советы, а не пытаться подать пример, как это делают другие народы. Ибо это – единственный способ указать миру на вновь открытую истину. Мы видим, что произошло с еврейской идеей в России, где она попала в чужие руки... Социальное избавление не придет, пока специалист не будет иметь собственной лаборатории. Строящие эту лабораторию, быть может, оказывают большую услугу всему человечеству, чем своему собственному народу. И даже если забыть на минуту о национальных интересах, то только ради социального избавления человечества стоит «пожертвовать» двумя-тремя поколениями молодых людей, которые бы, ничего не видя вокруг, занимались исключительно строительством лаборатории. Ибо в ней и только в ней будет найдена социальная панацея. Еврей, строящий свое государство, вносит в дело социального избавления человечества вклад гораздо больший, чем тот, кто «помогает» (или – «мешает») другим народам залечить их социальные раны.
И когда возводится такой храм – жертвы неизбежны. И горечь этих жертв не должна застить нам глаза, не должна нас отпугивать.
Это будут немалые жертвы. Многие и многие должны будут пожертвовать капиталами, удовольствиями этой жизни, здоровьем, самой жизнью. Не хочешь? – не иди. Но если вступил на этот путь, то не делай трагедии из исторической необходимости пожертвовать всем – даже классовыми интересами.
«Классовый вопрос», 1927; в сб. «На пути к государству».
На каких же основных принципах должна быть, по Жаботинскому, построена эта социальная лаборатория? Из многих его работ и выступлений на эту тему мы выбрали поздравление учредительному съезду Национального профсоюза в 1934 году. В нем мы усмотрели нечто вроде резюме всех работ Жаботинского на эту тему:
Характерное качество еврейской души – стремление к социальной справедливости. Еще до появления пророков в своих древнейших легендах и сказаниях выражала эта душа свою вечную жажду исправления мира. С рождения и по сей день ни разу не смирилась еврейская душа с «существующим положением вещей». В священном трепете склонялась она перед своим Создателем, но вместе с тем настаивала на своем праве изменять и улучшать созданное Им. Несмотря на Высший запрет, она вкусила от «плодов древа познания». Великое видение Яакова – лестница, соединяющая небеса и землю,– символ гордой идеи: человек тоже творец. Наивный рассказ о «генетических опытах» Яакова с овцами учит нас подчинять силы природы воле человека. Лицом к лицу с Создателем боролся Яаков у брода Хибок и приобрел титул – Исраэль, «ибо будешь ты властвовать с Господом». Позже построила еврейская душа государство и установила в нем законы. Законы «Шабат» – обязательный отдых и «Пэа» [*]– источники современной нам системы законов, защищающих права рабочих и обездоленных, лишенных заработка. Но она, еврейская душа, пошла еще дальше – идея юбилейного года [*]– регулярно повторяющейся бескровнойсоциальной революции – идея, величие которой дано оценить только нашим потомкам. Пророки приходили и уходили, их сменяли новые, и две главные идеи были у них на устах: освобождение общества от позора нищеты и голода и вера в «мессию» – т. е. в «золотой век» не в прошедшем (согласно верованиям сынов Яфета – греков и римлян), а в грядущем, и ты, Человек, будешь его строителем.
Нет народа, у которого эта идея социальной справедливости проникла бы до таких глубин души, как у народа Израиля. Но нет у него дома, где он мог бы создать общество согласно своим мечтам, по «образу и подобию» своей совести. Народ, миссия которого – быть хранителем общественной правды, вынужден скитаться и предлагать свои идеи другим народам, предлагать «на словах», а не «на примере», ибо нет у него лаборатории, где он мог бы воплотить эти свои идеи, «опробовать» их и создать общество, которое стало бы примером для всех народов.
Я не специалист в обществоведении и экономике, но я просто не верю, что какой-либо другой народ способен создать идеальное общество. Мы свидетели таких попыток повсюду: на юге, на севере, на востоке, западе и в центре. И вот – «полицейское государство» левого толка, «полицейское государство» правого толка – и нет намека ни на социальную справедливость, ни на избавление от голода и нищеты – ни на что, что хоть отдаленно напоминало бы об обещанном «золотом веке». Ибо еврейская идея в чужих руках выхолащивается, приобретает механические формы, теряет жизнь. Еврейское представление о социальной справедливости сложно, многогранно, внешне даже противоречиво. Согласно этому представлению, каждый человек – царь, безраздельно властвующий в «винограднике своем и под смоковницей своею», а не раб, принадлежащий кому-то или безликому «обществу», раб, жилье, одежда и жизнь которого принадлежат не ему, а кому-то или чему-то. Еврейское представление о социальной справедливости признает святость частной собственности и святость общественных интересов, освящает равенство и признает конкуренцию, освящает справедливый общественный строй и в то же время – обязательную, регулярно повторяющуюся социальную революцию – «Иовель» – ради строя еще более справедливого. Это представление широко, как сама жизнь, и не может быть воплощено никем, кроме самих евреев в их собственной «лаборатории».
Поэтому и строит сейчас еврейский народ такую лабораторию. И этим, и только этим, он не только спасет самого себя, но и всем народам укажет путь к социальному избавлению в будущем, возможно, не таком уж далеком. И во времена обоих Храмов трудился еврейский народ не только ради себя, но и на благо всего человечества, закладывая и формируя основы общечеловеческой нравственности. Но дар человечеству, который еврейский народ принесет в будущем, несравнимо больше, гораздо ценнее. Задачи столь грандиозной не знали другие национальные движения, известные доселе в истории. Никто еще не шел столь прямым путем к «идеалу» – в самом прямом смысле этого слова – избавлению нашего народа, которое станет предвестником исправления мира.
И именно поэтому не должно быть места в наших сердцах ни для какого другого «идеала», не должны наши души терзаться «борьбой близнецов», спорящих о первородстве.
Это поколение евреев послужит всему человечеству тем и только тем, что построит Государство Израиль.
«Письмо на иврите», «Хазит ха-ам», 11.4.1934.
Золотой луч солнца в споре
Победит сырую ночь;
Вечно свет и тьма в раздоре.
И Израиль гонит прочь.
В каждом веке рабства тучи,
Тучи лжи и тучи бед.
И в награду он получит
Свет свободы – правды свет.
«Песнь знамени»; в сб. «Стихи».
Мужество
«Нет более проверенного лекарства от всех наших болезней, чем мужество».