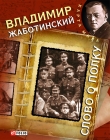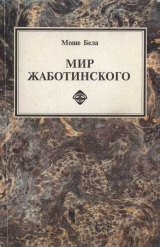
Текст книги "Мир Жаботинского"
Автор книги: Владимир Жаботинский
Соавторы: Моше Бела
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
«Левые», «Рассвет», 1925.
Мораль и сионизм
«Даже если бы мы пришли с мечом завоевывать Эрец Исраэлъ, то и тогда были бы мы правы перед Богом и людьми».
Шестидневная война, чудесная и блистательная победа в ней пробудила во всех евреях чувство гордости за Израиль, уверенность в нем. Нашей стране она принесла небывалое увеличение экономической независимости, безмерно укрепила ее безопасность, позволила воссоединить нашу вечную столицу – Иерусалим, вернула наш народ к его историческим пределам. Но нашлось немало людей в Израиле, которые считают, что наша «экспансия» грозит испортить моральный обликнашего государства, выставляет нас в невыгодном свете в глазах всего мира. Эти необычайно совестливые люди считают, что лучше подвергнуть себя в очередной раз смертельной опасности и отказаться от всех плодов той блестящей победы. Может показаться, что это – новое явление, появившееся именно в результате войны. Это не так. Нет ничего нового под солнцем. Уже задавались все вопросы и уже даны были на них ответы. Давным-давно.
Что до Жаботинского, то он никогда не боялся отвечать на «проклятые вопросы», тревожащие совесть. Не боялся и ставить их. Все им написанное и произнесенное с ораторской трибуны проникнуто пафосом поисков справедливости в отношениях между людьми и между народами, пафосом борьбы с насилием, неуважением к кому бы то ни было. Но Жаботинский никогда не соглашался решать проблемы совести путем непротивления и уступок несправедливости. Этот самый легкий путь, считал он, ведет лишь к новому торжеству зла и насилия.
В этой книге читатель найдет множество высказываний Жаботинского на эти темы. Ниже мы приводим без комментариев выдержки из статьи, написанной им в 1916 (!) году,– как выяснилось, и тогда находились среди евреев люди, требовавшие «уступить» и «не посягать», дабы оставить незапачканной совесть, люди, считавшие «аморальной» идею строительства еврейского государства в Эрец Исраэль. Итак, вот статья, написанная за полвека до Шестидневной войны:
Есть мнение, что евреи не имеют «нравственного права» требовать для себя власти над Палестиной. Это не этично, потому что в Св. Земле только 100 000 евреев и 600 000 арабов; это значит требовать власти меньшинства над большинством. Еврейство не может и не должно компрометировать себя подобными несправедливыми требованиями. Единственное, на чем мы «имеем право» настаивать, есть «свобода иммиграции и колонизации», но не больше.
Рассмотрим эту претензию.
Прежде всего надо себе отдать отчет, что «свобода иммиграции и колонизации» есть пустое слово, лишенное всякого юридического содержания. Если оно даже будет вписано в постановления международной мирной конференции, оно будет само по себе иметь столько же действительной силы, сколько имел знаменитый параграф Берлинского трактата, «гарантировавший» евреям равноправие в Румынии.
Параграф о свободе иммиграции не есть гарантия. Следовательно, или надо вообще отказаться от мысли о гарантии и примириться с тем, что судьба нашей колонизации в Палестине будет зависеть от доброй воли того или иного правительства,– или же надо идти прямо к цели и требовать настоящей гарантии. А настоящая гарантия есть передача местной власти в наши руки, в форме «чартера» или в какой-нибудь иной форме.
Это и есть то, чего требует базельская программа. Люди, подписавшие ее 20 лет тому назад, вдруг теперь вспомнили, что она не этична. Они теперь стараются придумать, как бы и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Один из них писал мне недавно: «Я бы предложил такой модус, вполне справедливый и даже демократичный. Мы должны потребовать не чартера для себя, а просто автономии для Палестины. Парламент должен избираться всем населением, еврейским и арабским. Избирательное право должно принадлежать всем грамотным, без различия национальности и пола. При этом приблизительно получается следующие цифры. Евреев всего 100 000, но все взрослые мужчины и женщины умеют читать и писать; таким образом еврейское население даст приблизительно 40 000 избирателей обоего пола. Арабов 600 000, но женское население почти поголовно неграмотно, так что 300 000 сразу отпадают; среди мужчин грамотность тоже мало распространена, особенно в деревнях, так что вряд ли наберется даже 25000 избирателей. Если идти дальше по этому пути, то можно ввести, например, множественный вотум: это учреждение имеется в самых демократических странах,– напр., в Англии и Бельгии; оно заключается в том, что, скажем, лица со средним образованием получают 2 голоса, а с высшим образованием – 3. При этой системе мы получим в первом парламенте сильное большинство. Первый парламент должен быть избран на 10 лет, а за 10 лет мы успеем численно укрепиться. Как вам нравится этот проект?» – Я не знаю, что ответить на такой вопрос. Проект может быть и остроумен, но нехорошо то, что он построен на допущении, будто такая идеально-справедливая, идеально нравственная вещь, как передача Палестины гонимому еврейскому народу для заселения и возрождения, есть вещь несправедливая и безнравственная, которую нужно замаскировать всякими ухищрениями.
Евреи иногда бывают комично бескорыстны и сентиментальны. Они любят умиляться горькой судьбой своих противников – иногда даже злейших врагов. Я знаю десятки евреев, которые теперь, после всего, что произошло, горько жалеют бедных поляков, которым Бог послал такую неприятность – еврейский вопрос. С арабами, слава Богу, мы в гораздо лучших отношениях, чем с поляками; поэтому над их судьбой мы еще охотнее вздыхаем. Бедный народ,– говорим мы,– ведь в сущности Палестина – часть арабской территории, они там живут испокон веков, и вдруг мы туда приходим и хотим стать хозяевами.– Я смотрю на этическую сторону этого положения несколько другими глазами. Племена, говорящие на арабском языке, занимают Сирию, Аравию. Месопотамию, Йемен, Хиджас, Египет, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. На этом пространстве, равном (если не включать Аравию) всей Европе без России и достаточном, чтобы прокормить миллиард народу, просторно расположилась раса в 35 миллионов. С другой стороны, есть еврейский народ, угнетенный и бездомный, не имеющий на свете своего угла; он домогается Палестины, потому что у него нет своего угла и потому что вся слава, все величие, вся сверхчеловеческая роль, сыгранная Палестиной в истории мира, была делом его духа. По отношению ко всей территории, занятой арабскими племенами, Палестина представляет менее одной сотой. Я не знаю, можно ли в наше время, по поводу таких вопросов, серьезно говорить об этике. Но если можно,– то что такое этика, позвольте спросить? Заключается ли она в том, что у одного должно быть много, а у другого ничего? Заключается ли она в том, что земля, основа жизни, скопляется в невероятном количестве в руках у народа, который не умеет ее даже использовать,– а другой народ скитается, как собака, по чужбинам, и должен щелкать зубами, глядя из-за забора на недоступные пустыни? Откуда взялась такая мораль? Как можно называть ее моралью? Если бы даже с мечом и пушкой мы пошли отнимать Палестину, мы были бы правы перед лицом Бога, как нищий, который отнимает у богатого. Этика земельных отношений между народами в сущности та же, что между индивидами, и она заповедана Библией: от времени до времени приходит великий юбилей, и тогда тот, у кого нет земли, требует свою часть у того, у кого земли много. Вместо 2-х миллионов кв. миль хотя бы будем занимать 1900 тысяч, и зато на свете будет еврейское государство, и один из мучительнейших вопросов истории приблизился к разрешению.
Конечно, те арабы, которые живут в Палестине, имеют полное право требовать, чтобы их оттуда не вытеснили. Это другое дело, это неоспоримо, и никто и не собирается их оттуда вытеснять. В Палестине достаточно места...
Я не принадлежу к тем, которые считают в наше время лишним и наивным заботиться об этической стороне в политике. Конечно, сильные мира сего с нею не считаются; но еврейский народ не должен и не может покидать в своих выступлениях и требованиях почву права.
Мы стоим на этой почве, когда требуем от мира передать в наши руки страну нашего будущего, во имя всей нашей истории, всех наших страданий, во имя всей той безмерной вины перед нами, которую мир несет на своей совести.
«Сионизм и этика», 1916.
Я верю в нашу мощь, в нашу огромную нравственную силу. Для обороны Петах-Тиквы хороша сила физическая, но что она значит, когда требуется справедливость от народов? И сила на стороне Израиля, потому что и нравственность на его стороне.
Речь на вечере в Тель-Авиве, «ха-Арец», 9.11.1926.
«Дозволено!»
«Страшный яд, грозящий человеческой нравственности, скрыт в словах «это дозволено».
Жаботинский старался максимально приблизить свои взгляды, свою деятельность к природе человека, не быть оторванным от нее, не «витать в облаках». Исследования психологии человека привели его к следующему выводу:
Человек по природе ни плох, ни хорош. Он создан сочетанием, соотношением двух вещей – «аппетита» и «возможности». Человек имеет желания, аппетиты, и он стремится насытить их путем «наименьшего сопротивления». Если сопротивление слишком велико, он, сообразив, что результат не оправдывает затрат, умеряет свой аппетит. Но если он видит, что сопротивления нет, он говорит себе: «Это дозволено», и тогда его аппетит возрастает.
Страшный яд, грозящий человеческой нравственности, скрыт в словах «это дозволено». Там, где властвуют эти слова, мораль бессильна. Пример? Почитайте рассказы о поведении белых в их африканских колониях вплоть до XIX века. Скажем, бельгийцев в Конго. Бельгийцы – цивилизованнейший народ, отнюдь не убийцы с большой дороги. У них на родине в величайшем почете порядок и порядочность. Но в Конго, имея дело с неграми, они вели себя хуже рабовладельцев из «Хижины дяди Тома». Те же самые чиновники, те же самые купцы. Почему? Потому что они чувствовали, что это дозволено. В молодости я видел такое собственными глазами, и как раз это было связано с бельгийцами. В городе, в котором я рос, в Одессе, была трамвайная линия, принадлежавшая бельгийской компании. Ее представителя звали мсье Комбье. Этот человек посреди улицы, на виду у публики раздавал оплеухи вагоновожатым. А ведь у себя в Брюсселе он был порядочнейшим человеком. Ибо в Брюсселе такое недопустимо, а в России тридцатилетней давности это было дозволено.
Напишите над Святой Святых «дозволено», и ее тут же осквернят. Возможно, главное в культуре – это то, что она уменьшает количество вещей, дозволенных к осквернению. Откровенно детским выглядит предположение, что сто лет назад люди были «плохими», а сейчас они стали лучше, так как раньше они относились к крестьянину или рабочему, как к мусору, а сегодня снимают перед ним шляпу. Процент дурных и хороших людей вовсе не изменился в пользу последних, просто беднота научилась сопротивляться.
Во всем цивилизованном мире не осталось никого, кто позволил бы себя унижать, за одним исключением – евреи. Поэтому так любим нашей молодежью Трумпельдор – ей дорог не его плуг, а именно его меч. Поэтому форт Тель-Хай им в тысячу раз дороже общества Тель-Хай. Для них это символ, с которым можно найти путь к избавлению от унижений.
«День памяти Трумпельдора», 1928; в сб. «Воспоминания современника».
Попытки гитлеровской Германии усилиться за счет других, пользуясь беззубостью Лиги Наций и слепотой великих держав, вынудили Жаботинского вновь выступить на тему «вседозволенности»:
Я, нижеподписавшийся, торжественно заявляю, что я человек порядочный. И вовсе не собираюсь заявлять своих прав, уважаемый читатель, на принадлежащую тебе книгу «Тысяча и одна ночь». Но если ты, читатель, положишь ее передо мной и будешь подчеркивать у меня перед глазами слово «дозволено» везде, где оно встречается в этой толстой книге, и будешь делать так изо дня в день, то я в один прекрасный день эту книгу у тебя попросту отберу. Силой.
Удивительное это слово – «дозволено». Кто из нас не дивился такому... англичанин дома себя ведет так, а в колониях (и в подмандатных территориях) – совсем иначе. По этой же причине немцы до 1933 года не были садистами (мы, во всяком случае, ни о чем подобном не слыхали), а с 1933 года стали вдруг вешателями и насильниками и загубили и искалечили уже десятки тысяч людей.
Несть числа примерам, показывающим, насколько меняется поведение человека, когда «отпущены тормоза», когда ему все дозволено. Именно для обуздания этих проклятых слов была создана Лига Наций. Чуть было не написал «покойная Лига»...
Мои сверстники, учившиеся в русской гимназии, конечно, помнят славную басню Крылова: жил-был кот, богобоязненный и приличный кот. Он и помыслить не мог о том, чтобы подобраться к хозяйской кринке с молоком. А в доме жила в клетке птичка. Не помню, какой породы была птичка, но как раз она была умна в этой басне. И стала птичка учить кота некоторым основам эмансипации. Кот послушал и внял ее советам. Результат – плакало хозяйское молоко и птичка тоже. Простите меня за то, что я ссылаюсь на Крылова. Уверен, в еврейских источниках есть подобная притча...
И самое печальное, что примеры, которые у нас перед глазами, выражают непреложный закон.
«Шаг в прошлое», «ха-Ярден», 27.3.1936.
Самое яркое высказывание по этому поводу мы находим в беллетристике Жаботинского, в его романе «Пятеро». Герой – адвокат – пытается внушить своему приятелю Сергею, к чему может привести философия «вседозволенности»:
– Все дело в постепенности,– говорил мне адвокат,– в постепенности, и еще в одной коротенькой фразе, вопросительной фразе из трех коротеньких слов. Вы мне только что рассказали, что давно слышали именно эту фразу от самого Сергея Мильгрома – когда еще юношей отговаривали его от общения с какой-то шайкой шулеров; но дело не в Сергее Мильгроме, дело в том, что эта фраза характерна, убийственно характерна для всего его поколения. Фраза эта гласит: «А почему нельзя?». Уверяю вас, что никакая мощность агитации не сравнится, по разъедающему своему действию, с этим вопросом. Нравственное равновесие человечества искони держится именно только на том, что есть аксиомы: есть запертые двери с надписью «нельзя». Просто «нельзя», без объяснений, аксиомы держатся прочно, и двери заперты, и половицы не проваливаются, и обращение планет вокруг солнца совершается по заведенному порядку. Но поставьте только раз этот вопрос: «а почему нельзя?» – и аксиомы рухнут. Ошибочно думать, будто аксиома есть очевидность, которую «не стоит» доказывать, до того она всем ясна: нет, друг мой, аксиомой называется такое положение, которое немыслимо доказать; немыслимо, даже если бы весь мир взбунтовался и потребовал: докажи! И как только вопрос этот поставлен – кончено. Эта коротенькая фраза – все равно, что разрыв-трава: все запертые двери перед нею разлетаются вдребезги; нет больше «нельзя», все «можно»; не только правила условной морали, вроде «не укради» или «не лги», но даже самые безотчетные, самые подкожные (как в этом деле) реакции человеческой натуры – стыд, физическая брезгливость, голос крови – все рассыпается прахом.
Из кн. «Пятеро».
«Восток»
«Мы, евреи, не имеем ничего общего с тем, что прозывают «Востоком»,– и слава Богу».
Идея «восточности» еврейского народа не нова. Многие седовласые профессора советовали молодежи возвращаться к своим «корням, лежащим на Востоке», «раствориться в Востоке». Эта мода на все «восточное» распространилась по всему миру. Жаботинский не был в восторге от этой моды:
Слово «Восток» неизбежно влечет за собой прилагательное «живописный». Вопрос еще,– всегда ли оно является комплиментом; всегда ли достойно восхищения с точки зрения моральной, гуманитарной или социальной то, пред чем мы восторгаемся с точки зрения эстетической. Нищий в лохмотьях иногда очень «живописен»; но было бы лучше и для него и для человечества, если бы ему дали суконное пальто, теплое, банальное и прозаическое. Дом новейшего образца, с центральным отоплением, не имеет никаких шансов вызвать энтузиазм туриста; когда говорят о «живописном» здании, речь идет неизменно о здании антигигиеничном, которое следовало бы, если не снести, то, по крайней мере, эвакуировать. А самое «живописное» зрелище на свете – развалины. Верблюд – очень благодарная тема для художника, а железная дорога – нет; между тем, экономическое благосостояние страны требует именно замены караванов поездами.
«Живописный Восток», «Рассвет», 7.2.1932.
Но вернемся к специфической еврейской точке зрения. Чего же хотели наши поклонники «Востока»? Жаботинский формулировал так:
Мы, евреи, народ восточный по происхождению; несмотря на западные влияния, основа нашей души осталась восточной. Ибо у Востока есть своя особая душа (следует описание этой души; я его несколько раз слышал, но не понял, и не помню). Во всяком случае, эта восточная духовность, по своим качествам, выше души Запада (а по другим авторитетам: является необходимым пополнением к душе Запада). Идя в Палестину, мы возвращаемся в среду народов, которые сохранили восточную психологию в большей или меньшей целости. Мы поэтому должны и в своем нутре разыскать элементы восточности, засоренные пылью Запада, но все еще живые, и заняться их культивированием.– Затем следуют оговорки, ибо и востоколюбы не хотят отказаться от электричества: оговорки о том, что, конечно, мы должны дать Востоку и западную технику, и даже – в строго прочищенном виде – некоторую долю духовной культуры Запада; но все это бахрома, а основа, суть, главное – овосточимся.
«Восток», «Рассвет», 26.09.1926.
На все это Жаботинский отвечал:
Против этой точки зрения с особенным удовольствием выдвигаю противоположную – ту, к которой, если я верно понял выдержки, близок редактор «Гашилоаха»: у нас, евреев, с так называемым «Востоком» ничего общего нет, и слава Богу. Поскольку у необразованных наших масс имеются духовные пережитки, напоминающие «Восток», надо наши массы от них отучить, чем мы и занимаемся в каждой приличной школе, и чем особенно усердно и успешно занимается сама жизнь. Идем мы в Палестину, во-первых, для своего национального удобства, а, во-вторых, как сказал Нордау, чтобы «раздвинуть пределы Европы до Ефрата»; иными словами, чтобы начисто вымести из Палестины, поскольку речь идет о тамошнем еврействе нынешнем и будущем, все следы «восточной души». Что касается до тамошних арабов, то это их дело; но если мы можем им оказать услугу, то лишь одну: помочь и им избавиться от «Востока».
Поскольку же нам, в течение переходного периода, или после, придется в Палестине жить среди окружения; пропитанного дыханиями «Востока»,– будь это окружение арабское или староверо-еврейское, все равно – рекомендуется тот жест, который каждый из нас невольно делает, когда проходит в пальто по узким «восточным» улицам Стамбула или Каира или Иерусалима: запахнуть пальто, чтобы как-нибудь оно не запылилось и смотреть, куда ставить ногу. Не потому, что мы евреи; и даже не потому, что мы из Европы; а просто потому, что мы цивилизованные люди.
Там же.
Жаботинский продолжал исследовать, что же такое «Восток», в особенности его социальный и политический облик. Тут уже не остается и следа «живописности»:
Психологически Восток отличается от Запада, прежде всего, своим этическим спокойствием. В этом покое, говорят, есть своя красота; возможно – красота есть в каждом цельном состоянии, например, в смерти; но мы тут не говорим об эстетике. Это настроение покоя иногда называют квиэтизмом, иногда фатализмом, иногда другими именами, но его наличности никто не отрицает. Европа ищет, мечется, починяет, разрушает, строит, карабкается; Восток, когда его не толкает или не раздражает Европа, живет в состоянии равновесия. И на Востоке есть огромная разница между богатыми и бедными; есть эксплуатация, о какой Запад уже сто лет не слыхал; но активного движения бедноты против богатства нет; этического протеста против несправедливости распределения благ, протеста в форме определенного общественного натиска, нет.
В чисто политической сфере это различие выразилось так: Европа создала парламенты, свободную печать, сотни форм общественного контроля и инициативы; Восток (покуда не стал подражать Европе) остался при деспотизме. Внутренно он остался при деспотизме и там, где есть парламенты. Надо только заглянуть поглубже, под надстройку любой тамошней палаты депутатов, и мы увидим почти безграничную власть шейха над мужиком, мастера над подмастерьем, отца над детьми, мужа над женою – поскольку европейский губернатор не вмешался и не ввел каких-то ограничений; и в то же время мы увидим почти полное отсутствие осознанного протеста у угнетенной стороны – поскольку не подстрекнул ее к тому, с весьма малым успехом, европейский агитатор.
Там же.
Когда Жаботинский указывал на социальные пороки стран Востока и на низкий культурный уровень их жителей, он не считал вовсе, что такая ситуация непоправима, что «фатализм» и безразличие ко всему у «Востока» в крови. Он полагал (так, во всяком случае, казалось в то время), что просто эти страны не достигли еще достаточного уровня социального развития. Он всем сердцем желал им «подрасти». Что до евреев и их места в «столкновении» «Запад – Восток», то:
Мы, евреи, как остающиеся в Европе или в Америке, так и едущие в Эрец Исраэль, имеем мало общего с «Востоком». Может быть, меньше, чем многие европейские народы.
И то, что мы – выходцы из Азии, вовсе не аргумент. Вся Средняя Европа вышла из Азии – и находится там меньше времени, чем мы. Евреи – все ашкеназские и больше половины сефардских – живут в Европе уже две тысячи лет. Время немалое.
И есть нечто еще более существенное. Мы не только давно живем в Европе, не только многое у нее переняли. Мы, евреи, были и остаемся народом, внесшим крупнейший вклад в формирование и развитие европейской культуры. Эта культура сформировалась «на базе» нашей религии, у нее она переняла свою основную идею – незавершенности этого мира, необходимости его «исправлять», активно «вмешиваться» в процесс созидания. Другим крупным нашим вкладом стала миссия по осуществлению международных связей в Европе. А затем – в последние восемьсот лет, т. е. с момента появления первых проблесков зари Возрождения, пробуждения Европы от средневековой спячки, представители еврейского народа стали вносить огромный «персональный» вклад в европейскую культуру – философы, поэты, музыканты, финансисты, ремесленники, политики. Евреи «вложили» в общеевропейскую культуру не меньше, чем итальянцы, немцы, французы, англичане, у нас на нее не меньше «авторских прав». И в Эрец Исраэль мы продолжим эту работу – теперь уже в чисто национальной, еврейской форме. Об этом хорошо сказал Нордау: «Мы идем в Эрец Исраэль, чтобы передвинуть границы европейской этики до реки Евфрат».
«Мода на арабески»; в сб. «Литература и искусство».
Милитаризм
«...Нет службы более замечательной и благородной, чем служба бойца, охраняющего мирный труд народа».
Еврейский батальон, сформированный по инициативе Жаботинского во время Первой мировой войны, в котором он сам сражался, не был в его глазах преходящим эпизодом. Эта часть наглядно продемонстрировала всю силу политического влияния легальных вооруженных формирований, их способность обеспечивать безопасность Ишува. Батальон совершил настоящую революцию в сознании евреев и заставил мир взглянуть на них другими глазами. В речи, обращенной к бойцам батальона, возвращавшимся в Англию, Жаботинский говорил:
Я хотел бы, чтобы вы, вернувшись домой, что-то позабыли, а что-то запомнили. Все, что было мелкого, несущественного, забудьте. Но великое, вечное – помните! Обращаясь к добровольцам из Эрец Исраэль, я говорил им: «Помните пирамиды? На них можно глядеть по-разному. Можно – с точки зрения Мыши, живущей в щелях, для нее пирамиды – огромная куча грязных и пыльных камней. А можно – с точки зрения орла, парящего в вышине, для него пирамиды – чудо стройности и красоты. Запомните горы Шомрона и плодородные поля Рафиаха, запомните волшебную голубизну, которая у нас сейчас над головами. И на наш батальон взгляните глазами орла. Главное не то, что нам довелось вытерпеть. Главное то, что веками евреев либо били, либо защищали. Чаще били, иногда защищали. Но и то и другое равно унизительно. Пришло время показать миру еврейский меч. И именно потому, что нам это так трудно досталось, мы можем понять, насколько велика ценность этого. А может быть, нам этого оценить и не дано. Может быть, оценить это в полной мере смогут лишь наши дети, и благословят тогда они ваши имена».
«Ха-Арец», 1919.
Жаботинский боролся за то, чтобы батальон не был расформирован по окончании военных действий. А когда все же пришел приказ о расформировании, делал все, чтобы вновь сформировать еврейскую боевую часть. Пока же он призывал еврейскую молодежь заниматься военной подготовкой, прекрасно понимая, что эти навыки будут ей необходимы. В те времена боевая подготовкане была в почете у сионистского движения. Жаботинскому присвоили титул «милитариста». Предполагалось, что это ругательный титул. Жаботинский же принял это «ругательство» без тени обиды:
У нас любят играть латынью. У бывших бундовцев в московской «евсекции» изучение иврита именовалось «клерикализм». Столько же смысла в наших разговорах о «еврейском милитаризме». В обоих случаях это злоупотребление терминами. Милитаризм – это строй, при котором государство содержит излишне большую армию. Это единственное правильное применение этого латинского слова. Но ни один разумный человек не станет утверждать, что народ может и должен оставаться полностью безоружным. Даже крайние пацифисты (здесь имеется в виду общепринятое понимание этого слова, а не «надмирные» личности, такие как Лев Толстой) не идут дальше требований свести вооружение к необходимому для самообороны минимуму. Но мы, евреи, не имеем и этого минимума. И это несмотря на то, что мы очень нуждаемся в средствах «самообороны». Я понимаю так, что милитаристы – это те, кто не хотят ограничиваться упомянутым минимумом. Но называть так тех, у кого вообще ничего нет и кто хотел бы обзавестись десятой частью того минимума,– значит просто бросать слова на ветер. Сытого человека, который продолжает есть, называют обжорой. Но когда просит еды голодный, ему, кажется, не пристала кличка «обжора».
«День памяти Трумпельдора», 1928; в сб. «Воспоминания современника».
И в другом месте:
Надо набраться терпения. И не бояться латинских слов. Даже слова «милитаризм». Ненависть к войне – это духовное наследие нашего народа. Наши пророки гневно осуждали массовое убийство, и среди нас нет никого, кто не мечтал бы о поколении пацифистов. Но именно та система образования, которую клеветник называет «милитаристской», имеет больше всего шансов вырастить доброе и здоровое поколение.
«Путь милитаризма», «Хайнт», 25.1.1929; в сб. «На пути к государству».
О чем же конкретно говорил Жаботинский?
На самом деле лишь война отвратительна. В армейской же жизни есть многое, чего нам не хватает в жизни повседневной. Это, прежде всего, «чувство локтя». В армии нет и не может быть «классовой вражды». Второе – регулярные занятия спортом. И третье – армейская дисциплина. Но здесь стоит остановиться и поговорить подробнее.
Мы иногда возвращаемся к идеям, казалось бы, давно вышедшим из моды. Спросите, например, обыкновенного человека: что он думает об армейской дисциплине? В ответ услышите: «Фи, человека превращают в машину!». Но ведь сам-то он в глубине души наслаждается зрелищем этой четко марширующей «машины»...
Разумеется, не всегда, разумеется, лишь при определенных обстоятельствах, человеку просто необходимо почувствовать себя частью огромного, мощного, стройного целого.
Там же.
Второй бокал – за еврейскую армию. Молча выпьем за нее, ибо молчание прекрасно для солдата на поле битвы. И еврейская молодежь знает, что нет службы более замечательной и благородной, чем служба бойца, охраняющего мирный труд народа.
«Четыре бокала» (оригинал на иврите), «Доар ха-йом», 24.4.1929.
Есть такая капля влаги —
Завтра встречу с ней готовь.
Капля влаги не на флаге —
В сердце пламенная кровь.
И когда бедой повеет,
Мы поднимемся на бой.
Кровь отважных Маккавеев —
В нашей силе молодой.
«Песнь знамени», в сб. «Стихи».
Война
«Всякая война есть не что иное, как братоубийство».
Жаботинский ненавидел войну не только как гуманист. Для евреев война всегда была бедствием вдвойне, ибо и победители и побежденные обычно не щадили евреев. А если евреям приходилось сражаться в войнах, то они сражались с обеихсторон, убивая друг друга и умирая за чужие интересы. В 1929 году Жаботинский откликнулся на предложение установить в Эрец Исраэль обелиск в честь неизвестного солдата-еврея:
Почему мы сможем сказать: «здесь покоится»? Ведь под самим обелиском не будет никто похоронен. Да, конечно, нет в Эрец Исраэль ни пяди, где бы не пал когда-то, в продолжение тысячелетий, еврейский воин. Но неизвестный еврей – это лишь символ. Символ человека, который вынужден был убивать брата.И на обелиске должно быть написано: «Прохожий! Остановись на минуту. Подумай о том, что говорит тебе этот камень. Он поставлен в честь еврея, для которого любая война, где бы она ни велась,– братоубийственная война. Не думаешь ли ты, что это может стать и твоейучастью? И даже если это и не совсем так, и даже если ты француз и пойдешь воевать с немцем – но ведь всякая война есть не что иное, как братоубийство. И всякий, павший на войне, есть жертва абсурда, массового сумасшествия, дикости. И мы, евреи, старцы этого мира, установили здесь, на этой самой святой на свете земле этот камень в память о нашей национальной трагедии, трагедии всего человечества и в то же время для того, чтобы ты понял и никогда не забыл».
Конечно, это все слишком длинно и неуклюже для надписи на обелиске. Но это все нетрудно изложить и коротко – слово, выбитое на камне, стоит десятка слов на бумаге. Я, правда, сильно сомневаюсь, что это все поможет, что действительно «поймут и никогда не забудут». Но все равно, нужно напомнить эти истины, и именно на памятнике безымянному еврею, неизвестно из какой страны, и именно в Святой земле.
«Наш неизвестный солдат», «Морген-журнал», 2.5.1920.
«...Абсурд, массовое сумасшествие, дикость»... Абсурдность войны Жаботинский осознал десятком лет раньше, когда сам был участником войны и видел все ее ужасы. Он писал в «Слове о полку»:
Стемнело, и мы их повели: тысячу сто человек, турок и немцев, за шестнадцать верст, по безлюдным солончакам и обгорелым зарослям, под охраной восемнадцати солдат, почти всех – портных из Уайтчепла, с двумя офицерами и «падре» [*]: он тоже решил непременно псйти. Я шел сзади в черной, сырой и жаркой темноте и думал о том, что, собственно говоря, они голыми руками могли бы нас передушить; но они послушно плетутся как полагается, по четверо в ряд, немцы даже стараются идти в ногу, а наши солдаты, привинтив штыки к заряженным винтовкам, шагают справа и слева, «цепью», в которой звено звена не только не видит, но и оклик не сразу услышит.