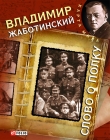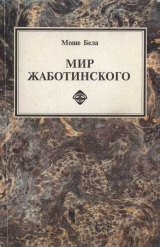
Текст книги "Мир Жаботинского"
Автор книги: Владимир Жаботинский
Соавторы: Моше Бела
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Я глубоко убежден, что не пройдет и ста лет, как эта теория станет свершившимся фактом. Возможно, что и тех огромных налогов, взимаемых сегодня государством с состоятельных граждан, было бы достаточно для прожиточного минимума, если бы не растрачивались миллионы на пушки и военные корабли. Попер-Линкиус выдвигает это требование как необходимое условие: прежде, чем будет введено бесплатное пропитание для всех, должна быть отменена обязательная служба в армии. А ведь это – в точности библейский принцип: «...и не будут учиться воевать...», и я верю всем сердцем, что и это пророчество воплотится в реальность раньше, чем по прошествии ста лет, и, возможно, дети наших современников будут жить в мире без войн. Тогда можно будет выделять на общественные нужды огромные суммы, поступающие от налогов, и эти дети, возможно, сами увидят мир, в котором осуществится библейская идея «пеа» в полном объеме. Мир, в котором слово «голод» будет отголоском древней легенды; мир, в котором будет предана забвению та трагическая горечь, которая определяет сегодня различие между бедным и богатым; мир, в котором ни один человек не будет более обременен заботой о вдовах и сиротах или обречен на гибель по причине финансового краха, ибо до самого «низа» он так или иначе не сможет опуститься и не размозжит себе череп и не сломает палец во время «падения» – общество создало для него мягкую «подстилку», что позволит каждому человеку передохнуть, собраться с силами и начать жить заново. Источник этой социальной мудрости – два слова на иврите, каждое из трех букв.
Но и в таком обществе останется различие между имущими и бедными. Это различие будет уже не столь явно, трагично и горько, как сегодня. Но оно всегда будет будить в человеке стремление к мировому соперничеству и выдвижению требований обществу: охранять равенство, не позволять этому различию сформироваться в вечную несправедливость. Человеческая мысль предложила два пути разрешения этой проблемы. Один – социализм, система, согласно которой различие между бедным и богатым должно со временем полностью исчезнуть, поскольку она лишает индивидуум возможности наживать капитал и проявлять личную инициативу – самый эффективный стимул созидания. Иной ответ дает Танах: принцип «иовель» – великий, превосходящий по своему гуманизму все известные в истории человеческой мысли социальные концепции.
«Главы о социальной философии Танаха», 1932; в сб. «Нация и общество».
Как уже указывалось, Жаботинский не принимал принцип «кто не работает, тот не ест». У него была иная концепция «святости труда», отличная от бытовавшей в те дни среди широких кругов сионистского движения. Свою точку зрения Жаботинский выразил в статье, написанной им незадолго до смерти:
Система ликвидации нищеты по принципу «пеа» в корне отличается от социализма. В ней нет ничего общего с известным тезисом Ленина «кто не работает, тот не ест». В условиях современной реальности невозможно исключить ситуацию, при которой «работа» не является достоянием каждого, и бессмысленно учреждать закон, ставящий право на хлеб в зависимость от умения человека находить работу или же приспосабливаться к условиям, от которых зависит его трудоустройство в любом месте и в любое время. Право человека на хлеб определяется одним-единственным условием – его потребностью в пропитании. Именно это подразумевает Танах, говоря о сироте, вдове, неофите – примерах человеческих существ, которые существуют всегда и имеют право на помощь без предварительных расспросов, работали они или нет. Отношение Танаха к «труду» может разочаровать тех, кто склонен возводить в культ принцип наемного труда. Человек обречен добывать пищу в поте лица. Это – проклятие, и технический прогресс стремится освободить человека от него. Любое техническое достижение было не чем иным, как попыткой создать машины, которые хотя бы частично освободили человека от физического труда. Истинная цель прогресса – сконструировать «робот», на иврите «голем» – болван, настолько усовершенствованный, что смог бы выполнять всю физическую работу, необходимую для производства материальных ценностей, и тем самым позволил бы человеку свободно пользоваться ими, не трудясь в поте лица. Истинный робот – это механизация производства, и мы видим, как развитие техники стремительно вытесняет физический труд в производственном процессе. Недалек тот час, когда изнурительный труд будет предан забвению даже в каторжных угольных шахтах. Потребность в физической нагрузке – один из наиболее благородных и сильных импульсов человеческой природы; однако со временем он будет все больше удовлетворяться спортивной деятельностью. Труд как средство для повседневной добычи куска хлеба – в сущности, рабство, и просвещенное государство должно стремиться уничтожить его.
«Израиль и мир будущего», «ха-Машкиф», 9.5.1941.
Приличия и этикет
«Преимущество человека перед скотом – вежливость».
Жаботинский и в этом был верным последователем Герцля: Герцль обратил внимание на то, что евреям катастрофически недостает культуры общения и поведения. И Герцль и Жаботинский считали, что это далеко не «мелочь» и не «частность». Во внешней культуре они видели необходимое условие возрождения нации. Жаботинский, по свидетельствам современников, был образцом соблюдения внешних приличий во всем: в одежде, в общении, в поведении, в быту. Он обращал особое внимание на культуру поведения, воспитание ее стало неотъемлемой частью образования бейтаровцев. Это было резким диссонансом повальной моде на расхлябанность, неаккуратность, царившие тогда почти повсеместно, и особенно среди молодых евреев:
Из всего неприглядного наследия гетто самое отвратительное – неуважение к внешней форме, к приличиям. Непричесанными, неаккуратными, просто грязными не стесняемся являться мы всему миру. Это у нас стало чуть ли не «доблестью».
И это проявляется во всем. Есть среди нашего народа элементы, настолько погруженные в свое «еврейство», что даже уважение к родному языку стало у них поводом для насмешек: «Что, мол, такое язык? Так, форма, оболочка»... Не многим лучше их те, кто «милостиво» соглашаются с необходимостью возрождения иврита, но не снисходят до изучения его правил, полагая, что «корова», написанная через «ять», все равно «корова». Зачем им правила грамматики? «Это же так, внешняя форма»... Они не замечают, что тем самым пытаются «отменить» единственно доступный человеку способ мыслить – логику. «Долой приличия, нам они не нужны!»... Мы должны бороться с этим. Отсутствие приличий – отличительный признак примитивных организмов. Цивилизация без приличий и этикета – нонсенс...
А ведь мы, если б не гетто, должны были бы унаследовать от наших предков истинно царскую вежливость, поскольку внешняя и внутренняя культура у нас в крови.
Теперь же мы стали притчей во языцех, примером бескультурья и неумения себя вести, и за это мы дорого расплачиваемся. Вам должно быть известно, что я менее, чем кто-либо другой, склонен искать причины антисемитизма в нас самих: антисемитизм для меня – производная галута как такового. Но проявления антисемитизма могли бы быть иными, если бы евреи не утратили своего великого наследия, если бы мы – наследники царственности Давида и мудрости Соломона – не вели себя как босяки.
«Хазит ха-ам», 5.7.1932.
Настаивая на том, что требование опрятности и соблюдения правил поведения вовсе не прихоть, Жаботинский ссылался на пример армии:
Еще одно бесценное достоинство есть в воинской дисциплине, на которую мы все ворчим по привычке, хотя отлично сознаем, насколько недостает ее нам, евреям, недостает во всем. Достоинство это – этикет, церемония, четкая и ясная регламентация поведения человека. Умение вести беседу, проявление взаимного уважения, даже походка. Мы, евреи, страдаем неумением себя вести. В старом гетто были свои, весьма специфические, но все-таки правила поведения. А теперь и этого нет. А новых правил мы не выработали.
Средний еврей безвкусно и неаккуратно одет, а его походка, а как он ест, как разговаривает! Особенно ярко это неумение вести себя проявляется тогда, когда мы сталкиваемся с какой-либо иерархией, когда приходится беседовать с какой-либо важной «персоной». Еврей хотел бы выказать почтение, но не знает, как это сделать без того, чтобы унизить себя самого, а в результате он выглядит либо хамом, либо ведет себя как ничтожество, откровенно заискивает. Но это же неумение отражается и на более важных вещах, на самой духовной жизни нашего народа. Посмотрите, как ведет себя, как говорит магид [*]в синагоге: мудростью своей он превзошел всех нееврейских философов, но изложить свою идею, довести ее до логического завершения он неспособен. Он перескакивает с пятого на десятое, путается, но самое отвратительное, что именно это и нравится слушателям. Они утратили чувство логики, культуру беседы, они привыкли воспринимать лишь бессвязное обрывки фраз, забыли, что порядок и стройность абсолютно необходимы везде – в точности, как в армии.
«Путь милитаризма», «Хайнт», 25.11.1929; в сб. «На пути к государству».
Молодые люди в Эрец Исраэль, особенно школьники, производят удручающее впечатление – они абсолютно не умеют вести себя, у них утрачено чувство «этикета». Мы должны заняться его воспитанием. Ибо этикет – это именно то, что отличает культуру от дикости. Учите этому молодых бейтаровцев, воспитывайте это в них. Учите их быть образцом приличия во всем – в самых банальных проявлениях быта. Учите их красиво и опрятно одеваться, аккуратно есть, красиво и правильно говорить – учите их себя вести.
Письмо руководству Бейтара в Эрец Исраэль. Иерусалим, 2.11.1928.
Национальная самобытность
«Ощущение национальной самобытности – у человека в крови».
Жаботинский был «сионистом по природе». Сам он не нуждался в теоретизировании, «обосновывавшем» дело его жизни. Но как пропагандист своего дела он должен был разъяснять людям теории, бывшие в ходу, теоретически обосновывать собственные взгляды. Один из таких вопросов: откуда берется ощущение национального у евреев? (Этот вопрос не снят с «повестки дня» по сей день и особенно «заострился» в свете небывалого пробуждения национального самосознания у молодых евреев в Советской России).
Несколько лет тому назад я спросил себя: откуда берется в нас чувство национальной самобытности? Отчего нам так мил родной язык (тем из нас, конечно, у кого есть родной язык); отчего национальная мелодия, даже без слов, нас волнует особенным волнением? Где источник этой привязанности к своему национальному укладу, настолько сильной, что за нее люди готовы принять муку? – И первый пришедший мне в голову ответ был: источник ее – в воспитании каждого из нас. Уклад жизни, в котором мы воспитаны, дорог и близок нам на всю жизнь.– Но я вгляделся и понял ошибочность такого ответа; потому что, во-первых, я наблюдал людей, которые были воспитаны совершенно вне национального уклада, не видали в детстве ни одного седера, не сидели в куще в день праздника Сукот, не играли в орехи на Хануку, и вообще не унесли с собою из детских лет ни одного красивого образа национально-религиозной жизни, но зато запомнили много обидного, унизительного, отталкивающего; а у некоторых из этих людей еще и отцы были так же точно воспитаны; и тем не менее, когда пришло время, что-то встрепенуло этих людей, они оглянулись, затосковали по своей национальности и подошли к ней – познакомиться и породниться.
«Письмо об автономизме», «Еврейская жизнь», 1904.
По мнению Жаботинского, воспитание само по себе не способно привить человеку ощущение национального. И поскольку это ощущение зачастую возникает помимо воспитания и даже вопреки ему, то напрашивается вывод, что дело в чем-то другом, в чем-то, что предшествует воспитанию:
Чувство национальной самобытности лежит «в крови» человека, в его физически-расовом типе, и только в нем. Мы не верим в то, что дух независим от тела: мы верим, что психика человека прежде всего обусловливается его физической структурой. Никакое воспитание – ни семья, ни среда – не сделает пылким и порывистым того, кому дан от природы спокойный темперамент, и наоборот. Психика народаеще более цельно и полно отражает его физический тип, чем психика отдельного человека. Народ вырабатывает свой самобытный психический уклад потому, что этот уклад один только соответствует его физически-расовому типу, и другой психики на почве этого типа и быть не могло. В смысле обычаев и обрядов, уклад жизни, конечно, меняется под влиянием времени; но ведь национальная самобытность не в обрядах и обычаях, и под «самобытным укладом» мы с вами понимаем, конечно, нечто более внутреннее: это «нечто» в разное время выражается в неодинаковых внешних проявлениях, сообразно эпохе и социальной среде,– но само по себе оно всегда одно и то же, покуда цел физически-расовый тип. Так, м. г., медный кларнет может звучать выше или ниже, верно или фальшиво, чисто или хрипло, может играть молитву или вальс, среди просторного зала или в тесной каморке – и все это меняет его звук; но всегда будет слышно вам, что это кларнет, а не валторна и не арфа, и вы не смешаете звуков его со звуками другого инструмента,– покуда цел, так сказать, его физически-расовый тип: покуда тело его, форма его есть тело и форма кларнета. Гните его, коверкайте, ломайте: он, быть может, совсем перестанет звучать, но и последний звук его, нечистый, пискливый, будет все-таки звуком кларнета, потому что кларнет не может давать других звуков, кроме звуков кларнета. И если вы хотите, чтобы он зазвучал как валторна или как литавры, то есть одно только средство: расплавьте его медь на огне и перелейте в форму валторны. Только тогда, получив тело валторны, он заговорит звуками валторны.
«Письмо об автономизме», «Еврейская жизнь», 1904.
Поэтому Жаботинский не верил, что возможна полная ассимиляция. Специфически еврейское проявится в человеке, как бы он ни старался преодолеть его в себе. Опасность настоящей ассимиляции появляется лишь в случае смешанных браков. Только массовые смешанные браки смогут привести к «сглаживанию» национальной самобытности народа, ибо таким путем меняется его «генетический код». И этого невозможно будет избежать, если народ останется в галуте, даже если ему повсеместно будет дарована территориальная и культурная автономия. Лишь имея собственную территорию, на которой евреи будут большинством, они смогут сохранить свою национальную самобытность. Именно в этом причина вековой тяги евреев к обретению независимости. Через 30 лет после того, как была написана приведенная выше статья, Жаботинский разъяснял:
Я не марксист, но готов принять одно положение марксизма: формы и тенденции общественного быта зависят прежде всего от состояния орудий производства. Я только полагаю, что верховным «орудием производства», которое производит все другие орудия, является человеческая психика. Прежде, чем создать первое колесо или первый молоток, человек что-то обдумывал, задумывал, придумывал: все это он проделывал при помощи своего психического аппарата. Даже если все это, в первобытные времена, происходило вне сферы волевого сознания, «само собою»; даже если принять американскую теорию, согласно которой не только изобретение колеса, но и поэзия сводится к машинальному рефлексу желез и нервов – то и тогда верховным орудием всей человеческой жизнедеятельности остается тот механизм нервов и желез; и что я его по старому предпочитаю называть «психика», это сути дела не меняет.
Механизм «психики» у разных народов устроен по-разному. Почему это так, опять-таки для сути дела безразлично: может быть, психика зависит от «расы»; может быть от истории каждого народа; это для нас сейчас не существенно,– важно только то, что у разных этнических коллективов разная психика. Я при этом не настаиваю, что у всехколлективов она разная: может оказаться, что у финикян и ацтеков была почему-то совсем схожая психика. Но считаю несомненным, что есть на свете этнические коллективы, одаренные очень своеобразным психическим аппаратом; о таких люди говорят, что они по-своему мыслят, или по-своему воспринимают, или по-своему реагируют. И считаю несомненным, что одним из своеобразнейших в этом отношении является коллектив еврейский.
Из того, что верховным орудием жизнедеятельности является психика, и что психика эта у разных народов разная, вытекает простой вывод: каждому этническому коллективу удобнее жить в такой социальной атмосфере и обстановке, где каждая существенная мелочь им самим создана, по его собственному внутреннему «образу и подобию», или хоть им самим приспособлена к его собственному вкусу. Идеальное условие для этого называется своя земля, родственное население, собственная государственность. Тогда народ и создает ту самую обстановку или атмосферу, в которой ему всего удобнее жить (и даже страдать). Причем надо подчеркнуть вот что: главное в такой «национальной» обстановке и атмосфере не язык и не литература: главное, в чем сказываются национальные оттенки духа и темперамента – «психика» нации – есть государственный строй, и в особенности хозяйство. Нет места приводить здесь примеры, но это факт известный всем, кто когда-либо всматривался в жизнь: даже когда учреждения в разных странах одни и те же, то приемы и методы государственного, хозяйственного и бытового делопроизводства часто непохожи до того, что иностранцу (даже если он восхищен) они кажутся неудобными.
Еврейское государство, рукопись, 1936.
Капитуляция перед насилием
«И поэтому редеют ряды бойцов, преданных всей душой справедливому делу».
Жаботинскому – настоящему гуманисту – было отвратительно любое насилие. Он неоднократно высказывал это свое отношение к насилию (см. ст. «Хамство», «Сдержанность и реакция», «Война» и др.), но он считал при этом, что смирение перед насилием, капитуляция перед ним позволяют насилию процветать. Эту идею он выразил в притче, отрывок из которой мы здесь приводим. В притче рассказывается о двух людях: первый прожил жизнь откровенным мерзавцем и предателем, второй был добрейшим человеком, неспособным обидеть и мухи; что бы ни происходило, какие бы несправедливости ни творились у него на глазах,– он не возражал и не сопротивлялся. И вот, пришло время им обоим предстать перед Высшим судом:
Долго молчал после того Всевышний и долго смотрел в кроткие и скорбные глаза старца, и многое таинственное было тогда написано во взоре Ад-ная.
И прозвучало затем слово Господа:
– Имя тебе – предатель.– Нет предателя хуже тебя на земле. Ибо о нем, о товарище твоем, что лежит рядом с тобою, и корчится, и воет неподобно человеку,– о нем говорят люди на земле: «О, то был дурной человек, и не должны быть подобными ему». И тем удаляются они от греха предательства.
«Но о тебе говорят люди на земле: „О, то был святой человек, и блажен тот, кто найдет в себе силы поступать всю жизнь подобно ему”».
«И оттого редеют ряды борцов Моих, готовых положить душу за правое дело, а в то же время злые, вспоминая тебя, говорят с усмешкой друг другу: „Безопасно для нас обижать этих людей, ибо не хотят они постоять за себя; пойдем же к ним, и возьмем их достояние, и повеселимся с их женщинами”».
«Так растет через тебя посев несчастия на земле; и вся жизнь твоя была предательством ближних, живших рядом с тобою, и внуков, которые придут после тебя. И потому говорю тебе: имя твое предатель!»
«Его, что предательствовал за деньги, не накажу муками: пусть идет, презрение Бога и людей да будет ему карой; но тебя, развратителя,– проклинаю!»
«Два предателя», Фельетон, «Хроника еврейской жизни», 10.11.1905.
Приведенные ниже выдержки взяты также не из обычной публицистической статьи, а из фельетона. Он называется «Поколение реалистов», в нем рассказывается о разговоре трех молодых людей, услышанном Жаботинским в одном из парижских кафе. Молодые люди обсуждали намерение Японии оккупировать китайскую провинцию Маньчжурию (дело было в 1932 году). Один из собеседников высказался в том духе, что поведение Японии вполне оправданно. Затем собеседники перешли к обсуждению проблемы разоружения. Здесь благие намерения также не нашли пощады, а удостоились колкостей и насмешек. Взгляды, которых придерживались участники той беседы, были примерно такими: если у тебя есть что-то, чем ты не способен пользоваться и чего не можешь сохранить, то вполне разумно, чтобы это «что-то» отошло к другому – к тому, кому оно нужно и кто может его удержать. Дальше один из молодых людей договорился до восхвалений ЧК (гестапо тогда еще не было) и инквизиции. Жаботинскому оставалось лишь возмущенно пожать плечами.
Один из собеседников заметил реакцию Жаботинского и обратился к нему со словами: «Весьма сожалею, что нам пришлось разрушить слащавые иллюзии, которыми привыкли тешить себя люди вашего поколения. Вы абсолютно не способны понять нынешней молодежи. На самом деле «молодежь» – вы, а не мы. Мы принадлежим к повзрослевшему миру. Мы были свидетелями слишком многих проявлений насилия...».
Жаботинский напомнил, что и его поколение видело смолоду и погромы, и убийства, и бесправие. Это привело многих, и его в том числе, к выводу, что в этом мире надо уметь защищаться, «уметь стрелять» (см. ст. «Новая азбука»). «Но мы, несмотря на это, не сделали вывод, что кулак и охранка – лучшие средства ведения политических дел». В ответ представитель молодежи разразился следующей тирадой:
«Вы, ваше поколение, тешились иллюзией, что те мученики, которых беззаконно ссылают и гонят на каторгу, придут к власти и сделают этот мир лучше. Сегодня они у власти повсеместно. Все, кого во времена вашей молодости преследовали, ныне властвуют тут или там. Повсеместно осуществился идеал всеобщего избирательного права – и кого же выбирает народ? Гитлера. Или, к примеру, учредили Лигу Наций. Форум народов, обсуждающий мировые дела, открытый для критики свободной прессы. Вы, в дни вашей юности, услышав о таком, благословляли бы Создателя за то, что вы дожили до такого дня. Мы же видим, что из этого вышло – пустая болтовня и легализация права сильного. У вас была вера в людей, в идеи, которые тогда еще не осуществились на практике. Где наша вера, во что верить нам? Чем еще не злоупотребили, что не опошлили? Даже социализм, царящий в Советском Союзе, превратился в полицейское государство самого мрачного толка и породил невиданное доселе бесправие и угнетение людей. И так будет везде в скором времени. Чего же вы от нас хотите? Мы – испорченное поколение. Единственное, что мы видим с самого детства,– власть кулака. Возможно, в этом трагедия. Но невелика доблесть реагировать на трагедию словом «фу» и передергиванием плеч!»
«Поколение реалистов», «Хайнт», 19.2.1932.
Жаботинский объяснил, что означает это «фу»:
Неправда, что вы испорченное поколение. Испорчены и прокляты времена, в которые вы живете. Но и в такие времена может вырасти благословенное поколение. Хороший солдат тот, кто умеет побеждать при самых невыгодных обстоятельствах, когда все восстает против. Но для этого нужно сильное поколение. А вы – слабы. Разница между сильным и слабым в том, что сильный умеет бороться за труднодостижимое, а слабый подбирает лишь то, что валяется у него под ногами. В этом ваша болезнь, и ей – мое «фу». Как угодно изощряйтесь, говорите о Японии или о Парагвае – смысл ваших речей не в уважении даже, а в страхе перед кулаком. Вы видите, что вам не по силам справиться с ним, вы сдаетесь и начинаете петь ему дифирамбы, называя кулак исторической неизбежностью, чуть ли не справедливостью. То, что происходит сегодня, вы принимаете за конец времен. Ничего, дескать, не поделаешь, мы испорченное поколение.
Жалкую крупицу, какие-то полтора десятка лет из многотысячелетнего опыта человечества вы возводите в абсолют. Вы полагаете, что последнее слово за злом, и – сдаетесь. Аплодируйте Ленину, Муссолини, даже Гитлеру, теоретизируйте, как хотите,– все ваши теории – страусиный страх перед силой.
И вы находите ей оправдание, благословляете ее на новые злодейства. Вы говорите: так, мол, и надо, можешь учредить «чрезвычайку» – валяй, можешь инквизицию – действуй, можешь преступать человеческие законы, собственные клятвы – преступай! Моим ответом на это может быть лишь презрительное междометие. Если вы действительно те, кем хотите казаться,– поденщики, которым ничего не надо, кроме сегодняшней миски похлебки, ищущие лишь места, где похлебка погуще,– тогда вы действительно испорченное поколение, тряпки, а не люди,– «фу»!
Там же.
На вопрос молодого человека: «Так во что же верить, на что рассчитывать?» Жаботинский отвечал: а на что мог рассчитывать Герцль? На что рассчитывал он, восставая против всех, когда все, даже самые прогрессивные люди, попросту насмехались над его идеей еврейского государства? Герцля это не испугало. Жаботинский продолжал:
Рассчитывать ты должен только на себя. Не можешь – не достоин ты называться евреем, или гражданином, вообще – человеком. Если ты веришь во что-то – твоя вера единственно правильная, не может быть другой. И твоя вера – самая крепкая, самая могущественная держава на свете, могущественнее ее быть не может. И так же, как убежден ты, что ночь сменит рассвет, так же ты убежден, что вера твоя победит.
Там же.
Либерализм
«Универсальная мечта человечества, сплетенная из милосердия, терпимости и веры в доброе начало человека».
Из всех «измов», потрясавших и волновавших мир в первые сорок лет двадцатого века, Жаботинский был наиболее увлечен «либерализмом», начавшимся еще в девятнадцатом веке. Эта приверженность, по свидетельству самого Жаботинского, сформировалась в период его политического созревания, в Италии:
В те дни, на пороге двадцатого века, Италия была приятным государством. Если бы мне понадобилось одним словом определить единую основу для всех течений политической мысли, соперничавших за популярность среди общественности, я бы выбрал устаревший термин, вызывавший тогда насмешку, а сейчас – презрение и отвращение молодежи Италии и всего мира: либерализм. Это широкое понятие, несколько туманное из-за своей многогранности: стремление к установлению порядка и справедливости без насилия, универсальная мечта человечества, сплетенная из милосердия, терпимости и веры в доброе начало человека. Тогда в общей атмосфере еще не ощущался столь явно, но уже появился первый признак культа «дисциплины», вылившийся впоследствии в фашизм.
Оригинал написан на иврите; в сб. «Автобиография».
Жаботинский не пытался отрицать, что с усилением социалистических тенденций (влиянию которых он также был подвержен в период учебы в Италии) идея либерализма частично утратила свою популярность и ее «буржуазные» аспекты служили объектом критики и насмешек. Но при всей симпатии к революционной стихии, охватившей Россию в начале двадцатого века, Жаботинский не поддался модному тогда толкованию понятий либерализма и буржуазии как исключительно отрицательных:
Не надо только спекулировать словом буржуа, пользуясь его двояким значением, особенно по-русски. По-русски слово «буржуа» сейчас приводит на ум другое – «буржуй», и люди легкомысленные или недобросовестные часто пользуются этим созвучием для «херема» над инакомыслящими. Надо всегда помнить, что «буржуй» (у Горького «мещанин») есть понятие бытовое, а «буржуа» политическое, и одно с другим ничем извнутри не связано. Буржуа может не быть буржуем, и буржуй может не принадлежать ни даже краем уха к буржуазии. Загляните в дом к иному немецкому рабочему, избирателю Бебеля, и филистерски размеренный строй его семейного быта подчас заставит вас подумать: о, какой это в конце концов буржуй! А между тем, он не только не буржуа, но даже совсем напротив. В то же время Линкольн, Парнелль, Гладстон, Маццини, Кавалотти – все это несомненные буржуа, носители классически-буржуазных идеологий, но их имена вечно будут окружены уважением потомков. Герцлю принадлежит одно из первых мест в этом блестящем ряду великих людей третьего сословия. Из того, что мы с вами предвидим наступление момента, когда это сословие уступит господство другому, более многочисленному общественному слою, далеко еще не следует, что мы вправе забыть о передовой роли, которую сыграла буржуазия в мировой истории, и которую с таким беспристрастием подчеркивал сам основатель пролетарского мировоззрения. И было бы очень наивно думать, что эта роль уже сыграна до конца, и что классическому «либерализму» нечего уже больше делать на земле. Я полагаю, напротив, что нет еще на свете страны, где лучшие заветы классического либерализма были бы осуществлены во всем полном объеме; и даже смею верить, что не только в 1923-м году, но и в 1950-м добрых три четверти тогдашнего культурного мира будут все еще только вздыхать и мечтать о полном осуществлении настоящего буржуазного либерализма.
«Доктор Герцль», 1905; в сб. «Первые сионистские труды».
Эта увлеченность либерализмом сопровождала Жаботинского на протяжении всей его жизни. В его сознании жила надежда на то, что, невзирая на все общественные бури, которые обрушились на человечество в период между двумя мировыми войнами, наступит час либерализма – в эпоху успокоения и отрезвления:
«Старик» обанкротился со всех точек зрения: запахом гнили отдает от всеобщего права голоса, парламентов, от его возвышенных принципов, его Десяти Заповедей; разбиты сами Скрижали Завета, и даже те, кто озарен светом порядочности, даже они, покачивая головой, перешептываются: мир праху его. Старики перешептываются, а молодежь говорит громко: он испустил дух.
Так ли это? Умер ли он? – Еще увидим... через пять лет... увидим, похоронен ли «старик»-либерализм и его ошибки в отношении свободы, равенства и народного волеизъявления...
И если я утверждаю, что через пять лет не будет и в помине нынешних модных увлечений, захвативших души стариков и молодежи, то это не потому, что мне не нравится превозносимая ныне общественная система. Я могу гарантировать, что она исчезнет, так как – безрассудна, а предлагаемые «стариком»-либерализмом основы общественного и государственного устройства – лучше и практичнее.
По правде говоря, «рецепты» мои взяты из кулинарии, а не из аптеки, и предназначены они для нормальных времен, а не на период болезни. Случается иногда, что человек заболевает, и тогда он нуждается в горьких целебных зельях и, возможно, даже в операции. Но больничный режим нельзя превращать в постоянный образ жизни. Больничный режим включает в себя уколы, перевязки и изнурительные диеты, в то время как образ жизни здорового человека предполагает свободу в выборе пищи и места пребывания. Факт, что три четверти мира находятся сейчас на больничном режиме – обоснованно или нет; возможно, это необходимо для некоторых, а для других – нет; и терапия, и хирургия, применяемая к ним руководителями лечебниц, возможно – правильная, возможно – ошибочная; я не компетентен в этой сфере. Но одно я понимаю: восторженные наблюдатели (молодые, старые, компетентные, невежественные), толпящиеся под окнами лечебниц, аплодирующие и скандирующие: «Да здравствуют хлороформ, уколы, касторка и смирительные рубашки!» – это не что иное, как масса зевак. Я знаю, что через пять лет все народы освободятся из «лечебниц». Иногда после вредного режима на долгое время устанавливается прочный политический режим. Но мода, восторг от политического хлороформа и общественно-социальных смирительных рубашек? Старик-либерализм еще попляшет на их похоронах, и его «погребальщики» будут плясать вместе с ним.