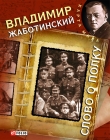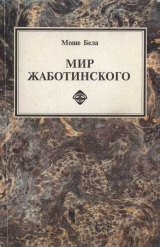
Текст книги "Мир Жаботинского"
Автор книги: Владимир Жаботинский
Соавторы: Моше Бела
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Все это не связано с «сионизмом» или «ревизионизмом» (кроме работы, которую мы всегда проводили для предотвращения беды, вроде этой); я могу представить, что каждый ассимилянт знает о возможности в данном случае всеобщей ассимиляции, и остается только одно лекарство: разовый исход.
Письмо на англ. яз. редактору «Форвертс» («Вперед», идиш), 10.4.1940.
Духовная эвакуация
«Исходя из сферы духовного влияния неевреев».
Конечно, основное значение термина «эвакуация» у Жаботинского – это необходимость физического спасения миллионов евреев Восточной и Центральной Европы. Но Жаботинский не мог остаться равнодушным и к другому проявлению безразличия евреев к собственной судьбе – теперь уже в Западной Европе, в местах, которые считались традиционно «спокойными» у евреев.
Здесь среди евреев повсеместно торжествовала примиренческая идеология, утверждавшая, что полному «слиянию» евреев с неевреями мешают лишь дедовские суеверия, время которых безвозвратно прошло. Чтобы сокрушить эту идеологию, Жаботинский дал урок истории сионизма, напомнив о временах борьбы сионистов с пророками ассимиляции:
В начале девяностых годов прошлого века hebrajski писатель Ахад-Гаам написал статью «Рабство в свободе», где указал на то, что равноправие, которым пользуются (или тогда пользовались) евреи западных стран, далеко не освободило их от специфической трагедии диаспоры: что они сами эту трагедию чувствуют, сами ее боятся, и сами как бы ощущают себя «рабами». Несколько позже этот же взгляд углубил и популяризировал Макс Нордау в своих речах на первых трех сионистских конгрессах. Он разработал понятие «Judennot» («еврейское горе»). Оно заключается не в том, будто каждого еврея непременно всюду бьют и угнетают. Несомненно есть страны, где еврею живется сносно или даже хорошо. Но если даже там сравнить внутреннее самочувствие у еврея с самочувствием у его соседа того же класса и круга,– то всегда окажется, что у еврея есть какой-то «surplus» горечи, или боли, или обиды, или страха, или просто malaise. Этот вечный излишек и есть Judennot. Иногда он вырастает до размеров массовой катастрофы; иногда он едва заметен снаружи – но он всегда есть, и в нем и заключается проклятие диаспоры; и ничем тут не поможет ни равноправие, ни вариации в температуре общественного антисемитизма.
Очень интересно подошел к этому вопросу менее известный Б. Ворохов – большой талант, к сожалению, рано умерший. По его теории, борьба за равноправие или борьба против активного антисемитизма и необходима, и далеко не безнадежна, тут можно и нужно добиться больших конкретных результатов; но все это только «нормализация галута» (Jalut, ozy Jolus to po hebrajsku «изгнание»; буду употреблять это слово и слово «диаспора» как синонимы). Бесправие, погромы, общественный остракизм евреев – это все ничуть не обязательные черты галута, это только обострения, припадки, аномалии; их можно и нужно устранить – все равно как человек с хроническим бронхитом не обязательно должен схватить воспаление легких. «Нормальный» галут – это и есть диаспора с равноправием, без погромов и без травли: но самая нормальная диаспора не может заменить своего национального chezsei.
Еврейское государство, рукопись, 1936.
Постоянно беспокоясь о судьбах еврейской бедноты, еврейских «униженных и оскорбленных», Жаботинский не мог не беспокоиться и о еврейской интеллектуальной элите – писателях, поэтах, музыкантах, ученых, политиках. Они достигли больших высот в своих областях, прославили страны своего проживания. Но сами эти страны не забыли им их происхождения. Эти люди заплатили полной мерой за свой «смертный грех» – еврейство. Однако даже те, с кого не «взыскали по счету», по мнению Жаботинского, были ущемлены. Какой бы ни была богатой их духовная жизнь, она не могла быть полноценной все из-за того же галутно-еврейского комплекса. Когда еврей Леон Блюм стал премьер-министром Франции (через каких-нибудь 6 лет после этого он угодит в нацистский концлагерь) и был немедленно подвергнут нападкам как «слева», так и «справа»,– мишенью для «критических стрел» было его происхождение. Жаботинский выступил с идеей о необходимости «духовной эвакуации»:
У слова «исход» может быть несколько значений. В применении к одним странам смысл этого слова предельно прост, «географичен»: это массовая эмиграция. Сегодняшняя Франция не из этого ряда. Но существует еще и понятие «духовного исхода»: выхода за рамки нееврейского духовного влияния –литературы, театра, политики. И совершать такой исход следует, разумеется, по собственной инициативе, не дожидаясь «особого приглашения» в виде пинка.
Идея не нова. С момента, когда разыгралась война с ассимиляторами, мы взывали к еврейской интеллигенции: воротитесь от чужих пастбищ к родным виноградникам! Мы всегда настаивали на том, что гораздо лучше и почетнее скромная трапеза у себя дома, чем самое роскошное кресло «почетного прихлебателя» на чужом пиру. Но главный довод был позитивным: мы должны создать нашу культуру – вот достойная нас задача! Впрочем, и негативный довод звучал не менее веско: что же будет в «конце концов», если все еврейские таланты разбегутся по чужим кормушкам? Трагедия немецкого еврейства – вот развернутый ответ на вопрос: каково воздаяние еврейскому народу и отдельному еврею за его ум, талант, мастерство, гениальность, принесенные в дар чужому народу? За 10 лет до прихода Гитлера к власти француз, англичанин – да и сам немец! – знакомился с современной немецкой литературой по еврейским именам: Шницер, Васерман, Верфель, Цвейг, Фейхтвангер и т. д.– я могу припомнить лишь два исключения (того же уровня) – братьев Манн. Ну, может быть, не будучи специалистом в немецкой литературе, я и ошибаюсь. Может быть, эти исключения – гении нееврейского происхождения – и достигнут 50 процентов. Неважно. Важно, что арийцы усмотрели опасность. И то же самое в журналистике, юриспруденции и т. д. И разве виноват Васерман, что он хорошо писал? Конечно, не виноват, и Леон Блюм не виноват.
Никто не виноват, как не виновата была Сусанна в том, что была красива, ан поди ж ты, неевреи обижаются, а евреи расплачиваются.
Конечно же, проблема Леона Блюма еще и в том, что он ко всему и социалист. Но это не главное, не в этом корень зла. Эпизод с Блюмом – лишь отрывок из современной трагедии «Похождения еврейского народа в райском саду Вавилона». Естественным продолжением должен стать «Духовный исход по собственному желанию». Ибо дальше – «То же, но по желанию других».
«Что же в конце?», «ха-Ярден», 17.7.1936.
Поле нашего творчества внутри еврейства. Мы служим еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы, здесь не ведем народ в безвестную темноту, на добрую волю союзников, которых не знаем, за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим: у тебя нет союзников – или сам за себя, или нет спасения. Никто на свете не поддержит твоей борьбы за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай своисилы, измерь своюволю, и тогда – или иди за нами, или да свершится над тобой судьба побежденных.
«Еврейская крамола», 1906, «Фельетоны».
Нация и национализм
«Сохранение индивидуального характера нации – необходимое условие прогресса».
Слово «национализм» не слишком популярно в наши дни. Однако не следует считать, что националистические чувства перестали существовать, что они не усиливаются во времена опасности или военных побед. В повседневной жизни национальная гордость бурно проявляется на спортивной арене, например, когда проигрыш матча становится чуть ли не поводом для объявления войны... Однако подчеркивание национальных отличий и особенностей порождает в среде интеллигенции совсем иные чувства: неловкости, смущения, а то и стыда и вины. Так реагируют совесть и разум множества порядочных людей на сам факт существования инстинкта национализма, присущего человеку. Поэтому их мысли и поступки направлены, сознательно или бессознательно, на уничтожение национальных отличий и на дальнейшее слияние народов.
Что же касается Жаботинского, то он был свободен от подобных «угрызений совести». Широко известна его декларация: «Вначале сотворил Бог нацию» (упоминание в «Повести моих дней»). Жаботинский полагал, что именно существование наций, их культуры и неповторимого характера – признак прогресса. В ходе ожесточенной полемики с одним из оппонентов Жаботинский утверждал:
Наша точка зрения та, что сохранение национальных индивидуальностей необходимо в интересах прогресса, что убыль хотя бы одной национальной разновидности сама по себе является траурным событием для всего человечества, и что никакой жертвы не жалко для предотвращения этой убыли. Вы же, м. г. (если только вы присоединяетесь к вышеприведенному возражению), вы находите, очевидно, что сохранение самобытности само по себе совсем не важно, а важно только то, чтобы никто не угнетал народности и не навязывал ей насильно чужую маску; но если вам удастся внушить этой народности такой шаг, последствием которого явится безболезненное и добровольное принятие чужой маски, то вы за это не в ответе и тужить не станете. Национальная индивидуальность вам не дорога, не свята; существует она? прекрасно; исчезла? тоже прекрасно. Дорог и свят вам только принцип свободы и справедливости; раз данное племя уцепилось за свою самобытность, словно за святыню, то вы не хотите, чтобы эту святыню вырвали у него насильно – хотя сами в ней ровно ничего святого не видите и со своей стороны ровно ничего не имеете против ее полного упразднения – лишь бы только без насилия и гнета. Это все очень похвальные чувства, милостивый государь,– эта любовь к справедливости и свободе и это уважение к чужой святыне. Но не именуйте же себя националистами, ибо националистами называются те, которые желают сохранения племенной самобытности на веки и во что бы то ни стало. Не называйте себя националистами. Перед тем, как позвать под ваше знамя нашу молодежь, стоящую на распутьи, спросите себя вдумчиво – не грозит ли ваша дорога незаметно и безбольно привести наше племя, столько перенесшее за свою самобытность, к последнему костру, в огне которого без следа испарится эта самобытность, непоправимо и неотвратимо? Задайте себе этот вопрос, и загляните ради него глубоко и подробно в чертежи будущего, как они вам рисуются, ибо, повторяю, кто зовет людей за собою, не имеет права не знать и не ручаться за каждую извилину своего пути. И если вы, действительно, сознаете, что ваши призывы только ведут нас по новой удобной тропе к той же старой могиле ассимиляции, то не молчите об этом. Заявите громко. Назовите себя громко партией безболезненного самоубийства, партией почетной капитуляции в рассрочку; но не именуйте себя националистами, чтобы за вами ошибкой не пошли те, которые желают нашему народу жизни вечной и не хотят его гибели, ни насильственной, ни безболезненной,– чтобы не пошли за вами, и потом, когда поздно будет вернуться, не послали вам горького упрека за обман.
«Письмо об автономизме», «Еврейская жизнь», 1904.
Какую унылую картину представлял бы собой мир, если бы осуществился идеал космополитизма и отдельные человеческие общества мало-помалу потеряли свои национальные особенности! В одной из ранних сионистских статей Жаботинский поднял голос против однообразия и атрофии культуры человечества:
Я, конечно, не сомневаюсь в том, что будущее приведет к самому тесному сближению между различными странами и народностями, как не сомневаюсь в том, что когда-нибудь и даже скоро люди по взаимному уговору признают какой-нибудь язык международным. Но не «универсальным». Это будет язык для международных сношений, и только. Внутренняя жизнь каждой нации будет по-прежнему выражаться при посредстве ее национального языка, и язык этот будет самобытно развиваться и богатеть по мере духовного развития нации. И точно так же, как с национальным языком, будет с национальной психикой. Не смешиваясь браками с чужой расой, да еще к тому живя постоянно в одной почвенно-климатической среде, впитывая из рода в род ее влияние, каждая народность естественно сохранит и будет самобытно развивать и углублять свою индивидуальную психику, внося национальный оттенок во все проявления своего творчества. Не к слиянию национальностей ведет естественный процесс, а к обеспечению за каждой из них полной самобытности. Исчезнет война, упразднится таможня, но никогда не сгладятся индивидуальные различия, врожденные расе и вечно питаемые различиями в почве и климате, и нисколько не препятствующие ни дружному прогрессу, ни взаимному уважению наций.
Но мало того, что сохранение национальных особенностей представляется, со строго-позитивной точки зрения, совершенно неизбежным: следует помнить и о том, что оно также в высшей степени желательно. Мы называем богатой и счастливой природу той страны, где растет и пальма и кедр, и вишня и дуб, где есть и горы и леса, и озера; напротив, бедною и скупою считаем мы природу тех стран, где растительность однообразна и ландшафт один и тот же всюду. Никогда никто не видел идеала в однообразии; напротив, мы и инстинктивно, и сознательно всегда предпочитаем всевозможное многообразие разновидностей, гармонически, но самобытно живущих и развивающихся друг подле друга. Человек не может быть исключением из этого идеала. Если бы национальных различий не существовало, то в интересах всего человечества il taudrait les inventer, их надо было бы изобрести,чтобы дух человеческий мог проявляться во всяческом многообразии оттенков. Есть уже не новый, но очень подходящий в этом случае пример: представьте себе человечество в виде огромного оркестра, в котором каждая народность как бы играет на своем особом инструменте. Возьмите из оркестра всех скрипачей, отберите у них скрипки и рассадите их по чужим группам – одного к виолончелистам, другого к трубачам, и так далее; и допустим даже, что каждый из них играет на новом инструменте так же хорошо, как на скрипке. И количество музыкантов осталось то же, и таланты те же – но исчез один инструмент, и оркестр в убытке. Если только мы понимаем прогресс, как стремление к наибольшей полноте сложности и богатству жизненных проявлений, а не наоборот – к наибольшей скудости и однообразию, то мы должны дорожить неприкосновенностью национальных индивидуальностей не менее, чем дорожим неприкосновенностью отдельной человеческой личности; и если никакой жертвы не жалко для исправления социальных неустройств, угнетающих личность, то не жаль никакой жертвы и в борьбе за то, что может обеспечить национальной индивидуальности законную неприкосновенность.
«Критики сионизма», 1905.
Жаботинский был убежден в том, что сохранение национальной исключительности таит в себе благо всего человечества, и решительно отвергал обвинение в склонности к изоляции:
Сохранение национальной самобытности возможно только при сохранении чистоты расы, а для этого необходима своя территория, на которой народ наш составлял бы подавляющее большинство. И если вы, м.г., с ужасом спросите меня: – Так что же, вы хотите обособленияво что бы то ни стало? – то я отвечу вам, что не надо бояться никаких слов, и в том числе также и слова «обособление». Поэт, ученый, мыслитель, всякий, кому нужно творчески работать и проявлять свою личность, должен непременно обособиться на время своего труда, затвориться в четырех стенах и никого не видеть, потому что немыслимо писать стихи или создавать философские системы под шум чужого разговора. Творчество невозможно без обособления; и если в этом обособлении поэт или ученый пишут вещи, полезные для общества, то их обособление есть гражданский подвиг. Национальность тоже должна творить: национальное духовное творчество – это raison d'être [*]всякой народности, и если не ради творчества, то незачем ей существовать. Для этой задачи творящая народность нуждается в обособлении так же точно, как нуждается в нем творящая личность. И если народ не стал трупом, то в обособлении своем он создаст новые ценности; а когда создаст их, то не спрячет для себя, но принесет к общему международному столу на всеобщую пользу, и обособление его будет заслугою перед лицом человечества.
«Письмо об автономизме», «Еврейская жизнь», 1904.
Итак, ради сохранения национального существования необходимо, чтобы народ жил на своей территории и был на ней национальным большинством. Это условие вовсе не исключает возможности, чтобы часть этого народа находилась также и где-то в другом месте. Никакому национальному меньшинству не грозит опасность уничтожения, если оно может опереться на государство одной с ним национальности. Но общий национальный облик государства определяется той частью его населения, которая представляет в нем национальное большинство:
Я верю в прогресс человечества, и поэтому я верю в то, что лет через сто каждое государство будет многонациональным, или федеральным, или чем-то в том же роде. И вместе с тем ничто не помешает каждому государству с каким-то определенным национальным большинством оставаться действительно национальным государством этого национального большинства; и никакое равноправие одного, двух или трех национальных меньшинств (даже если они будут хранить как святыню свой национальный характер) не сможет помешать тому, чтобы каждое государство (какую бы конституцию оно ни имело) продолжало оставаться национальным государством своего национального большинства.
У этого правила есть два исключения. Во-первых, если национальное большинство не является носителем культуры государства – как, например, негры в Южной Африке (хотя никто не знает, останутся ли они таковыми всегда); во-вторых, если данное государство не является государством демократическим и управляется силой. Но в нормальных условиях – то есть, если в данном государстве проживают две или больше культурные нации и управляется оно парламентарно – совершенно закономерно, что в конце концов национальный характер большинства наложит свой отпечаток на весь образ жизни государства, несмотря на все законы о равноправии двух или пяти национальностей. И чем больше будет национальное большинство – тем сильнее будет этот отпечаток.
«О пустословии», «Хайнт» («Сегодня», идиш), 1.9.1930.
Эту черту своего характера – радоваться при виде процветающих стран и народов – Жаботинский выразил в своих заметках, соединив серьезность с юмором:
Мир не любит маленьких государств. Каждый раз, когда какая-нибудь крупная европейская газета упоминает одно из маленьких государств (ив особенности одно из тех, что создались после войны), на лице ее появляется гримаса. (То есть, чувствуется, что, когда корреспондент писал свою заметку, он кривил свое лицо – невероятно трудно писать и не совершить ни одного промаха!) Итак, кривит корреспондент гримасу и ругается: почему весь мир превратили в «Балканы»?! Или она (то есть газета) принимает выражение лица серьезное, научное и доказывает, что такие маленькие государства «существовать не в состоянии», поскольку раньше, когда они входили в состав более крупных государств, у них был «обеспеченный тыл» – а теперь его нету.
У меня, как видно, натура противоположного свойства: я люблю маленькие государства. Если бы я был творцом мира, я бы давно уже разрезал все большие государства на независимые маленькие. Наверняка, если только удостоюсь я жить в еврейской Эрец Исраэль, я тут же создам сепаратистское движение в Верхней Галилее. Сам я поселюсь в Цфате и «вэт» всегда буду произносить как «б» («тоб» вместо «тов»). Еще я отыщу что-нибудь самобытное в произношении, или в обычаях, или в одежде, и все только для того, чтобы пробудить дух сепаратизма. Зачем это мне – я и сам не знаю, но почему-то мне это необходимо. Я ненавижу городок, примиряющийся со званием городка; я люблю такой маленький городок, которому достает наглости считать себя центром мира,– как мой родной город Одесса, например, в его лучшие дни.
...В моей вере в малые государства есть, видимо, какая-то склонность к философии такого рода: чем больше столиц – тем больше культуры. Сделайте любое место столицей – и оно в самом деле станет столицей в плане психологическом. Я вспоминаю Ковно, Ригу и Ревель перед войной. Их жители жаловались на скуку точно так же, как жалуются сейчас (все время жить в Париже тоже наводит скуку – действительно неизменяющееся),– но турист, смотрящий со стороны, сразу замечает разницу. Раньше в этих городах нечего было изучать, не о чем было распрашивать – сегодня же каждый из них представляет собой лабораторию для постановки множества творческих опытов: в них создают одно из самых больших чудес Творца – нации.
«Главы путевого дневника», «Доар ха-йом», 10.11.1930.
Антисемитизм не мог породить сионизма. Антисемитизм мог породить только стремление убежать от преследования по пути наименьшего сопротивления – то есть, переменив веру. И все-таки для того, чтобы за проповедью перемены веры стал слышен призыв к самосознанию и национальному воскрешению, было необходимо что-то другое, кроме антисемитизма,– какой-то внутренний фактор, какое-то позитивное веление изнутри. Это – инстинкт самосохранения нации, он дал нам силу двинуться вперед по скорпионьей тропинке нашего времени.
Один араб уснул под сенью какого-то дерева. Утром его укусила блоха, он проснулся от укуса, увидел утреннюю зарю и сказал: «Честь и хвала этой блохе! Она пробудила меня ото сна! Теперь я совершу омовение и приступлю к работе». Но во время омовения блоха снова укусила его. Араб поймал ее, убил и сказал: «Ты, как видно, возгордилась от моей похвалы! Правда, от сна ты меня разбудила – но не по твоим указаниям я буду молиться и работать...»
Вот какова роль антисемитизма в возникновении сионистского движения. Мы не отрицаем, что антисемитизм заставил нас пробудиться от спячки. Но это – все, и если после его укуса мы встали во весь рост, омылись живой водой и приступили к работе – мы это сделали не из-за гнусного насекомого, которое нас разбудило, но благодаря инстинкту самосохранения, пульсирующему в сердце нации.
«К антисемитам», 1903; в сб. «Первые сионистские труды».
Ориентация
«...Мы должны ощущать себя нацией и быть готовыми ко всему».
Одно из самых распространенных обвинений в адрес Жаботинского – что он был англоман до мозга костей и никогда не был готов к полному разрыву с англичанами. Что ж, люди старшего поколения, должно быть, припоминают, чем была Британия для евреев в конце I мировой войны: страной-освободительницей в полном смысле этого слова, принесшей наконец евреям надежду на осуществление их мечты – строительство «национального очага в Палестине» (при всей туманности этой формулировки – это был огромный шаг вперед). Да, Жаботинский был англоманом. Он помнил, что англичане помогли сформировать еврейские батальоны для отвоевания Эрец Исраэль у турок, что англичане издали декларацию Бальфура. Но его «привязанность» к англичанам вовсе не была безоговорочной; здесь, как и везде, Жаботинский руководствовался прежде всего интересами своего народа, он видел, что интересы евреев и Британии во много совпадают, и, применяясь к конкретным обстоятельствам, старался координировать действия как англичан, так и евреев. В отличие от многих других лидеров сионизма, он никогда не был ослеплен обаянием «всего британского», его душа была свободна от «слепой привязанности», и, когда действия британского правительства несли вред делу сионизма, он решительно и беспощадно выступал против Британии, не позволял ее искушенным политикам вводить в заблуждение как евреев, так и мировое общественное мнение. Еще во время «медового месяца» еврейско-британских отношений, в первые годы Мандата, Жаботинский обращал внимание современников на вопиющее несоответствие циничных действий британских оккупационных властей в Эрец Исраэль благим намерениям декларации Бальфура. Он вышел тогда из руководства сионистской организации в знак протеста против соглашательской политики лидеров сионизма, послушно шедших на поводу у британцев. Да и затем он неоднократно срывал маску филантропа и юдофила с хищно оскалившегося британского льва.
Вместе с тем, он отдавал себе отчет в том, что пока евреи являются меньшинством в Эрец Исраэль, пока они не имеют достаточного опыта в управлении, не представляют собой сколь-нибудь серьезной военной силы, сионизм нуждается в сотрудничестве с могущественной державой. Естественным союзником была бы Британия. Но вовсе не обязательно. Еврейский народ – суверенная нация, и никто не вправе навязываться ему в качестве союзника. В 1925 году он писал (предлагая ввести в школах Эрец Исраэль преподавание французского языка):
Мы совершили крупную политическую ошибку, поставив все на одну карту. «Ищи третьего» – учили наши мудрецы... И вот теперь и наши английские друзья привыкли считать нас, наше дело чем-то второстепенным (чтобы не сказать – ненужным) для британской политики.
В глазах английского общественного мнения мы стали жалкими бедными родственниками. Если добрая старушка-благодетельница рассердится на нас и прогонит, то нам и идти-то некуда, и нет у нас богатого дяди за океаном, который бы выручил в трудную минуту. Мы кажемся этакой дурнушкой-бесприданницей, которая должна смотреть в рот своему благодетелю, взявшему ее из жалости, и трепетать – как бы не осерчал и не выгнал. За нечто подобное нас стали принимать даже наши вполне искренние друзья в Англии. И естественный результат – даже они совершенно перестали считаться с нашим мнением. Такая ситуация абсурдна, унизительна и просто вредна для нас. Но главное, такое отношение к нам просто безосновательно. Невеста вовсе не дурнушка и не бесприданница. И, кстати, вовсе не круглая сирота в этом мире, и еще не поздно расставить все по своим местам.
«Французский язык», «ха-Арец» («Страна», иврит), 19.7.1925.
Такие взгляды Жаботинского были встречены без восторга евреями и их лидерами, которые были совершенно обворожены и обезоружены тем, что такая великая держава, как Британская империя снисходит до переговоров с таким ничтожным сообществом, как евреи. Но вот 1929 год принес кровавые погромы, и английские власти практически в открытую встали на сторону арабских погромщиков и убийц. Это многим раскрыло глаза, даже тем, кто все еще не хотел видеть вопиющего расхождения между словом и делом у британских политиков. Жаботинский считал, что настало время решительно заявить Британии, что если она не изменит своей политики по отношению к евреям – им придется искать другого союзника. Вместе с тем он предвидел реакцию евреев на это предложение:
И вот тут-то и поднимает голову наш древний внутренний враг – еврейское самоуничтожение и отчаяние – и предостерегает: «Это все пустые разговоры. Кто мы такие, чтобы ставить вопрос: или – или? Разве есть у нас выход? Разве нам по силам разорвать узы, привязывающие нас к нашему могучему суверену? И разве это в наших интересах? И даже если б могли мы от него избавиться, разве сможем мы продержаться в ваккууме изоляции?»
А я говорю: да, есть альтернатива. И не одна. И говорю это вовсе не в запальчивости или из чувства обиды. Эмоции здесь вообще ни при чем. Каюсь, грешен и, верю, еще буду грешить, но от одного греха уберег меня Создатель – от запальчивости. Этот грех вообще не присущ нашему лагерю, который, кстати, гораздо мощнее и многочисленнее, чем даже сам думает. Все происшедшее в последнее время никак не изменило нашу позицию, ибо все это мы предвидели заранее. И не потому, что мы ясновидящие. Так же, как вовсе не ясновидящий астроном предсказывает солнечное затмение. Он просто сопоставляет данные и умеет вычислять. Я вовсе не изменил своего отношения к великому заморскому народу.
Я никогда не верил, что «нет выхода». Даже во время войны я не считал, что наше сотрудничество с Англией – единственный путь. В то самое время, когда мы звали еврейскую молодежь под знамена британского еврейского легиона, мы не переставали оказывать давление на сионистское руководство, чтобы оно не удовлетворялось заключением союза с Англией. Нас не услышали – и за это мы не раз расплачивались, но в том не наша вина. Известно: нельзя класть все яйца в одну корзину. Мы это сделали.
И сейчас я утверждаю: «английская корзина» – далеко не единственная. Мы можем и должны искать других союзников. Противоположное мнение – как минимум преувеличение, на самом деле – глупость. И тот, кто придерживается такого мнения, уподобляется мыши из известной русской поговорки: «Страшнее кошки зверя нет». Для жителей Синишек Сморгонь – великая столица, а Париж, до которого от Сморгони 3000 верст,– непролазная глушь. Давайте еще станем утверждать вслед за св. Августином, что южного полушария нет, потому что его быть не может! Все это – глупость, глупость, как и любая паника. Выход есть всегда. Есть он и сейчас!
Когда я упоминал Сморгонь – Богом забытый городишко на границе Белоруссии и Литвы, я вовсе не забывал, что Лондон – великая столица. Не «кошке» подобная, но льву. Но и лев – не один в лесу, есть и кроме него могучие звери, и львы попадаются в ловушки и клетки.
Не один лев в лесу – львов найдутся десятки. Мы шли неким путем, и, кстати, он еще вовсе не завел нас в тупик, но нельзя считать этот путь единственным. Есть и другие.
Мы еще не разочаровались в англичанах, даже после последних событий, как не разочаровались мы в русских после Кишиневского и других погромов, и мы призываем наших лидеров продолжать верить в английский народ. Но эта вера не должна быть слепой, не должна быть «единственно правильной». Мы должны дать понять англичанам, как в Иерусалиме, так и на Даунинг-стрит: если действительно разочаруемся в нашем теперешнем союзнике, ему придется уйти из Эрец Исраэль, и мы найдем, кого пригласить на его место.
«Нет выхода», «Доар ха-йом», 6.8.1930.
В те времена этот призыв Жаботинского не мог быть ничем иным, кроме гласа вопиющего в пустыне. Но Жаботинский не сдавался, он всеми силами искал, готовил альтернативу Британии. Одним из способов была попытка обострить давно назревший англо-еврейский конфликт, сделать разрыв с британцами неизбежным, поставить стороны перед свершившимся фактом:
Наша задача теперь – расширять и углублять трещину. Не заниматься поисками «альтернативы», а «готовить место», поставить державы с колониальными амбициями перед фактом: англичане уйдут. Готовить их к осознанию того, что английское присутствие в Эрец Исраэль вовсе не «священно» и не вечно. Это просто обычная оккупация со всеми ее «прелестями», как оккупация Индии или Ирландии. Любое проявление нашего недовольства, если только оно будет достаточно сильным, чтобы его заметили, неизбежно будет пробуждать «аппетит» других держав. Поэтому нам не надо искать себе покровителей. Найдутся сами.