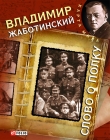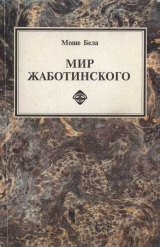
Текст книги "Мир Жаботинского"
Автор книги: Владимир Жаботинский
Соавторы: Моше Бела
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Еврейский народ, целиком и в полном составе, катится навстречу беспримерной и всемирной катастрофе. Есть страны, где антисемитизм и вытеснение евреев стали официальной частью государственного порядка. Есть страны, где то же происходит неофициально: иногда с аккомпанементом уличного гвалта, иногда даже вежливо. Есть страны, где всех этих конкретных последствий еще нет, но где в массах и в обществе явно и быстро нарастают те же самые настроения, которые и привели к этим самым последствиям в странах первой и второй категории. Есть, конечно, люди, которые зажмуривают глаза или утешают себя надеждами на то, что авось как-нибудь все тучи рассеются: легкомыслие безответственное и непростительное. Положение это для нас невыносимо; но и для целого ряда стран, где разыгрывается наша драма, оно нелегкое и опасное. Если наши мучения там затянутся, будет и им нехорошо; если мы найдем для себя дома лучше, то и им в старых домах станет лучше. Это пора признать и сказать вслух. Целый ряд стран должен заявить миру: сионизм – это значит res nostra agitur.
Еврейское государство, рукопись, 1936.
Хотя антисемитизм, по выражению Жаботинского, «тайфун, разрушающий все», неуправляемая стихия, грозящая всему на своем пути, но если разумно реагировать и управлять «стихией», можно использовать даже бурю чудовищной разрушительной силы для того, чтобы корабль Израиля прибило к спасительному берегу:
В мореходстве известен этот способ под названием «использование противных ветров». В море встречаются два парусника. Один плывет на запад, другой – на восток, хотя ветер дует, естественно, только в одну сторону. Вся наука тут в правильном подборе парусов и постановке их под нужным углом. В жизни народов эта наука, начисто позабытая нами, называется «политика».
Настали времена в нашей истории, когда задули сильные ветры, хоть и дуют они в противоположную сторону. Весь мир носится с проблемой еврейской эмиграции. Эта проблема стала во главу угла, она возбуждает всеобщую бурю. Все в один голос заявляют: «Мы не можем принять этих скитальцев». Конечно, у всех при этом остается неприятный осадок. Но действительно – что они могут поделать? И если мы перестанем понимающе кивать головой, а будем бередить совесть мира, тогда она, эта совесть, может стать недюжинной силой. И мы сможем сказать: да, в ваших странах евреям не найдется места – у вас и без того тесно. Но ведь мы можем все собраться в Эрец Исраэль. Помогите же ее экономическому развитию, и всем евреям там хватит места. Помогите своим влиянием изменить мандатную политику.
Именно так и действовал Герцль. Его цель была – сделать еврейскую проблему проблемой международной, довести до сознания политиков и общественного мнения, что единственный выход – еврейское государство.
«Избавительная буря», 1936; в сб. «В бурю».
Это выражение – «избавительная буря» – Жаботинский ввел в обиход еще в 1924 году. Во второй половине 30-х годов он особенно активно использовал его. Жаботинский рассчитывал на помощь правительств Восточной Европы, на их поддержку еврейской эмиграции в Эрец Исраэль. Он встречался с премьер-министром Польши, с президентами Чехословакии и Литвы, с румынским королем. Он встретил понимание и готовность содействовать. Правительства этих стран намеревались созвать «Конгресс по спасению евреев Европы», который бы выработал четкий план эмиграции в Эрец Исраэль и ее освоения. Жаботинский видел в этом луч надежды на спасение перед лицом надвигающейся катастрофы:
Естественное дело, друзья, что человек в такую минуту спрашивает себя: «Может ли быть еще место в словаре для таких слов, как «утешение» и «успокоение»?» И тут я признаюсь. Во всей этой непроглядной тьме мне видится луч света. Грозовым тучам я говорю: «Вы рассеетесь, вам не одолеть нас, если только мы будем достаточно крепки». Сама по себе буря – полбеды. И в бурю парусники идут против ветра. Я знаю – у этой бури хватит мощи, чтобы нас смести. Или, быть может, принести нам спасение. Все зависит от нас, моряков, как мы поставим паруса. Время покажет, выстоим ли мы. Я готов использовать любое направление ветра, пусть дуют в наши паруса друзья или враги, ближайшее десятилетие покажет, какие ветры принесли нам спасение. Мы должны сделать все от нас зависящее. Мы ходили в самый центр бури – в Польшу. Были в Румынии, в других землях. Мы стучались во все двери. Говорили с королями, президентами, министрами. Они выслушивали нас и прислушивались к нашим словам. Мы говорили им: «Вы действительно хотите, чтобы ваши страны погрязли в болоте, в котором уже погрязли другие? Вы, вы – светочи культуры и либералы до мозга костей – хотите вымараться в крови людей, так много сделавших для ваших стран, помогших вашим предкам выйти из дикости? Есть на свете Эрец Исраэль, и в ней хватит места для всех евреев. Но тот, кто держит ключи от этой страны, он, при всем к нему уважении, стал, как бы это выразиться, ошибаться. Он вдруг решил, что сионизм – это его внутреннее дело, по крайней мере, его дуэт с евреями. Надо разъяснить ему, что это не дуэт, а всемирный хор. Что это в той же мере и дело ваших стран».
...Это тяжелая работа. Но мы продолжаем идти этим путем. И мы ставим наши паруса и верим, что буря – страшный тайфун антисемитизма – погонит наши корабли к спасительному острову, острову спасения всего мира.
«Утешайте, утешайте народ Мой», «ха-Ярден», 28.10.1938.
Национальный спорт
«Еврейский национальный спорт» помогает смести барьер, стоящий на пути миллионов жаждущих сердец».
Явление, речь о котором пойдет ниже, называли самыми различными словами: «нелегальная иммиграция», «алия несмотря ни на что» и т. д. Жаботинский называл это – проникновение евреев в свою страну, невзирая на запреты британских властей, в обход всех их законов и постановлений – «еврейским национальным спортом». Занятие этим опасным спортом, к которому руководство официального сионизма долгие годы относилось резко отрицательно, требовало скромности из соображений конспирации. Но иногда Жаботинский видел необходимость нарушить обет молчания:
Совершенно очевидно, что народу, в особенности его молодежи, ни в коем случае нельзя опускать руки и вздыхая говорить: «Полиция запретила нам спасаться – наше дело послушно сидеть и ждать погибели». Нет, мы должны, обязаны искать и находить пути к спасению. И где написано, что в войне нет места известной доле «авантюризма»?
История учит как раз обратному. История учит, что зачастую и неудавшаяся авантюра прокладывает дорогу к будущей победе. В особенности, когда на риск идет не один, но многие.
Быть может, будет совсем не бесполезно, если изо дня в день англичане будут вынуждены отлавливать в Эрец Исраэль молодых евреев и возвращать их обратно. Может быть, будет неплохо, если будет сформирована целая подпольная сеть содействия такому проникновению в Страну, возможно, это поставит англичан в весьма затруднительное положение перед всем миром...
Был бы я помоложе, наплевал бы я на их визы и на их запреты. Невозможно? Расскажите это бабушке, мне – не надо. Да, трудно. Очень трудно. Но не невозможно. Был бы я молод, я ввел бы в обиход новый пропагандистский символ – дешевенький жестяной свисток. Свистели мы, дескать, на ваши запреты и ограничения!.. Британия утеряла право на уважительное отношение к ее законам. Все ее действия в Эрец Исраэль – не что иное, как плевок в лицо чести, морали и самого закона.
«Путь авантюризма», «Морген-журнал», 6.3.1932; в сб. «На пути с государству».
Сейчас в Израиле живут многие, кто с благодарностью вспоминают эту статью, подвигшую их на риск, который, в конечном счете, спас им жизнь. Подобное влияние оказала и другая статья в том же духе:
«Еврейский национальный спорт» помогает смести барьер, стоящий на пути миллионов жаждущих сердец. Он помогает бездомной толпе обрести себе родину и стать народом. Все другие виды спорта – всего лишь игра. Наш спорт – всерьез. И воспитывает он такие качества, которые, возможно, и не требуются в других видах спорта... Терпение, стойкость в беде? – Спросите того, кто был схвачен, и он расскажет вам, какое сверхчеловеческое терпение, какая стойкость в испытаниях нужна в нашем национальном спорте. Преданность? Благородство? – Другие виды спорта не дадут вам возможности помочь старику, ребенку, женщине, другие виды спорта вообще не допускают слабых. Другие виды спорта – для атлетов с ясным взором.
Наш национальный вид спорта имеет короткую историю. Но у него уже появились свои славные традиции: последняя капля из фляги полагается женщине, здоровые проводят ночь стоя, чтобы больной мог спать хотя бы с минимальным удобством. Мужество? Опасности? Было бы с чем сравнивать. В самом «грубом» виде спорта – в регби – игрок рискует, в худшем случае, вывихнуть сустав, растянуть связки. В боксе – получить сотрясение мозга. Было бы с чем сравнивать...
Я совратил молодежь. Я учил ее быть непослушной, засорял ей голову новой «азбукой»: не читать по складам, а метко стрелять. И есть у меня подозрение, что до сих пор не удалось мне причинить молодежи большого ущерба. И потому я надеюсь, что Бог даст мне сил продолжать мое черное дело...
«Национальный спорт», «дер Момент», 28.4.1939.
Движение, во главе которого стоял Жаботинский, создало организацию по «контрабандной» доставке евреев в Эрец Исраэль. Многие и многие воспользовались «услугами» этой организации. Целью этого предприятия было спасение человеческих жизней – в самом прямом смысле. Жаботинский подчеркивал также огромную политическую важность «национального спорта»:
Когда издается дурной закон, а народ подчиняется ему с верой в его справедливость, то это как бы придает и закону и горезаконодателю дополнительные силы. Молчание общества есть его молчаливое согласие с тем, против чего оно должно было бы бороться. Ежедневно, ежечасно общество обязано демонстрировать свое неприятие неправедного закона. Тогда с каждым днем из-под этого колосса будет выбиваться еще одна подпорка, дурно скроенный закон начнет трещать по швам. И тогда весь мир увидит и поймет, на чьей стороне правда. В этом смысл «алии Бет» – свободной иммиграции. Каждая попытка такой иммиграции – была она успешной или нет – пощечина принципу «стоп иммигрейшн». И чем более крутые меры будет вынужден принимать Лондон против этой иммиграции, тем больше будет он позорить себя в глазах всего мира, да и в своих собственных. Друзья, человек способен знать о существовании мерзости, но ощущать ее – совсем иное дело. Сто раз вы можете пройти мимо дома, где, как вам известно, отец-злодей избивает до полусмерти сына, но вы ощутите мерзость этого лишь тогда, когда услышите вопли несчастного ребенка. В конце концов наш крик дойдет до слуха всего мира, и, возможно, даже некоторые из наших сегодняшних противников поддержат нас из своих политических соображений.
Из всего, что мы делали в последнее время, самое горькое разочарование принесла нам наша попытка привести в Эрец Исраэль корабль с евреями из Польши. О сборах, о подготовке к отплытию вовсю писали польские газеты. Корабль, наконец, вышел и к празднику Песах подошел к Хайфскому порту. В Хайфе живет 50 000 евреев. Они видели этот корабль, люди с корабля видели Хайфу, гору Кармель, был Песах – праздник освобождения, и в этот самый праздник корабль с несчастными беженцами, уже видевшими на расстоянии вытянутой руки обетованную землю, был отправлен назад... А 50 000 хайфских евреев спокойно взирали на это...
Но я еще не потерял надежды. Не прорвались на сей раз – быть может, сумеют в следующий. Когда вы слышите об «алие Бет», помните о ее огромной политической важности. И об огромной важности этого дела для нас, евреев. Есть смельчаки, взбирающиеся на Монблан. Но идет ли это в какое-нибудь сравнение с нашим национальным спортом? И когда ты прорываешься через все препятствия, разве это только твоя личная победа? Нет! Это шаг вперед всего нашего народа.
Речь на митинге в Варшаве, май 1939; в сб. «Речи».
Сефарды и восточные общины
«В каждой великой нации существует многообразие оттенков, и у каждой из ее частей есть свои, особенные достоинства».
Тот, кому знакома фанатичная преданность Жаботинского идеям равенства, прекрасно понимает, что он не мог умалить ценность какого-либо из колен Израиля, недоброжелательно отозвавшись о нем, или позволить кому-нибудь другому такое, что пробудило бы в нем ощущение своей неполноценности. Жаботинский умел с доброжелательным интересом вглядываться в характерные особенности разных частей нации, не испытывая предубеждения ни к одной из них. Вопреки мнению, распространенному в ашкеназском окружении, среди которого он жил и в котором родился, он находил у сефардов преимущество перед ашкеназами, которое отметил особо:
Если существует переселение душ и если – прежде чем родиться вторично – мне было бы позволено свыше выбирать народ и расу по своему желанию, я бы ответил: «Израиль, но сефардский». Я полюбил сефардов, возможно, именно за те качества, над которыми издеваются их братья ашкеназы: их «поверхностность» я предпочитаю пустопорожней нашей глубине. Их инертность мне гораздо милее нашей склонности гнаться за ускользающими иллюзиями, сменяющими одна другую. Поколения духовной и общественной спячки позволили сефардам сохранить свою душевную свежесть. Что же касается культурного богатства – то неизвестно, что больше приближает человека к порогу цивилизации (западной, ибо запад и цивилизация синонимы) – литр французской или итальянской культуры или тонна русской мистики. В Салониках, Александрии и Каире вы найдете еврейскую интеллигенцию того же уровня, что и в Варшаве и Риге; в Италии – на голову выше, чем в Париже и Вене. Только один единственный недостаток сефардов я готов признать – в том, что касается сионистской деятельности: хотя национальные идеи более распространены среди сефардов, чем у нас, в их сердцах еще не проснулся боевой дух, у них нет «амбиций». Но и это чувство еще пробудится в свой срок.
«Повесть моих дней»; в сб. «Автобиография», стр. 79.
Однако, может быть, это похвальное слово сефардам было не чем иным, как демонстрацией моральных принципов, ущемленных действительными или надуманными фактами дискриминации евреев восточных общин? Может быть, Жаботинский хотел поставить на место евреев ашкеназского происхождения, чтобы те перестали заноситься перед своими братьями? Но это похвальное слово не было «сиротой». Во многих статьях и выступлениях Жаботинского мы находим выражения похвалы в адрес сефардов, йеменских и грузинских евреев – и слова раскаяния перед ними. Жаботинский отстаивал их интересы на сионистских конгрессах и других форумах, вел войну в защиту бесправных общин в израильском обществе. Например, в том факте, что сефарды практически не участвуют в руководстве сионистского движения, он видел несомненный ущерб делу сионизма:
Слова, которые я скажу здесь, являются результатом наблюдений и размышлений последних двух лет, а также времени, прожитого в Стамбуле и Салониках. Эти наблюдения касаются отношения к евреям восточных общин. Отношение это нездоровое, и здесь, в Эрец Исраэль, оно причиняет вред нашим национальным позициям. С одной стороны, терпит ущерб наше движение, почти совершенно лишенное содействия важного еврейского элемента, имеющего много важных преимуществ перед своими ашкеназскими братьями, прежде всего, душевную свежесть – ибо сефарды не страдали, как мы, не гонялись за пустыми звуками, тщетными мечтами, лозунгами чужих культур. Сон на протяжении поколений, хотя и привел к забвению многих приемов духовной борьбы, без которых невозможно победить в борьбе за существование, притупил меч и покрыл его ржавчиной, но одновременно сохранил под слоем пепла живительный напиток, который мы растратили без пользы. Помимо этого, евреи восточных общин знают Восток, его обычаи и языки, и невозможно исчислить ущерб, который мы претерпели из-за того, что не прибегли к их опыту и посредничеству в наших первых шагах на Востоке. И в борьбе за господство иврита как разговорного языка вклад восточного еврейства очень велик. Разве не протестует против влияния жаргона сефард, даже не знающий иврита? И всем этим не воспользовалось наше движение или воспользовалось в совершенно недостаточной мере, понеся немалый ущерб. С другой стороны, ущерб был нанесен и сефардам: они остались беззащитными перед растущим влиянием левантизма, не смогли приобщиться к тому хорошему, что мы принесли с собой с севера и запада.
«Сефарды и выборы» (оригинал на иврите), «ха-Арец», 9.3.1920.
Руководствуясь вышеизложенным, Жаботинский высказывает серьезное обвинение своим ашкеназским братьям, укоряя их в вопиющем непонимании и заносчивости:
Кто виноват? На этот вопрос я готов ответить без малейшего колебания: ашкеназ. Только ашкеназ. Я слышал все оправдания и все привычные жалобы, все эти «невозможно» и «они не хотят» и даже «ты не можешь судить»... Болтовня. Когда пятьдесят лет назад основатели Альянса [*]прибыли в Измир и Стамбул, они нашли там куда более «чужое» окружение, чем мы имеем здесь сегодня. Несмотря на это, они смогли проникнуть в это окружение, повлиять на него, раскрыть ему глаза, вложить в его руку современные орудия труда, новые средства борьбы за существование. Цели Альянса отличаются от наших целей, но жаль, что мы не сумели пойти его путем. И мне понятна причина того, почему основатели Альянса добились успеха там, где мы оказались несостоятельными. Причина этого в том, что они были истинными европейцами, в то время как мы в своем большинстве – выходцы из стран Восточной Европы, которая только наполовину Европа. Полуобразованность, полукультура представляют опасность в любом месте; северный левантизм немногим превосходит своего южного собрата. Французские евреи в свое время прибыли на Восток, воодушевленные тем же духом, который привел британских миссионеров к племенам, населяющим нетронутые земли: они не чванились своим культурным превосходством, а настойчиво стремились к сближению, чтобы работать и учить. Мы, со своими черными косоворотками и ненавистью к галуту, привезли с собой из России, из Галиции нечто подобное извращенному самомнению нувориша, преувеличенный страх, не сочтут ли и нас дикарями,– характерный признак недостатка культуры, отсутствия настоящей уверенности в себе.
Там же.
Жаботинский возражал тем, кто заявлял, что школы, в которых будут совместно обучаться дети из разных общин, решат проблему равенства. Это выглядело так, как если бы сказать: «Вы еще не достойны социального равноправия с нами, но вот ваши дети, следующее поколение – может быть...» Жаботинский предостерегал:
На этом фундаменте не построить здоровых взаимоотношений. Ни одна община, ни одна группа не смирится с мировоззрением, заключенным в подобных словах. Останутся подавленное раздражение, зерна ненависти и обиды, трещина, которая однажды, в час испытаний, может расшириться и образовать брешь в крепостной стене. Но и помимо сказанного, совместное обучение само по себе не способно выполнить тех задач, которые перед ним ставят. Школа – это еще не все воспитание, а только один из его факторов. В Тунисе и Алжире, Баку и Ташкенте еще десятилетие назад обыденным явлением стал тип молодого мусульманина из богатой семьи, обучавшегося в гимназии, колледже или даже в университете. Окончив учебу, он возвращался в свой город, в привычную среду, по прошествии двух лет снимал западную одежду, облачался в халат и войлочные туфли и наконец восседал на ковер, по-турецки скрестив ноги. Так делали его отцы и деды, и вместе с внешними обычаями он возвращался к привычкам и склонностям старшего поколения. Школа возводит и насаждает, но ее власть коротка, юноша вырос и покинул ее. В то же время власть окружающей среды постоянна и продолжительна, и она способна разрушить возведенное и искоренить насаженное школой. Общее окружение, общая среда – это не менее важно, чем общая школа.
Там же.
Однако то, к чему Жаботинский обращает свои помыслы,– не уравниловка, а подлинное равенство. Тот, кто хочет видеть в саду человечества наибольшее разнообразие плодов – наций, должен, естественно, уметь ценить каждую традиционную особенность, специфический эмоциональный строй, присущий различным частям нации, должен противиться любой попытке затушевать это разнообразие, произвольно смешать цвета и оттенки:
Те, кто знают, что я требовал взаимного сближения между сефардами и ашкеназами, возможно, будут удивлены, когда я скажу им, что я не стремлюсь – разве только в самом отдаленном будущем – к созданию некоего обобщенного еврейского типа. В каждой великой нации существует многообразие оттенков, у каждой из ее частей есть особые, только ей присущие достоинства, и их, по моему мнению, необходимо развивать, не смешивая сотворенное «по роду своему» в общем котле. Я не хочу сейчас углубляться в психологические различия между общинами, однако я вижу и чувствую, что есть в сефардской лире звуки, которых лишен ашкеназский рояль, и наоборот. Может быть, между нами существует небольшое расовое различие, или это только следствие того, что множество поколений жили в разном историческом окружении, и кровь здесь ни при чем – но ашкеназ вышел из северного гетто вооруженный большей энергией, остротой и настойчивостью, чем его братья из других общин, в то время как сефарду из Салоник присущи физическое и духовное здоровье, спокойствие и внутренняя уверенность, взгляд, способный отчетливо различать цель,– все то, чего так не хватает выходцам из России и Галиции, торопливым, раздражительным, без конца разбрасывающимся. Мы надеемся, что с течением времени ашкеназы сумеют освободиться от этих недостатков, так же, как и сефарды – от своих. Но я не вижу смысла в искусственном смешении, от которого обе общины не получат никакого преимущества, а наоборот, пострадают. Более того, в самой ашкеназской среде тоже имеются непохожие друг на друга оттенки национального характера: остроумный и резкий литвак, склонный к анализу скептик; южанин, более оживленный, естественный, чуточку «гоишер коп», фантазер, деятель и строитель, не любящий вдаваться в казуистику; «поляк», более рафинированный в своих чувствах, богатый душевным лиризмом и честолюбием – источником всех стремлений. Мне кажется, что и эти типы не надо смешивать. Напротив, мы только выиграем, если будет взаимно дополнять друг друга. Это же относится к йеменскому еврейству, новому, еще не изученному явлению, обещающему быть очень интересным и, может быть,– кто знает – богато одаренным. Мы еще не знаем, что из нас выйдет – может быть, гениальный народ, а может быть – раса глупцов. На что похожа нация? Это большой оркестр, где есть своя партия для флейты и своя – для арфы.
Опубликовано Всемирным объединением восточных евреев, «Херут», 25.10.1932.
Жаботинский побуждал сефардов к внутренней организации и настаивал, чтобы они не отказывались от объединения даже перед лицом обвинения в сепаратизме, боролись за свою роль и влияние в еврейском общества. Однако —
...Однако есть два аспекта, о которых восточное еврейство не должно забывать в своей борьбе. Первое – что это братская борьба, а не борьба между братьями. И второе – во всякой общественной борьбе самое главное, необходимое и способствующее успеху оружие – это самоусовершенствование, внутренняя подготовка, предшествующая восхождению. Было бы хорошо, если бы и ашкеназы не забывали об этих двух принципах.
Там же.
Иврит
«Иврит, иврит и еще раз иврит».
Жаботинский с самого начала осознал историческую необходимость возрождения иврита как разговорного и литературного языка всего народа. В 1903 году он писал:
Нас упрекают в мечтательстве и романтизме, нам говорят, будто мы ведем свою национальную проповедь из какой-то эстетической прихоти – потому, что нам нравитсяеврейская культура и еврейский язык. Да, не спорю, нравится, но не в том дело. Если бы еврейская культура была еще ниже клевет Лютостанского [*], если бы еврейский язык был хуже скрипа немазанной телеги, то и тогда возвращение к этойкультуре через посредство этогоязыка было бы для нас совершенно непреодолимой реальной потребностью, от неудовлетворения которой мы реально страдаем,– было бы властной исторической необходимостью. Нас национализирует сама история, и тех, кто ей противится, она тоже рано или поздно повлечет за собою. Но они поплетутся тогда за нею в хвосте, как связанные пленники за колесницей покорителя. Благо тому, кто вовремя поймет ее дух и пойдет в первых рядах ее победоносного течения.
«О национальном воспитании», «Фельетоны», 1913.
Жаботинский был среди первых пропагандистов иврита в России, где жили миллионы евреев. Он считал, что недостаточно просто изучать язык, он настаивал на необходимости учреждения школ, в которых иврит был бы языком преподавания. Он изъездил с лекциями на эту тему всю Россию вдоль и поперек. Вот конспект одной из таких лекций – «Иврит – язык просвещения»:
Как я уже говорил, нынешнее поколение национально мыслящих евреев настроено «еретически» по отношению ко многим святыням своих отцов. Ибо многие и многие из моих сверстников выросли в ассимилированном окружении. Родители учили их ощущать себя русскими, учитель прививал им любовь к «нашему» Пушкину, к «нашей» русской речи. Но настал душевный кризис, они пришли к осознанию правды, поняли, кто они, и с великим трудом и великими муками вырвали они из сердца чужое национальное самосознание, растоптали ростки, посаженные их родителями и учителями. Некоторые даже прониклись отвращением к чужой культуре, в которой они были воспитаны с детства... Как бы там ни было, мои сверстники осознали: они связаны крепко-накрепко со своим народом – они стали евреями-националистами. Но при этом железными цепями прикованы они к чужой культуре. Сам строй их мыслей сформирован под ее влиянием, и по сей день пьют они из ее источников. Когда запросит их душа той неизъяснимой радости, которую приносит ей чтение, рука их непроизвольно тянется к полке, на которой стоят книги на чужом языке, и проникает в их души этот язык снова и снова, и мысли на этом языке, и сам дух этого языка... Ибо взгляды изменились, пришла новая вера, кто-то из поклонника превратился в хулителя, сменилась вся шкала ценностей, но язык, язык, которым отравили меня мои учителя,– он всемогущ и всепроникающ!
И именно такой неразрывной связью, именно таким «ядом», не знающим противоядия, мы должны привязать наших детей к еврейскому народу, «отравить» сами души их. В еврейском образовании язык – это главное, а содержание – внешняя оболочка. Я вовсе не отрицаю важности содержания – приобщения к духовным ценностям еврейского народа. Наоборот, это исключительно важно и без этого еврейское образование не может быть полноценным. Но связь, связь неразрывная, связь, которая выдержит любые испытания временем и обстоятельствами, которая навеки соединяет со своим народом,– это язык– язык, на котором мы приучены думать и выражать свои мысли и чувства.
Понятно, в диаспоре мы не сможем достичь этого идеала, мы можем к нему лишь приблизиться, и само это приближение потребует огромных усилий, тяжелой работы, запутанной сети различных учреждений и бесконечных сложностей. Я не утверждаю, что мы должны взять эту лестницу наскоком. Но я утверждаю, что мы обязаны начать ее строить, построить ее первую, самую важную ступень – национальную школу.
«Язык просвещения»; в сб. «Диаспора и ассимиляция».
Жаботинский, воспитанный русскоязычной культурой, прилагал огромные усилия, чтобы максимально приблизиться, освоить культуру иврита, сделать ее своей. Он достиг в этом поразительных успехов, он научился виртуозно использовать богатейшие выразительные средства иврита. На этом языке он убеждал и других:
Я не вижу никакого выхода для всех нас, кроме немедленного обращения к тем мелким делам, о которых мы с таким энтузиазмом забыли в Гельсингфорсе. К таким мелочам, как вечерние классы, школы, гимнастические общества (sic) и, самое главное,– иврит, иврит и еще раз иврит. Мне кажется, ты немножечко хасид жаргона. Я не буду вступать с тобой в полемику в частном письме, но хочу, чтобы ты знал одно: если здесь станет известно, что на знамени евреев России не написано гигантскими буквами «ИВРИТ»,– это будет огромным препятствием на нашем пути. И еще – во время моей последней поездки в Россию у меня создалось впечатление, что единственное дело, вокруг которого еще теплятся искорки энтузиазма,– это изучение иврита. Но надо заниматься не разговорами, а, как это у нас заведено, делом: собирать людей, находить средства, ремонтировать классы и всерьез браться за обучение...
Мне будет очень обидно за тебя и за всех нас, если вы не примете всерьез эти пожелания.
Письмо И. Гринбойму, Константинополь, 1909.
Но многие не хотели серьезно относиться к призывам Жаботинского внедрять иврит во все сферы жизни еврейского народа. Жаботинский вспоминал насмешливую реакцию на его предложение учредить ивритские школы на конференции сионистов России в 1913 году. Раздавались выкрики: «Глупость!», «Детский лепет!», «Прожектерство!», «Что вы понимаете в педагогике?» и т. д. И Жаботинский с горечью пишет: «И снова с тобой несогласны (хотя уму непостижимо, как можно быть несогласным и тут!), более того – ты помеха, обуза...» («О чем рассказывает пишущая машинка», «дер Момент», 18.11.1931). Но Жаботинский не сдавался и не упускал случая подчеркнуть важность внедрения иврита. На конференции общества «Тарбут» («Культура») в Варшаве в 1928 году он сказал:
Есть в евреях нечто, что может нам помочь. Несмотря ни на что, им присуща тоска по языку, на котором они могли бы выражать свои, еврейские мысли и чувства, чувства неуловимые, неопределимые, как неопределимы цвета и музыкальные звуки.
Есть новое течение в психологии, утверждающее, что любые эмоции живого организма зарождаются органом, их выражающим. В сердце человека скрыто огромное духовное богатство, оно существует само по себе, даже если нет еще для него выразительных средств. Не инстинкты создают органы чувств, а органы чувств вырабатывают инстинкты. Согласно этой теории, язык предшествует мысли. Не знаю, насколько правильна эта теория, но ясно одно: мы должны найти средства выражения, адекватные нашим национальным чувствам. Средства выражения создадут содержание.
«Ха-Арец», 8.1.1928.
В ивритской газете «ха-Цфира» («Гудок»), издававшейся в Варшаве, Жаботинский опубликовал статью, в которой говорится о важности иврита для успеха дела сионизма, для возрождения еврейского государства: